Книга печатается в авторской редакции.

Эдуард Лимонов
Книга мёртвых 5:
Партия мёртвых
// Санкт-Петербург: «Лимбус Пресс», 2020,
твёрдый переплёт, 160 стр., иллюстрации,
тираж: 2.000 экз.,
ISBN: 978-5-8370-0747-7,
размер: 207⨉134⨉14 мм
В своей очередной «Книге мёртвых» Эдуард Лимонов продолжает список покойников, удостоенных его внимания. В новый мартиролог попали Александр Галич, Андрей Битов, Иосиф Кобзон, Станислав Говорухин, Николай Караченцов и многие другие. Нарушая заповеди политкорректности и табу древних (о мёртвых — или хорошо, или ничего), он не имеет снисхождения к ушедшим, вынося им приговор так, как судил бы живых. Память Лимонова хранит либо «горячих», либо «холодных» — для «тёплых» этот ковчег не предусмотрен.

Пятая книга о мёртвых
По всей вероятности, это моя последняя книга мёртвых, потому что я уже давно болею. Не то чтобы я лежал в постели, с повязками на лбу, которые постоянно меняют, не воображайте. Не воображайте меня и Маратом, сидящим в вонючей ванне.
Я болен по-современному, чистенько, мозги отлично варят, резкость мысли необычайная, встаю в 06 утра, а то и раньше…
Отнесусь же серьёзно к моему, что называется, бизнесу народного некрологиста («окулист» можно, почему же «некрологист» нельзя?). Поскольку я уже и сам как Нестор какой-нибудь: и стар, и, видимо, отправлюсь к тем, о которых написал. Итого, вот вам пятая книга мёртвых, она о тех людях, которые жили на земле со мной в одно время, наиболее близкие мне почему-то скончались уже довольно давно и остались те, кого я мало знал. Ну, удовольствуйтесь хотя бы ими. Пусть я и мало с ними встречался. Зато я честный, и от меня вы услышите то, о чём вам никогда не сказали бы другие, что называется, мемуаристы…
На здоровье.
Человек, видимо, только личинка какого-то другого духа, искры Божьей. Только переходное состояние, так я догадываюсь.
* * *
Моя догадка такая.
В момент смерти всё существо человека стягивается в одну ничтожную точку (такой была Вселенная до момента Большого взрыва), и всё.
Это возвращение.
Что касается тела, то это наиболее ненужная оболочка, куда денется, туда и денется. В некоторых культурах тело сжигали, в некоторых — предавали земле. Это не имеет ровным счётом никакого значения (я имею в виду способ избавления от тела). Тем более, избавляется не сам его владелец — человек, но его родственники или близкие. Или организации.
Таким образом, смерть — это возвращение.
Там — собственно, ничего хорошего. Но и ничего плохого. Скорее, там регресс, потому что наверняка меньше разнообразия.
*
Я представляю свою мать, она там уже одиннадцать лет в виде серого мотылька, порхающего в мирах, но это я льщу моей матери. Она там — скорее серая точка. Среди других серых точек. Серый блик.
Представлять, что там интереснее,— довольно глупо. Такое впечатление, что там место хранения. Как склад. И там отбирают для следующего этапа.
Как-то так… Представить, какой следующий — мне не по силам. Я и так уже многое увидел, представив. Разгадал — представив.
* * *
Люди выходят из жизни такими возрастными кассетами.
Говорят «поколение».
Говорят «колено Израилево», «двенадцать колен».
Что в этом «поколении» те, чьи колени вырастали от младенческого до взрослого и затем старого размера в одно время? Видимо, так.
Плечи и задницы не эталоны. Они могут развиваться по-разному. У одного плечи вырастут широкие, у иного — узкие. С задницами ещё больший разброд.
А вот колени — часть общего вырастания.
Мы — поколение, у которого колени росли в одно время?
Что-то около этого.
Если не убили на войне, то от естественных причин (старение, износ деталей тела) все изнемогают более или менее в одно время.
В этом томе мёртвых — те, кто изнемог в последние год-два-три.
* * *
Перечитывая свои заметки о мёртвых, прихожу вот к каким выводам.
НУЖНО ЖИТЬ БЫСТРЕЕ — с самого начала, сразу, быстро и энергично. Решения принимать быстрее. Не задерживаться надолго близ близких людей.
ЭГОИЗМ, ОДИНОЧЕСТВО — вот основные принципы, которые должны быть положены в основу жизни.
Особенно не следует тратить годы на разгадку загадки женщин, загадки на самом деле нет. «Своим искусом губит человека, что, может статься, никакой от века загадки нет и не было у ней…» Это Тютчев о природе, которая сфинкс. Но для «партнёра» (так сейчас пишут и говорят) тоже годится.
Загадки нет, и не было у ней.
Зачем я потратил 13 лет на понимание этой женщины Н. М.? Мог бы понять её за три года. А десять разделить либо между ещё женщинами, двумя, тремя, четырьмя наконец… С 1988 по 1995 она мне ничего нового не показала.
Страдающая неуверенностью она была.
* * *
Смерть на самом деле относится к категории времени. А чего странного в категории времени? Да ничего.
*
Спокойно течёт ведь время. И не можешь ты знать, насколько ты меньше прожил времени, ведь у всех протяжённость времени разная. И от какого момента отсчитывать?..
Так что… Ясно, что прыжок в неизвестное — такого опыта ни у кого нет.
Прыжок в новый вид существования.
Старые мёртвые
Галич (денди)
Я с ним как-то выступал. У Кабакова в мастерской. Я в первом отделении читал стихи. Он во втором играл на гитаре и пел.
Кто там был, на том вечере, тот помнит, конечно, если не умер. Потому что многие уже покинули наш мир. Кажется, там был художник Бачурин. Сам Кабаков был, конечно же.
По воспоминаниям сотрудника КГБ в передаче дочери Галича Алёны (они опубликованы), только «ваш отец Александр Галич и этот дурачок, как его, Лимонов, отказались с нами сотрудничать, а так все сотрудничали». Вся, то есть, творческая, что называется, интеллигенция.
*
Галич умер совсем рано, в 1977 году, в декабре, в Париже, нелепой смертью, как-то связанной с электричеством и водой. Возможно, транзистор упал в ванную, где он сидел. Я уж не помню точно, как-то так. Было ему всего 59 лет, когда он умер.
Мне было не до него, когда я стал писать свои «Книги мёртвых», первую стал писать в 2000 году, уже тогда его смерть, случившаяся за 23 года до этого, была мне далека. И в первой «Книге мёртвых» его нет. Нет и в последующих.
Но вот я о нём вспомнил. Чёрт знает почему. Возможно, мне не хватает этого скорее элегантного высокого Фауста в коллекции моих мёртвых. Есть Жан Марэ, конечно же, неожиданно лёгкий, элегантный и воздушный. Но Марэ француз, ему сам Бог велел.
Галич тогда пришёл в сопровождении как минимум одной женщины из светского общества. Тогда «женщины из общества» все сплошь были жёнами либо дочерьми партийных бонз. Сдержанные, скорее хорошо воспитанные, дорого и со вкусом одетые в консервативные одежды, спутницы Галича (я видел, по правде говоря, одну такую, но почему-то я уверен, что и все предыдущие и последующие были того же типа). Известный советский драматург и сам принадлежал к светскому советскому обществу, кой дьявол его дёрнул уйти от их и прибиться к нам, эстетической, если не политической, оппозиции, не знаю. Скорее всего, Галич увлёкся оттепелью, её фрондёрским духом конфронтации, конфликта, а когда оттепель закончилась, не пожелал, чтобы его новообретённые свободы закончились, втянулся, что называется. Возвращаться в прежнее состояние не захотел. Спустя полсотни лет то же состояние переживут, повторяя его, болотные Илья Пономарёв или там отец и сын Гудковы. Будут предаваться и предадутся греху гордыни.
Высокий, обаятельный. С гитарой, выставив одно колено и «облокотив», что называется, на него гитару, он бархатным голосом выливал в кабаковскую мастерскую свои антисоветские баллады:
«А жена моя, товарищ Парамонова,
в это время находилась за границею…»
Склеивал в удовольствии глазки свои бердянский Илюша Кабаков, лепилась у ног его тогдашняя его подруга, жена Носика — Вика Носик, потом у неё был сын, компьютерный деятель Антон Носик (уже успел умереть…).
«Он король и маг порока»,— думал я, перенося взгляд с шёлковых чёрных носков Галича к раскрасневшейся физиономии его дамы…
Мой отец говорил мне: «Учись играть на гитаре — девки любить будут». Отец мой чудесно, профессионально играл на гитаре, и его таки любили девки. А Галича любили светские дамы.
Я ему даже немного позавидовал. Не его деньгам знаменитого драматурга, но вот этой его светской даме.
Вероятно, он завидовал мне, молодому парню поэту, только что отчитавшему оригинальные стихи, в которых он, человек искусства, не мог не заметить таланта.
Господь срезал его под корень в 59 лет. Вероятно, он уже был не нужен.
Первый доисторический нацбол Питера: Сорокин
Это были такие древние времена, как Древней Греции времена, Перикла или Фемистокла.
Как-то он со мной связался, этот человек, известный мне тогда под именем Слава и под фамилией Сорокин.
Совсем недавно, пытаясь выяснить детали, я послал своего человека, мощного нацбола Сида на улицу Росси в Петербурге. Сид по профессии скульптор, каменотёс и строитель, может быть, не сумел выведать мне нужные мне сведения, недостаточно хитёр, однако то, что он принёс мне, меня совсем обескуражило.
Во-первых, никакой Слава Сорокин, густоусый, хромающий мужик лет сорока пяти, у них никогда в школе имени Вагановой не работал. Ни фотографом, ни помощником ректора школы Леонида Надирова. Нет, не работал, не было таких.
Ну как же не работал? У него была комната под самой крышей, оборудованная как фотостудия. Что этот человек лишь представлялся Сорокиным, а на самом деле скрывал от меня свою настоящую фамилию, мне и в голову не пришло. И сейчас не допускаю этого. Надиров же не скрывал? Помню разговор со мной в кабинете Надирова, присутствовали Надиров, я, мой товарищ Тарас Рабко (вот кто мог бы детализировать для меня личность первого питерского нацбола, но Рабко прервал с партией и со мной все контакты), тот, кого звали «Слава Сорокин», и подручная женщина Надирова, то ли зам его, то ли бухгалтер.
Обсуждалось как мы можем помочь Надирову. Сейчас, глядя из будущего в то давно прошедшее древнее время, я кое-что понимаю, в чём был интерес Надирова в знакомстве со мной. Нет, не идеи партии привлекли Надирова, а, я полагаю, репутация партии юных отморозков. В те годы у школы (ещё не Академии Вагановой) некие силы пытались отнять здание — исторический памятник архитектора Росси. На улице Росси.
И его помощнику «Сорокину», вероятно, пришла в голову совершенно безумная идея, что коллектив радикальной партии отморозков сможет противостоять тем силам, которые пытались у них отнять исторический памятник.
Это, конечно же, надо было быть лунатиками, чтобы всерьёз верить в этакое предположение! Возможно, впрочем, что «Сорокин» не верил в могущество НБП, но хотел нас как-то привлечь, соединить с Надировым.
«Слава Сорокин» этот был всерьёз влюблён в моё творчество. К тому же он был женат на женщине, как он мне говорил, «вторая Елена», полностью идентичной Елене из моей книги «Это я, Эдичка!». Я её никогда не встретил, его «Елену».
Надиров, будущий 1-й заместитель министра культуры, как он-то поверил в такую глупость, что мы, нацболы, сможем защитить его исторический памятник от захвата врагами?
Ну вот как-то так всё было.
Сорокин был низкоросл, коренаст, густоус, подхрамывал, вечно прицеливался в нас фотоаппаратом.
Он вскоре покончил с собой. Впрочем, в этой истории уже не знаешь, чему и верить, и вдруг он не покончил с собой?
В довершение таинственности этой фигуры, Сорокин ещё был первооткрывателем некой китайской пиктограммы, ксерокс-копии её были обильно разбросаны у него в комнате на улице Росси. И мне он дал какое-то количество этой китайской древней пиктограммы, как крышка от кастрюли. Сорокин утверждал, что древние китайцы за несколько тысячелетий до современности заложили в пиктограмму все последующие знания, открытые человечеством, в том числе и теорию относительности Эйнштейна. И квантовую механику, и, если не ошибаюсь, даже теорию струн.
Пиктограмма была известна людям, у всех на глазах провела несколько тысяч лет, но вот только он, Сорокин, сумел прочитать её…
Пиздец, конечно.
Жить Сорокин привёл нас на Фонтанку, в гостевую квартиру школы Вагановой, номер дома не помню, дверь, окружённая помойками, открывалась в странную питерскую квартиру о двух этажах. Салон на первом, спальные комнаты на втором.
Питаться мы ходили в здание Академии, академия же была интернат, покупали там за смешные воробьиные деньги котлетки и кушали их среди крошечных будущих балерин.
Балерины сидели тихенькие, они издавали такой гомон, какой издают в тени леса маленькие птички…
Наша гостевая квартира сразу за углом, только свернуть на Фонтанку, была всем хороша, просторная, о двух этажах внутри, сама как театральная сцена, но там не было телефона, а в ту пору о мобильных ещё никто и не слышал.
И вот февраль, уже 2019 года, и пишу я книгу об умерших, и вспомнил я ницшеподобного Сорокина, а его, оказывается, и не было в России, и не служило. Но не приснился же он мне, этот густоусый? Я же был у него в его лаборатории под крышей там, на Росси. И они с Надировым водили меня по школе, показали зал, где занимался Нуриев Рудольф, и у входа в зал Тарас Рабко (я думаю, что это был Тарас) сфотографировал меня с двумя небольшими сёстрами-близняшками балеринами, у меня есть эта фотография.
Кто-то мне давал телефон Надирова, он, оказывается, живёт в Москве, давно в отставке, ему 79 лет.
Я набирал Надирова, но никто не ответил мне. Подумав, я отнёс не-ответ мне по телефону к особенности моего номера, он у меня скрыт, когда я набираю чей-то номер, то мой номер не высвечивается. Сколько угодно есть в России людей, которые не отвечают на анонимные звонки. Может, и Надиров такой?
Может. Я вспомнил, что однажды мы с Надировым, разгорячённые водкой, решительно ввалились к его арендаторам — огромные мужики поднялись нам навстречу — и с матом наехали на них, требуя убираться из помещения. Нас, видимо, испугались, потасовки не последовало… У Надирова может быть до сих пор много врагов. И друзья у него тоже небезопасные. Помню, он познакомил меня с директором Мариинского театра. Но пока я закончил свои приключения в Питере и доехал до Москвы, увидел по телеящику, как этого директора арестовывают.
Надиров побывал первым замминистра культуры, но, может, у него до сих пор остались опасные связи, почём я знаю?
Моя задача какая? Найти либо фотографию «Сорокина» — первого нацбола Петербурга, либо добыть какие-то дополнительные сведения о нём.
И тут, повспоминав театральную квартиру на Фонтанке, я вспомнил, что туда, когда я ещё раз там останавливался, приходил как-то молодой член партии Русское Национальное Единство, поэт… Медленно, но я вспомнил, что в тот раз, когда он приходил, я помню, со мною в квартире на Фонтанке останавливался Дугин. А вот был ли с нами Рабко, не помню.
Вдруг я вспомнил, что у поэта из РНЕ был псевдоним «Пепел», потом его товарищи по партии, пеняя ему на то, что «Пепел» звучит не оптимистично, уговорили его сменить псевдоним на «Сполох». Сполох потом работал в питерской газете. Как её — не помню, газету закрыли…
И вдруг,— бац,— я вспомнил фамилию поэта РНЕ: Качнов. Конечно же. Слава Качнов.
К вечеру питерские активисты «Другой России» нашли мне электронный адрес Качнова, и я ему написал.
Он ответил так охотно и утвердительно, что всё знает и помнит. Впоследствии оказалось, что не знает и не помнит.
И как выглядел Сорокин, не помнит. Он прислал мне фотку, где первые нацболы Питера, Дугин, я и Качнов стоим в питерском дворе, возможно, том же самом, и задал мне вопрос: «Нет ли на снимке Сорокина?..»
Обменялись письмами. Но воз и ныне там.
Так я и остался со своими смутными воспоминаниями о хромом густоусом ницшеанце.
Ну и с фотоснимком, где я в кожаном пиджаке, купленном ещё на блошином рынке в Париже, стою между двух сестёр-близняшек балерин, а они одинаково одеты. В дверях зала, где учился танцевать великий Рудольф Нуриев.
*
Впоследствии, однако, Данила отыскал в своём архиве фотоплёнку из старых времён, полуразрушенную временем. Данила сумел её восстановить. И вот он, Сорокин, шествует со мной по улицам Петербурга, таинственный, как и тогда.
Жан Марэ
Ну я его видел ещё в СССР, когда прошла по экранам серия французских фильмов «Фантомас».
Стены улиц российских городов тогда пацаны, чуткие всегда на символы эпохи, покрыли надписями (кириллицей, впрочем): «ФАНТОМАС», «ЗДЕСЬ БЫЛ ФАНТОМАС!», «ФАНТОМАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ!»
Ловкий, прытко и красиво убегающий от погони, натягивающий маски своих преследователей, Жан Марэ [Jean Marais], по слухам, был любовником Жана Кокто [Jean Cocteau], и живущему в СССР молодому человеку было трудно во всех этих Жанах разобраться.
С первой я, впрочем, познакомился с его партнёршей — с актрисой Милен Демонжо [Mylène Demongeot]. Есть фотография — располневшая и постаревшая актриса в облезлой шубке с сигареткой, правый анархист писатель Лео Мале [Léo Malet], и я, молодой русский, прилетевший из Нью-Йорка покорять Париж, стоим сфотографированные, я предполагаю — на коктейле издательства «Albin-Michel» [Éditions Albin Michel]. Вероятнее всего, мы вышли во двор или на улицу и этим объясняется облезлая шубка Милен де Монжо (вот, я даже не знаю, как правильно писать её фамилию).
Сам Жан Марэ появился в моей жизни гораздо позже, скорее всего, это был 1995 год, я уже обитал в Москве, но прилетел в Париж по приглашению моего бывшего босса [Jean-Edern Hallier] в «L’Idiot International» для участия в телепередаче, ведущим которой тогда мой бывший босс подвизался. Вот там я и встретил Жана Марэ. Худенький, лёгкий, в чёрном костюме, чёрный свитер, узкие брюки, серебряные волосы — Жан Марэ произвёл на меня впечатление такого Парижского Дьявола, грациозный, балетный какой-то, строгий, умный и изящный настолько, что я пожелал себе такой старости.
Ну-ка пройду я с кухни, где я пишу, поглядывая в окно, пройду я в свой кабинет, он же living room, гостиная, где у меня компьютер, и осведомлюсь скорее о датах жизни Жана Марэ.
Выяснил. Родился он в декабре 1913 года в Шербуре. Это там, где база французского флота, и в этом же городе происходит действие фильма «Шербурские зонтики» (фильм другой эпохи, Марэ там не играет). А умер он 8 ноября 1998 года в кинематографических Каннах. Всё хорошо, прекрасная маркиза.
Из биографии Жана Марэ я выяснил, что по-французски его фамилия [Villain-Marais] пишется как название квартала в Париже, где я снимал три основные квартиры моей парижской жизни — Marais; что он отбросил от своей фамилии частицу Villain, поскольку с французского Villain переводится как «злодей» (по-моему, «злодей» всё-таки с одним «L»). Что рост у Марэ был 182 сантиметра, во что я не поверил, поскольку, когда я участвовал с ним в одной телепередаче, мне виделось, что мы с ним одного роста (ну, правда, может, он усох в старости).
Там, в асфальтовом дворе телестудии, стоял вагончик, где можно было переодеться и могли тебя замаскировать, в том вагончике мы поговорили с Марэ, а вот о чём, я не помню, а выдумывать не стану.
Более всего я был очарован его грациозной, летящей фигурой изящного парижского дьявола. И слова, может быть, затмевала его фигура. И её изящество, и ловкость.
Демонжо, я увидел, пишется с большой буквы «Д» и слитно. Она рождения 1935 года, и если я встретил её, а по-видимому, так и было, на коктейле в «Albin-Michel» где-то в 1985 году, то ей было лет пятьдесят. Но женщины расплываются и растрескиваются раньше мужчин. Меня тогда поразило, насколько она не соответствует юной свежести невесты журналиста Фандора в «Фантомасе». Тогда в зале «Albin-Michel» я впервые услышал отвратительный скрип, вращающегося с планетой на оси, времени.
На передаче вместе со мной и Жаном Марэ присутствовал, я помню, ирландский писатель [Seamus Heaney], получивший в том году, по-моему, не то Нобелевскую, не то Гонкуровскую премию по литературе. Он был хорош, хорошо говорил, и Марэ хорошо говорил, остроумно, все хохотали. Я выступил плохо.
* * *
Основным любовником Жана Марэ был Жан Кокто. Жана Кокто я не знал, поскольку приехал в Paris в мае 1980 года, а Кокто умер 11 октября 1963 года.
Вне сомнения, Жан Марэ многому научился в области культуры у Кокто. Есть фотография, где они в домашнем виде, Кокто худенький, чёрный шарф на шее, белый махровый халат, а молодой культурист Жан Марэ с обожанием смотрит снизу вверх на Кокто.
Я, обитатель Салтовского посёлка, приземлившийся в Paris случайно, уже в 37 лет, долгое время не считал себя знающим и имеющим культурный багаж. Только оказавшись в тюрьме, я понял, что да, ко мне за мою жизнь налипли многие тысячи кусков искусства.
Однако мне тоже есть сейчас что вспомнить. Вот Жан Марэ в чёрном свитере и чёрном костюме, лёгкий, как пушинка, французский дьявол.
Приморский партизан
Главный мёртвый этой книги не писатель и не рок-звезда. Это парень из города Уссурийска, что в Приморском крае,— Андрей Сухорада.
Проведу параллель. Параллельный случай.
Помню, нас разводили в Белом Доме (в Доме Советов; первая ночь восстания в 1993 году, сентябрь) по постам генералы. Двое. Добровольцев в первую ночь было кот наплакал.
Узнав, что я воевал в Сербском анклаве в Книнской Крайне ещё зимой-весной 1993 года, генералы меня тотчас назначили командиром поста №1 (выходил он на Москву-реку). Хотя помимо хромого парня, отслужившего в армии в СССР, в составе поста были два милиционера, а я даже не служил в Советской Армии. Мой опыт, да ещё и свежий, генералам был предпочтительнее.
Вот то же случилось и с Сухорадой. Сухорада — единственный из приморских, кто имел политический опыт, потому понятно, что он стал среди его товарищей основным партизаном.
Он ведь проучился в школе НБП, в бункере, свыше года. Зима и весь 2003 год, и весь (до лета) 2004-й.
Всё, что Сухорада знал из политики, он вынес от нас. А среди своих товарищей он один ездил в Москву и жил в политической партии.
Поэтому он и стал ведущим.
Этот парень, заслуживает отдельной книги, но я о нём слишком мало знаю. Воссоздать его образ могли бы воспоминания нацболов — эпизоды его жизни.
Он, несомненно, продолжил наше неудавшееся восстание на Алтае — удавшимся, но смертельным.
*
Андрей Сухорада по-своему продолжил унесённое им из Москвы новое знание.
По сути, он явился единственным среди «приморских партизан», кто обладал политическим опытом.
Этот опыт проглядывает и в поведении «приморских партизан», и в теории. Так, свой замеченный многими наблюдателями «исламизм», конечно же, принёс на подошвах своих ботинок Сухорада из поездки в Москву, где он прожил с зимы 2003 до лета 2004 года. Партия тогда обзавелась своими мусульманами, во главе партийных мусульман стоял парень по имени Павел, переименовавший себя в Ахмеда.
Среди девушек выделялась «Доррисон», впоследствии побывавшая в секретаршах у Гейдара Джемаля, а сейчас она где-то в дебрях Дагестана мужняя жена.
В качестве основы, печи, от которой будем писать, предлагаю мой давний текст «Во второй раз Че Гевара не спас», опубликованный в журнале GQ, а потом в книге под названием «Апология Чукчей», опубликованной издательством «ACT» в 2013 году. Лучше об этом эпизоде встречи с Сухорадой в бункере партии я всё равно уже не напишу, память начинает слабеть, что нормально в 76-то лет.
Второй раз Че Гевара не спас
Когда я, как подобает серьёзному русскому писателю, вышел на свободу летом 2003 года, я поехал прямо с вокзала в бункер. Я вообще-то, сидя за решёткой, почему-то думал, что бункер у нас давно отобрали, оказалось, нет, не отобрали. Но беспокоили всё время, делали набеги на нас постоянно. Обыкновенно набеги совершались сборными бригадами разных полицейско-спецслужбических сил.
В тот раз они также нагрянули во всём своём многообразии… Однако, прежде чем рассказать историю, я должен объяснить, что такое был наш бункер. Видимо, сразу же понятно, что это помещение под землёй, подвал. Я получил помещение в феврале 1995 года по повелению мэра Лужкова, теперь он не мэр, и при содействии г-на О. Толкачёва, по-моему, он до сих пор сенатор.
Старые ребята эти представить себе не могли, что там у нас будет. Тогда моя репутация не была ещё однозначной, я написал письмо мэру, просил оказать содействие в аренде помещения под редакцию газеты «Лимонка», а также издательство «Арктогея». К моему удивлению, мне ответили, меня принял Толкачёв, и помещение нам подыскали. Ну да, мы приспособили подвал для приёма тиража газеты, но редактировал я её в своей квартире.
А подвал, чуть отремонтировав его и пробив отдельную дверь, мы превратили в сквот, в штаб, в приют для бездомных подростков, в избу-читальню, в коммуну, в университет крамольных идей и мыслей. Через бункер за те девять лет, что мы там продержались, прошли десятки тысяч молодых людей. Не все они остались в политике, некоторые эволюционировали даже в наших врагов, но вообще же бункер подготовил для России кадры несгибаемых революционеров, и если не все они ещё себя показали таковыми, то ещё покажут. Кроме жарких политических дискуссий в бункере: читали книги, варили каши, стирали, принимали ходоков со всей России, влюблялись и, как утверждают наши недоброжелатели, даже совокуплялись. В бункере устраивались выставки, перформансы и рок-концерты. Крайне левые встречались в бункере с крайне правыми и убеждались, как они похожи. В бункере молились на Че Гевару, спорили о Муссолини, запрещённые герои человечества были героями бункера.
Так вот, в тот раз они нагрянули во всем своём многообразии. Опера в шапочках, милиционеры в форме, типчик с усиками представил удостоверение на имя полковника ФСБ Крутова или Кротова. Я отметил, что с такими лицами, как у него, в советских фильмах расхаживали провокаторы.
Когда они ввалились, топоча своими мокрыми сапожищами, мы заканчивали распределять пачки с газетой. Кому на какой вокзал ехать, ведь газету мы распространяли через проводников. Обычно газета уезжала в 80 или более городов. Распределяли мы газету в самом большом помещении бункера, в зале метров под 30. Ворвавшись в бункер, они сразу и попали в этот зал. Вместе с ними ворвался зимний промозглый ветер, они принесли с собой на обуви грязь и слякоть. Этот Крутов или Кротов отыскал меня и сообщил, что у них есть сведения, что в бункере находятся вооружённые люди. Прохожие, дескать, видели у окна.
Я поморщился и сообщил ему, что этот же предлог они используют снова и снова на протяжении множества лет. Что окна у нас так глубоко, что в них с улицы не заглянешь. Крутов-Кротов сунул мне под нос бумагу, судья такая-то постановила, что такие-то произведут обыск в помещении по адресу 2-я Фрунзенская. Они рассыпались по комнатам, выводя оттуда взятых в плен ребят и девушек. Так как бункер всегда был, что называется, «проходным двором» России, то в течение часа, пока они рылись во всех 376 квадратных метрах бункера, в бункер пришли ещё десятка два посетителей. Всех их построили вдоль стены, обыскали и стали выводить из помещения. От меня тоже стали требовать, чтобы я проехал с ними в отделение. Я сунул свой паспорт Крутову-Кротову и сказал, что никуда не поеду, во-первых, потому что не хочу их тут оставлять одних, а то оружие или наркотики подбросите, а во-вторых, не вижу причин для задержания.
Наглый молодой опер с кавказскими чертами лица взял в руки железную болванку, которая у нас удерживала дверь в открытом положении, постучал ею по своей ладони и сказал: «Вот я сейчас напишу рапорт, что вы на меня с этой болванкой бросились, и вы уедете туда, откуда недавно прибыли, в лагерь, срок досиживать. Вы же условно-досрочно освобождённый…»
Кротов-Крутов отдал мне паспорт и, взяв болванку из рук опера, положил её туда, где она первоначально находилась. И они удалились все, оставив меня одного. Впрочем, я недолго оставался один. Появился мой адвокат Беляк и несколько распространителей газеты. Мы оживлённо стали обсуждать произошедшее.
Внезапно из глубины бункера послышались лёгкие звуки шагов. И оттуда, как из сказки братьев Гримм, вышли худой высокий мальчик и совсем маленькая девочка. Они сказали «Здравствуйте!» и стеснительно остановились, не дойдя до нас несколько шагов.
— Откуда вы, дети?— спросил я.
— Они нас не нашли. Мы за портретом Че Гевары спрятались,— сказал мальчик.— Вообще-то мы из Приморья приехали.
— Это Че Гевара нас спас,— сказала девочка.
— Они все вокруг нас перерыли, а до нас не добрались. Один было хотел Че Гевару себе взять, а портрет был прибит гвоздями и ещё приклеен поверху. Мы стояли ни живы, ни мертвы. Мы же несовершеннолетние, нас бы в приёмник отправили и держали бы, пока родители за нами не приедут. А кто за нами из Приморья потащится…
— Как вас зовут, дети?— спросил Беляк.
— Андрей.
— Марина.
— Лет вам сколько?
Ему было 16, а ей, его двоюродной сестре, и вовсе 13. Только что, в бункере, отметила.
Оказалось, они прочли какую-то мою одну книгу и потому рванули в Москву. Нашли бункер и поселились в нем.
— Есть, наверное, хотите, дети?— сказал Беляк. Потом полез в кошелёк, достал тысячу рублей и протянул детям: «Идите, еды купите!» Беляк был сердобольный адвокат и часто кормил вечно голодных обитателей бункера.
11 июня 2010 года Андрей Сухорада погиб во время штурма ОМОНом квартиры в городе Уссурийске, в которой укрылись знаменитые приморские партизаны. Андрей был одним из них. Со времени сцены в бункере прошло лишь шесть лет. Во второй раз Че Гевара его не спас.
*
Материалов о «приморских партизанах» не так много. Достоверных и того меньше. Придётся ориентироваться на книгу Ростислава Антонова «Приморские партизаны», изданную в Москве фондом РОД в 2011 году.
Антонов — историк, журналист.
Вот что он счёл нужным сообщить о себе на тыльной стороне обложки книги.
Что он является одним из известных молодых политиков национал-демократического направления.
1993 — Фронт Национального спасения.
1995 — участие в организации протестных акций движения вкладчиков.
2004 — руководитель Каргатского отделения партии «Родина».
2005 — секретарь бюро Новосибирского отделения ВПП «Великая Россия».
2006–2011 — руководитель оргкомитета «Русский марш — Новосибирск».
2010 — Руководитель правозащитной организации «РОД-Сибирь».
2010 — Учредитель ассоциации обманутых дольщиков и инвесторов.
Я, прочитав книгу Антонова, взял себе за правило не полемизировать с ним и не опровергать показания его свидетелей (в частности, двоюродной сестры Сухорады Марины Барышковой, с которой он и приезжал в Москву и жил у нас в бункере).
На 150 страницах книги «Приморские партизаны» есть канва, история «приморских партизан», а неверные интерпретации и недружелюбное порою отношение к нацболам или к жизни в бункере, может быть, являются лишь следствием выработанной родственниками «партизан» позиции, согласно которой хитрые и развращённые москвичи сбили с толку наивного Сухораду.
Вот, я вас предупредил.
Начнём. Страница 89.
«Восстание против системы было самоубийством. Может быть, кто-то из молодых людей этого и не понимал, но для Андрея Сухорады все это было вполне очевидно уже в феврале 2010 года. И он шёл на этот шаг вполне осознанно. Приобретал оружие, готовился морально. Хотя, по сути, на момент ухода в лес оружия у них практически не было, кроме старенького ТТ, где-то купленного Андреем Сухорадой, и пистолета Макарова, который забрали у убитого сотрудника ППС во Владивостоке. Ещё был у них, по словам оперативников, практически самодельный автомат Калашникова, с приваренной вместо ствола трубой, и ружье «Сайга». Немного для начала, но всё же кое-что».
24 мая отобрали у отдыхающих автомобиль Ниссан-Сафари, недалеко от Лесозаводска.
27 мая 2010 г. посёлок Ракитное Приморского края. В расчёте найти там оружие ворвались в опорный пункт.
«Не знаю, о чём думал Андрей Сухорада, нанося один за другим удары ножом, возможно, вспоминал, как его пытали в СИЗО, а может, как его убивали на реке и в гараже, а может, и не думал ни о чём, а просто ненавидел их всех, без разбору. Но за человека он уж точно его (милиционера, старшину Алексея Карася) не считал.
Именно с этого момента ребята стали вполне законной целью и для всей милиции Приморья».
После нападения на отдел милиции «партизаны» устроили засаду. Через некоторое время показались две машины ДПС. Пропустив первую, они открыли огонь по второй.
Следующее нападение: ночью, в 2–3 часа в Яковлевском районе, село Варфоломеевское. Обстреляли патрульную машину ГИБДД. Целью являлось завладение оружием. Один из милиционеров получил ранения в шею и в лицо.
Следующий пункт соприкосновения — село Подгорное, Кировского района Приморского края. «Партизаны» зашли купить продуктов. Купили и вышли из села, им противостояли в этом районе триста вооружённых ОМОНовцев.
«Партизаны» хорошо знали лес. Они охотники. Один раз они ползли по полю днём, сверху летали вертолёты и их не видели. В некоторые моменты милиция и «партизаны» оказывались буквально в нескольких метрах друг от друга. Один раз вышли к реке Уссури и увидели группу ОМОНа, который искал их возле реки. Посмотрев на поисковую операцию сверху, «партизаны» обошли участок стороной и спустились к реке в другом месте.
Или: на мосту через реку стоял блокпост. Прошли под мостом. Вышли из оцепления, вернулись в блокированное село Кировское, помылись в бане, пообщались с друзьями и записали своё первое и последнее видеообращение. Говорят Андрей Сухорада и Александр Ковтун.
Сухорада:
«Евсюковская банда, сколько мы дел с ней ни имели, всегда демонстрировала свою бесталанность и несостоятельность. Это ограниченные люди.
Вот удостоверение одного, он был нами зарезан, будучи дежурным в отделе. В этом отделе не нашлось ничего интересного, только водка, и всё. Это в очередной раз доказывает, что их интересы очень узкие и ограниченные. Также мы обстреляли патруль в Яковлевском районе, там был ранен один легавый, также мы сожгли отдел в Варфоломеевке. Кроме того, мы убили в городе (Владивостоке) офицера ППС и ранили его напарника».
«Вы только и можете, что людей в отделе пытать и запугивать».
«Мы победили в себе страх и трусость, которые вы нам хотели привить. Будь у нас такое оружие, как у вас, и больше людей, мы бы сломили вас. И несмотря на то, что у нас практически нет оружия, чтобы воевать, но мы вас не боимся».
«Вы только и можете, что терроризировать свой народ, беззащитный и безропотный. И вся ваша власть стоит на алкоголизме и унижении. Однажды она рухнет. Настанет тот момент, когда не только мы, шестеро, но и ещё кто-то возьмётся за оружие. Они перестанут терпеть это унижение и возьмутся за оружие, чтобы сделать благое дело».
Очередное нападение на милиционеров 8 июня 2010 в районе села Хвалынка Спасского района Приморского края. Двум сотрудникам ДПС ГИБДД ОВД по Спасскому району причинены огнестрельные ранения.
Всё было просто. «Партизаны» пешком ушли из Кировского и направились в сторону Спасска-Дальнего. Переночевали в частном доме, выломав дверь.
Утром остановили на трассе машину. За рулём старик. Вдруг появилась машина ДПС. Они включили сирену и громкоговоритель: «Водитель машины такой-то, прижмитесь к обочине!»
Затем произошло вот что. «Партизаны» открыли по машине ДПС шквальный огонь. Милиционеры бежали.
«Партизаны» лесом дошли до железной дороги и запрыгнули в первый же товарный поезд. Доехали до Уссурийска. Ночь провели в развалинах одного из домов на окраине, а утром решили уехать из Уссурийска в Хабаровск.
Они пересели на другой товарный и поехали в Хабаровск. Состав остановился на станции Новошахтинск. Их выдал обходчик вагонов. Бросился на станцию и доложил.
Из Михайловки выехала группа захвата с собаками. «Партизаны» решили вернуться в Уссурийск.
Вперёд, чтоб снял им квартиру, пустили Романа Савченко. У того был паспорт человека, похожего на него. Однако Савченко опознали (он шёл по трассе) и арестовали. Это 10 июня 2010 года. Тогда, разделившись на две группы, «партизаны» отправились в Уссурийск самостоятельно.
Их опознал сосед, который и сообщил о них в РОВД Уссурийска.
Их осадили. Раздались первые выстрелы.
Штурм здания начался в 13 часов, к дому были стянуты силы милиции, несколько БТР и ОМОН. По окнам дома стали бить снайперы. В начале четвёртого из дома стали выводить перепуганных жильцов.
Затем было объявлено, что Александр Сладких и Андрей Сухорада покончили жизнь самоубийством.
Андрей Сухорада вышел на балкон, чтобы его убили. Он не смог застрелиться и предоставил эту работу снайперам. Милиция выполнила работу. Андрей упал тяжелораненым. Александр Ковтун подошёл к окну и начал стрелять по дорожному знаку, чтобы отвлечь милицию и не дать начать штурм.
Под его прикрытием Сладких перенёс Сухораду с балкона в комнату и сел рядом, наблюдая, как в страшных мучениях умирает его друг. Не выдержав этого, он поднял пистолет и сделал выстрел. Андрей облегчённо затих.
Потом медленно поднял пистолет. В квартире на Тимирязева раздался ещё один, последний выстрел. Сладких медленно опустился на пол.
Это было в 14:32.
Ковтун и Илютиков не смогли покончить с собой.
Сухорада
Сергей Аксёнов
Андрея Сухораду я лично не знал. В период, когда он жил в московском бункере нацболов, я в столице бывал наездами, изредка. Юного Сухораду того времени можно увидеть в фильме Алены Полуниной «Да, смерть!» Бритая голова, чёрный свитер, сигарета… Позже, уже вернувшись к себе домой, на Дальний Восток, он заматерел и выглядел чуть ли не как спецназовец. Решительный такой парень. Такой вполне мог стать полевым командиром какой-нибудь Дальневосточной народной республики. И почти стал им… Чуть-чуть только не хватило везения.
В 2012 году мне и моему товарищу Александру Аверину довелось мельком увидеть подельников Сухорады. Во Владивостоке, где мы были с оказией, начинался суд над «приморскими партизанами». Предварительное слушание было закрытым, но перед его началом удалось зайти в зал на пару-тройку минут. Постояли рядом с клеткой, вспомнили Сухораду. Местная пресса почему-то отсутствовала, хотя процесс намечался интереснейший и явно федерального уровня. Несмотря на попытки Кремля погасить народные симпатии к робингудам, ребят знали, про них говорили.
Общее впечатление от «приморских партизан» — матёрые русские парни, честные, искренние и никак не хипстеры. Пацаны были злы на НТВ. Те их снимали и сделали хреновый репортаж, выставив наркоманами и бандитами. Александр Ковтун — кажется, неформальный лидер группы после смерти Сухорады, был бородат и похож на «молящегося». Адвокаты «приморских партизан», все, кроме одного, были по назначению. Мусорские. Молчали, не комментировали ничего. Даже отказывались говорить, кто кого защищает. Тогда же подсудимые заявили ходатайство о суде присяжных.
Впоследствии присяжные вынесли вполне себе мягкий вердикт, а один из партизан — Никитин — даже вышел оправданный на волю из зала суда — сорвался с «пыжа», пожизненного заключения. Кажется, такого в российской истории ещё не было. Тюрьма ликовала. Но позже власти устроили пересуд и закатали пацанов по полной.
Володя Падерин
У меня есть часы, которые он мне подарил.
И фотографии есть, где мы запечатлены вместе где-то поблизости от Белого моря.
На часах по кромке их корпуса выгравировано: «Э. Лимонову от НБП Северодвинска».
На циферблате по кругу надпись «ВЕПРЬ — многоцелевая атомная подводная лодка 1915–1995». Внизу мелко синим: «Северодвинск-Скалистый».
*
Побывал я в Северодвинске в 1996 году. Один-единственный раз. Поскольку память у меня уже не юная и детали событий прошлого неизбежно проваливаются в реку забвения, воспользуюсь-ка я моим же репортажем о поездке в Северодвинск, изъяв его из книги «Анатомия героя». Книга издана в 1998 году. Она свежее 2019-го года на 21 год.
*
«На станции Северодвинска нас с Алексеем встречают десяток партийцев, один моложе другого. Председателю регионального отделения Национал-Большевистской партии Володе Падерину аж 24 года, другому кандидату НБП в муниципальный городской Совет, Диме Шило,— 23 года. Оба инженеры. Я приехал поддержать их, помочь, засветить перед выборами.
Город и заводы основаны в 1938 году. Первыми явились на серый берег Белого моря на пароходике ещё в 1936 году геодезисты. Постепенно, пригнав зэков, построили и город, и гигантские судостроительные и ремонтные предприятия. Часть зданий в городе — деревянные, обширные, о двух высоких этажах каждое, построены ещё тогда, в легендарное время. До сих пор существует заросшая унылыми колючками узкоколейка. Мои мечтатели из НБП предлагают восстановить её и, пустив идентичный, времён 1930-х годов, состав, приглашать иностранцев «испугаться». Изымая с них за посещение настоящего реликтового «куска ГУЛАГа» круглые суммы в валюте. Деньги пойдут городу.
Северодвинску деньги ой как нужны. Город компактный, аккуратный, чем-то напоминает Тверь. Деньги Северодвинску нужны, просто-напросто чтобы выжить. Лет десять назад население города насчитывало 260 тысяч человек. Сегодня осталось 170 тысяч. На предприятии «Севмаш» в своё время работали 60 тысяч человек. Сегодня осталось 30 тысяч. На «Звёздочке», где инженерит Володя Падерин,— 7 тысяч, а работали недавно 12 тысяч. Новой постсоветской власти атомный подводный флот не нужен. Чувствуя себя гражданами мира, эти господа защищаться не собираются и врагов не видят, только ласковые рыльца видят за рубежом. От кого же защищаться и зачем же флот? Город, гордо уподоблявший себя Петербургу, возведённый с нуля на низких серых берегах, оказался не нужен всем этим новым модным чувакам в иностранных костюмах типа Чубайса, так же, как и старым министрам-кабанам в иностранных костюмах типа Черномырдина. На самом деле трудовой Северодвинск можно было бы кормить из московского бюджета, обложив особым «атомно-подводным налогом» 250 тысяч самых активных московских чиновников и жуликов. А Северодвинску с весны не платят зарплату. Инженер Падерин полностью получил зарплату только за март. Состоялась всесеверодвинская забастовка. С требованиями выплаты зарплаты. На ней наши из НБП шли с лозунгом «Воюйте хоть с Марсом, но руки прочь от нашей работы!» В 42-м цехе «Севмаша» даже голодали. Чубайс приезжал гасить пламя. К нему из толпы пробрался могучий сварщик: «Ты все 100% зарплаты получаешь?» — «Сто.» — «А почему я получаю 10%?» Охрана оттёрла сварщика от любовника дочери президента. В Северодвинске денег нет, зато губернатор Архангельской области появляется в Северодвинске на восьми «Волгах». Когда заводы посещал в прошлом советский министр обороны маршал Устинов, тот обходился четырьмя повозками: две «Волги», «козлик» и микроавтобус с ментами.
Деньги ушли с Севера, потому даже цены на продукты, обычно более высокие, чем в Москве, упали до московских. Квартиры дешевеют безостановочно. На военно-морских базах Севера: Гаджиево, Оленья Губа, Ведяево, Гремиха — не хватает офицеров. Приезжающим предлагают любую квартиру на выбор. «Вам не нравится, что окна выходят на север? Ну возьмите вот эту, здесь окна выходят на юг». На «предприятия» ВПК меня, разумеется, не пустили. И само собой разумеется, «предприятия», как их дипломатично называют здесь, с распростёртыми объятиями принимают, и часто, любых иностранцев. Самый видный недавно приезжал — министр обороны США. Куда более надёжный человек, чем Эдуард Лимонов. Потому, вооружившись подзорной трубой, выходим из автобуса на мосту, соединяющем остров Ягры с городом, и шагаем по шпалам узкоколейки, по грязи, заросшей высохшими старыми травами. Выбрав место, по очереди разглядываем серую воду и серые корпуса заводов. Как шпионы. Стараясь не очень светиться, ещё заметят вохровцы, вооружённые наганами, не дай Бог. Трагикомическая ситуация, дурнее не придумаешь. Фотографируемся на память на фоне заводов. Над низким серым Белым морем, как над вечным покоем. Накрапывает дождь. Снега нет и температура, как в Москве. Шагаем по острову Ягры — мимо гигантских труб теплоцентрали, вознесённых на бетонные опоры. Эти оцинкованные удавы безобразят облик всего Северодвинска. Но иначе, наверное, нельзя. В одном месте на трубе надпись: «Читайте газету «Лимонка»!» — художественное творчество моих партийцев.
Посещаем родителей Падерина. Бородатый отец всю жизнь проработал на «предприятии». Вручную зачищал после литья те части винтов подлодок, которые невозможно очистить машинным способом. Он сейчас на пенсии. Квартира в пятиэтажном доме, большая, тёплая, светлая. Коллекция старых самоваров, всякие поделки из дерева. Быстро обедаем. Отправляемся по берегу Белого моря к Диме Шило. Уже совсем темно, и моря не видно. Самое странное, что его и не слышно. Отлив, но оно даже не поплёскивает. Мой лейтенант-телохранитель по-детски углубляется в Белое. В море, в своих омоновских ботинках. Точнее, море есть лишь залив Северного Ледовитого океана.
Дима Шило живёт с женой в комнате общежития. В коридорах сушится белье. Тепло. В комнате на стене карта. Ощущение комсомольского быта. Времени мало, берём документы НБП и садимся в автобус в самый момент окончания смены на «предприятиях», в 17:15. Точнее, втискиваемся в автобус, втекаем в него. Давка, аж ребра трещат, но никто не обижается. Однако работяги странно молчаливы, ни смеха, ни шуток. Раньше на Севере можно было заработать благодаря тройным и даже четверным окладам, сейчас на Севере живут отверженные.
На местном «теле» меня поджидает кандидат в мэры, в чёрной морской шинели с погонами капитана 1-го ранга, Кисеев Валерий Владимирович, друг моих ребят. Дарит тельняшку и вымпел с изображением подлодки «Вепрь». Я дарю ему несколько номеров «Лимонки». Мне дали 35 минут в прямом эфире, полагаю, как столичной знаменитости, и я представил ребят-кандидатов. В результате северодвинские братки пригласили меня, позвонив в «Метелицу», их самый лучший ночной клуб. Я не поехал, теперь жалею. Почему пригласили? Очевидно, понравились им методы, которые я предлагал для спасения города.
Я выступил перед студентами кораблестроительного (филиал Санкт-Петербургского) и гуманитарного университета. Много красивых, высоких девушек. Когда говорю о загранице, глаза загораются у них, рты открываются. Сходили и в местный музей. Оказались там единственные посетители. За копеечные цены увидели первую сваю причала будущего города, инструменты, рубахи, сапоги строителей. Их фотографии. Героические люди в героических условиях создали город, который сейчас негероические, абсурдно незначительные люди лениво разрушают. Там был наган в деревянной кобуре, и мне хотелось его спереть, чтобы застрелить какого-нибудь ответственного гада, кого-то вроде нашего больного президента. Секция музея, касающаяся жизни и строительства подводного флота, аскетически представлена лишь фотографиями знаменитых кораблей АПФ России. Сейчас, сказали мне, ещё сдаются время от времени, с огромным трудом, лодки, заложенные в советские годы. Имеющийся у нас атомный подводный флот: часть лодок подвергается кастрации — вырезается её ядерный отсек, удаляется и запаивается снова. Лодка готова на металлолом. Именно на такую кастрацию приезжал полюбоваться министр обороны США. Представляю его довольную рожу в этот момент. Русские, впавшие в идиотизм, сами себя вырезают…
Редкие лодки, всё же сходящие со стапелей, требуют обкатки в глубинах океана. Обязательной. Так же, как новые истребители — испытательных полётов. Обычно заводские испытатели-«сдатчики» уходили на многие недели под воду. Сейчас это дорогое удовольствие не по карману ВПК. На двухнедельный такой поход продовольствие собирают всем городом. Такой поход нынче — праздник, а был рутинным делом. Тем не менее на нас, обескровленных, оказывают постоянное давление. «Если русские заложат подлодку «Юрий Долгорукий», то Норвегия прервёт с Россией все контакты»,— заявила недавно премьер Норвегии, дама. Стерва.
В холодном зале ДК «Родина» (билеты мы сделали по две тысячи, чтобы только оплатить аренду зала) общественность северного рабочего города собралась, чтобы послушать меня — столичного гостя. Они всё испробовали: просьбы, забастовки, голодовки. На них едва обращают внимание. Всё, чего они хотят,— своей зарплаты. «Как нам быть?— спрашивают они.— Вы человек опытный, жили в других странах.» — «Ставьте впереди детей, женщин, инвалидов и идите захватывайте продовольственные магазины. Вам ничего не будет. Покажите свой гнев и силу,— советую я.— Хватит просить. Требуйте, вырывайте». Северные люди в зале задумчиво внимают мне.
Утром поезд неспешно чешет сквозь дождливый северный лес: ель, берёза, сосна. Вдруг — белая скачет змейка по лесной тропинке: горностай, ярко видный в чёрном лесу. Горностаевые мантии были у королей. В местном музее, вспоминаю я, мне показали чучела горностая, песца, росомахи, а рядом висела свежая карта расселения диких животных. Вокруг Северодвинска близко к нему и по всей Архангельской области опасно сплотились, как никогда ранее, тёмные силуэты-значки волков. В нынешнее время привольно волкам. Волки заселяют Север. Люди уступают волкам. В волчье время».
Падерин
От Дмитрия Шило
1) Вовка учился в питерском «Военмехе», там познакомился с творчеством Лимонова. На его полках я впервые увидел «Дневник неудачника», «Эдичку», «Убийство часового». Так формировалось мировоззрение русского националиста. После института он вернулся в Северодвинск. Однажды ему в руки попала газета «Лимонка» (кто-то привёз). Он прочитал, написал Лимонову письмо с вопросом, как можно получать газету в Северодвинске. Лимонов ответил, что одну-две газеты никто к нам не повезёт. Берите, мол, партию штук 200 и распространяйте. В таком духе. Тут всё и началось. Это была осень — зима 95–96 годов. За зиму нашли людей (клеили объявления на остановках — типа «НБП набирает сторонников», получили первые билеты, начали раздавать газету на улицах и мероприятиях). Оплачивали пока из своего кармана.
2) Осенью 96 года я и Вовка участвовали в выборах в муниципальный совет города. С поддержкой приезжал Лимонов, давал пресс-конференцию, несколько лекций в институтах прочитал. Всё описано в «Анатомии героя». Затем, весной 97-го, был организован шикарный сольный концерт Ревякина, посвящённый 5 апреля. Потом Володька несколько раз ездил на съезды партии. Были различные митинги — день Нации, 75 лет Че Геваре, протестные всякие, против бомбёжек Югославии, вообще, «светились» везде и по любому поводу. Наладили распространение газеты через киоски «Роспечати». Ещё одним источником денег на газету стали статьи в местной газете, которые Вовка периодически писал. Граффити рисовали, конечно. Помню, в августе 2000 написали на высокой трубе: ««Курск» — камень на шее Путина», долго не могли закрасить. В выборах в молодёжный парламент города участвовали, потом в парламенте этом позаседали, но это такая беспонтовая сразу затея была, он скоро развалился, парламент этот. В общем, наше отделение НБП было таким неслабым ньюсмейкером в городе, и люди к нам тянулись, как вменяемые, так и не очень иногда… В 97-м у Вовки родилась дочь, в 2003-м, кажется,— сын. Он стал уставать от партийных дел. К тому же пришли новые ребята, они рвались «в бой». Некоторым не терпелось пострадать, посидеть. Мы с Вовкой были не согласны с такой тенденцией, людей старались беречь.
3) Году к 2003–2004 Володька отошёл от партийных дел, ушёл с завода в частную фирму переводчиком. Увлёкся катанием на скутере (мотороллер такой). Мы стали реже общаться. Вечером 5 июля 2005 года он подъехал ко мне на таком скутере (я на первом этаже живу, было тепло, окна открыты), побибикал под окном, помахал рукой, показал средний палец в шутку. И уехал. Навсегда. Вечером следующего дня после работы меня ждало сообщение на автоответчике телефона от его коллеги, что он разбился, катаясь на скутере на загородной дороге. Утром 6 июня его нашли рыбаки, шедшие на рыбалку. Не справился с управлением или не захотел справиться — теперь никто не узнает.
4) Безусловно, сильная, харизматичная личность. Бунтарь ещё со школы (мы сидели 2 года за одной партой). Ярко выраженный холерик. Отличный организатор, обладал неуёмной фантазией. На 1 мая он сделал чучело буржуя с сигарой в цилиндре. Пронесли мы это чучело в первомайской демонстрации через город и сожгли на пустыре под свисты и улюлюканье зрителей. Большая умница был, с жаждой нового — новых знаний, новых впечатлений. Сам довёл свой английский до совершенства, затем выучил немецкий. Физически хорошо развит, подтягивался раз 40, любил крутить на турнике подъём переворотом раз по 20 подряд.
Люси Катала
Жан Катала был парализован. Сидел в кресле, покрытый пледом, и переводил.
У Люси [Lucie Cathala] тоже был какой-то дефект с ногами. Если помню верно, одна нога у неё была короче другой. Возможно, она носила один туфель с толстой подошвой. В любом случае, она хромала, это точно.
Она работала директрисой коллекции в парижском издательстве «Albin-Michel», издательство помещалось на улочке, параллельной бульвару Монтпарнас, и там печатали таких авторов, как я, Jean Edren Hallier, Robert Sabatier, Gabriel Matzneff и Patrick Besson. И я ходил туда на коктейли.
*
Я было попросил Виктора Ерофеева написать о Люси Катала, он её близко знал, ел и пил у семейства Катала, и даже, кажется, жил.
Но Виктор, пообещав, что напишет о скончавшейся в нелюбимом ею Израиле Люси, не написал ни фига, и вот напишу сейчас я, хотя и знаю немного, и ещё меньше помню.
Женщина эта была некрасивая, и к тому же у неё были, как я уже упоминал, проблемы по части ортопедии.
Добавьте к этому измождённое, но вечно улыбающееся лицо пожилой еврейской дамы, какие-то корешки зубов, и вы можете понять, что Лимонову не свойственно было с такой дамой дружить.
А она вообще-то, оказалось, была добрая и хорошая женщина. Это я был неумеренно заносчив.
Какую должность она на самом деле занимала в издательстве «Albin-Michel», я так и не выяснил. Во всяком случае, она находилась под началом Ivan Nabokov, который был директор коллекции. Тоже хороший человек. Ослеп, говорят.
Однажды я всё-таки побывал в квартире четы Катала. Оказалось, всё не так плохо, как я себе представлял.
В инвалидном кресле задрапированный в плед Жан выстукивал очередной перевод. Рядом, на пюпитре, как у школьной парты, лежала курительная трубка, из которой он время от времени потягивал, испуская приятно пахнувший табачный дым.
Через годы переводчица моей книги «…и его демоны» Моник Слободзян [Monique Slodzian] сообщила мне, что «вы ей нравились характером, она вами восхищалась».
Мной тогда немногие восхищались, парень я был самоуверенный и опасный, как кусок рваного стекла, потому спасибо Люси. Где вы там летаете там в сферах… Может быть, сопровождая вашего Жана в инвалидном кресле.
«Новые» мёртвые
Те, кто умер с мая 2018 года по май 2019 года
Проскурнина
Была такая тётка, Эмилия Проскурнина. Чем-то она была похожа на Эллу Панфилову, кто сейчас выборами в России заведует. Коренастая blond с сиськами, лет пятидесяти.
Почему я поминаю эту тётку? А она была из тех немногих, из горстки, собственно, людей, кто помогал молодой партии молодёжи.
Проскурнина занимала какой-то пост в журнале «Юность». А «Юность» тогда располагалась с тыльной стороны того квартала, в котором фасадом, окнами к памятнику Маяковскому, располагался когда-то ресторан «София».
В «Юность» Эмилия предложила мне приходить в утренние часы, дабы иметь доступ к телефону, и я мог принимать там в ранние часы посетителей. Поскольку у меня не было домашнего телефона, и штаба у молодой партии тогда не было ещё.
Через некоторое время выяснилось, что звонить мне особо никуда не получалось. Я приходил в «Юность» задолго до того, как появлялись после 10 утра её сотрудники, а до 10 утра звонить в учреждения не имело смысла, на местах работников учреждений ещё не было.
Шёл где-то (раздумываю) …а, самое начало 1994 года. Изнутри журнал «Юность» представлял тогда из себя удручающе утомительный вид и, входя в противоречие со своим названием, в действительности был набит пожилыми людьми.
Там и пахло такой записанной (от слова писать, мочеиспускаться) смертью. Возможно, на самом деле пахло столовской кислой капустой или и в самом деле писсуаром. Туалеты тогда в России ещё плохо чистились, так что вполне могло быть, что и писсуаром.
Прибыв из-за границы, которая есть своеобразный омолаживающий холодильник для русских людей (во всяком случае, была), я чувствовал себя намного моложе моих русских сверстников, а потому «Юность» ощущалась мною как богадельня.
Проскурнина была живым человеком, у неё было много жалоб на власть, две третьих были жалобы обывательские, она полуплачущим голосом начинала выкладывать мне свои проблемы, и, как у простых людей, её проблемы были обязательно частными.
Простые люди ведь становятся перед тобой и, взявшись за щеку либо за какое-то место на животе, положив туда ладонь, начинают выкладывать тебе свои жалобы одну за другой… Дескать, и воду вчера два раза выключали, а электричество — трижды…
А я пока раскладывал перед собой клочки бумаги с телефонами, куда мне следовало позвонить.
Жил я тогда, насколько я помню, у метро «Академическая», где-то там, рядом с кинотеатром «Хошимин», в квартире севшего в тюрьму бухгалтера (тогда в тюрьмах сидели в основном бухгалтера, так ощущалось). За 200 долларов в месяц нам, мне и Наташе Медведевой, сдавала двушку молодая жена молодого сидевшего в тюрьме бухгалтера. Телефона в квартире не было, ложе было деревянное с жидким матрасиком поверх. Когда через лет семь я сам сел в тюрьму, то обнаружил, что постели там получше, чем на улице имени ангольского революционера, где помещалась квартира бедного молодого бухгалтера.
То были скудные, но легендарные годы, и всё, тогда происходившее, воспринимается теперь, в патине времени, в таких красивых рамочках романтизма. До того, как Проскурнина пригласила меня пользоваться кабинетом в «Юности», я звонил из вестибюля метро, местные русские научили меня не опускать монету в щель автомата, а лишь держать её в монетодержателе. Так можно было позвонить бесплатно в десяток мест. Но в вестибюле метро «Академическая» дул безжалостный сквозняк, двери, передаваясь из рук в руки, никогда не закрывались, в результате я скоро простудился.
Так что предложение Проскурниной пришлось как нельзя кстати. Там же, в «Юности», я завёл несколько знакомств, пригодившихся мне впоследствии. Хотя я и не уверен за давностью лет, что знакомства мне устраивала Проскурнина. Так я познакомился с предпринимателем-австрийцем, в чьей квартире окнами на московскую мэрию я впоследствии прожил несколько месяцев (несколько раз вечерами видел в мэрии Лужкова, листавшего одиноко какие-то гроссбухи).
Дочь Проскурниной впоследствии стала писателем под фамилией Козлова и женой известного молодого писателя Сергея Шаргунова.
А тогда Эмилия Александровна старалась прийти раньше, чтобы успеть пожаловаться мне на невзгоды свои и страны. Так и помню её улыбающуюся, идёт на меня, я вздыхал и как мог терпеливо начинал ей отвечать на её запросы. Не знаю, успокаивал ли я её, будучи машиной, скорее, равнодушной и всегда готовой к худшему. Постепенно она стала приходить раньше десяти утра реже и реже.
Была она, впрочем, человек очень хороший, и терпеливый, и никогда не забывала отреагировать на успехи молодой нашей партии. Наконец, она считала, у народа появились молодые заступники, и уж они народ не дадут в обиду, а то всё старьё да старьё.
Да пусть тот, кто там, апостол Пётр стоит со связкой ключей от рая, пустит её в рай. Рекомендую. Проверено. Святая народная душа. Немного надоедливая, полная суеверий и тревог, ну, что поделаешь.
Сегодня я написал Сергею Шаргунову, попросил уточнений о его бывшей тёще.
Он ответил:
«Эмилия Алексеевна родилась 11 сентября 1934 года. Умерла 11 мая 2018 года. Перед смертью мало кого узнавала, галлюцинировала. Пока не слегла, была захвачена всеми новостями. Считала лучшим подарком на своё 83-летие вашу книгу «Под небом Парижа»».
Ей-Богу, когда писал о ней, этого последнего факта не знал. Даже если бы она какую из моих книг и не любила или же все вместе не любила, я бы написал то, что написал.
Хороший она была человек. Вот о себе такого сказать не могу. Я, скорее, «вредный», противный и задиристый (ругаться-то нельзя, а то бы выразился яростнее…).
Где те утренние часы, когда я входил с чёрного хода в «Юность», которую я в 1994 году презирал, и, преграждая мне путь, шла уборщица с ведром грязной воды, выплеснуть её на улицу. В синем халате. В советской косынке уборщица, и пахло сыростью. И то был ещё другой совсем век, где мы все выкаблучивались, подходили друг к другу, говорили. У меня такое впечатление, что все, кроме Проскурниной и австрийца (он давал немного денег, по-моему, этот австриец), меня там недолюбливали.
Оттуда, когда входил, несло советской сыростью, и от несносных советских чайных чашек и блюдец оставались белые следы на растрескавшихся столах из советских опилок…
Нет, динозавры там не гуляли, подняв хвосты, как собаки, которые собрались покакать…
Говорухин — ворошиловский стрелок
Два последние эпизода по времени из встреч с ним. Не знаю, какой поставить вперёд.
Вперёд, я думаю, нужно поставить тот, который включает некрасивую, но броскую, изломанную и юную девчушку Наташку Д. Поэтому вначале чуть-чуть о Наташке Д., если издательство соблаговолит, то мы ещё и фотографию её в книжку всобачим, то есть во вкладку вставим.
Я познакомился с Наташкой Д. в коридоре Государственной Думы, рядом с кабинетом Комитета по геополитике, тогда его возглавлял Лёха Митрофанов, Комитет функционировал от ЛДПР.
Наташка шла по коридору, каблуки её металлических туфель чуть ли не искры высекали, длинные ножки отдельно, пухлая задница отдельно, синяя скобка волос, остриженных в карэ, расшлёпанный носик, вид намеренно дурковатый.
— Что делают дети в Государственной Думе?— преградил я ей путь, отделившись от адвоката Беляка, с которым до этого беседовал.
Тогда-то адвокат Беляк познакомил нас. Мне уже было за полтинник, а ей было 17 лет.
Чуть позже, придя сниматься в студию канадской девки-фотографши Хайди Холлинджер (очень смазливая шпионка, наснимавшая всех лидеров оппозиции того времени, она пела вместе с Анпиловым в сопровождении военного оркестра, например), я и познакомился с депутатом Станиславом Говорухиным.
Может, я виделся с ним и ранее, но для удобства повествования будем считать, что впервые познакомился у Холлинджер. Наташка, как подобает избалованной девочке-подростку среди взрослых, выёбывалась на все сто. Корчила рожицы, надувала губки, принимала провокативные позы. Например, выпячивала овальную отдельную попу, валялась на диванах Хайди и всё такое прочее.
Говорухин пришёл в макинтоше, в сопровождении одного охранника. Он тогда уже был режиссёром фильма «Ворошиловский стрелок». Фильм хороший, только очень русский и очень того времени, девяностых годов, простая история о том, как внучку Ворошиловского стрелка насилует компания богатеньких парней, а он (актёр великолепный — наш Жан Габон — Ульянов) расстреливает этих парней, бражничающих на балконе.
Ну так вот, Говорухин, сняв свой габардиновый макинтош серого цвета, вежливо попросил меня пропустить его вперёд, у него, дескать, некое мероприятие в Госдуме. Мы с Наташкой Д. согласились.
Она была мне приятна, самая изломанная девочка в России, так я о ней думал. И ей, я видел, было приятно находиться со мной. Ну мы и пропустили Говорухина вперёд.
Он, глядя на нас с Наташкой Д., всё улыбался. Действительно, мы были экстравагантной парой. Я — председатель самой радикальной партии и она с её дурковатым видом — впереди своего времени. Тогда ещё и в Европе дурковатость была редкостью.
Вторую встречу от первой отделяли всего несколько лет. Но я уже был совсем другой. Серьёзнее, взрослее (наконец!), и я пришёл в Государственную Думу искать поддержку депутатов-патриотов (ну, условно говоря), я пришёл поговорить и с Говорухиным, и с генералом Рохлиным.
Под скрип земной оси ушли от нас эти люди. Генерал Рохлин свыше двадцати лет тому назад (смотри «Книгу Мёртвых-3, или Кладбища»), а Говорухин вот в 2018-м.
Говорухин мне сказал, что да, если я выиграю довыборы в Георгиевском избирательном округе, то буду его сосед. Но особо он, депутат от Минводовского (Минеральных вод) избирательного округа, помочь мне ничем не может. Его влияние распространяется на его Минводовский округ, но не за его пределы. Более того, тут такая коллизия, буду с тобой откровенен: я же депутат от фракции КПРФ. И скоропостижно скончавшийся депутат от Георгиевского был тоже капээрэфник. Без сомнения, моя фракция захочет оставить за собой Георгиевский округ и выдвинет там своего кандидата. Ну и как буду выглядеть я, помогающий тебе выиграть (я успел сообщить ему, что был бы счастлив, если бы он, как сосед, приехал пару-тройку раз поагитировать за меня)? Как? Я буду выглядеть хуёво. Как беспринципная свинья, рубящая сук, на котором сидит. Согласен?
Я был согласен. Потому вздохнул и согласился: «Да».
— Но если ты выиграешь и окажешься в Госдуме, мне будет приятно иметь с тобой дело. Как с единомышленником и умным человеком.
— Вот Лев (он имел в виду генерала Рохлина) действительно сможет тебе помочь. В Северо-Кавказском регионе, а именно в Георгиевском округе, стоит множество воинских частей, и у нашего генерала везде есть его люди — сослуживцы. Вот Рохлин — полезный для тебя. Иди к нему, пленарное заседание, я так понимаю, уже кончилось. Знаешь, где его кабинет?
Я пошёл к кабинету Рохлина.
Больше я Говорухина не видел. Только по телевизору или в Интернете. Было заметно, что он дряхлел.
«Нёма»
Всем известен эпизод, пересказанный Довлатовым, случившийся на конференции по русской литературе. Происходило это в University of South California, организована был конференция профессором Ольгой Матич.
Довлатов пересказал действительно имевший место случай, когда я ёрнически уступил свои десять минут выступления плешивому поэту Науму Коржавину (буква «К», как известно, в алфавите следует перед буквой «Л»), чтобы он продолжал ругать меня уже за мой счёт. А речь Коржавина была направлена именно против меня, как ребёнок, он взревновал меня к конференции, ведь три из четырёх обширных докладов в первый же день конференции были посвящены моей книге «Это я, Эдичка!». Слависты набросились на меня радостно и не обратили внимания на цвет диссидентской литературы, собранный тогда в Лос-Анжелесе. В том числе и не обратили внимания на Коржавина. Хитрый говнюк Довлатов сконцентрировал внимание на Коржавине, но с Коржавиным тогда случилась всего лишь мальчуковая истерика.
Своей речью он компенсировал недостаток внимания к нему, Науму. Если бы не этот эпизод в L.А., я бы на столь неяркую фигуру внимания бы не обратил.
Признаюсь, что я его не выносил. Предполагаю, что по причинам эстетическим. Слишком уж некрасив был и неряшлив, и, видимо, по одним этим параметрам я не считал его принадлежавшим к человечеству. Семья Синявских вот с ним отлично уживалась, они звали его «Нёма», и ни беспорядочные обрывки волос вокруг лысины его их не смущали, ни радикальный либерализм Нёмы, доходящий до идиотизма, по моему мнению, не смущал. Хотя сами они и были другие. А я вот кривился, и старался тогда во всю конференцию на него не смотреть. Было начало лета, природа в Лос-Анжелесе пылала яркими цветами, а тут это ходячее диссидентское горе.
Тогда ещё не было компьютеров, но Синявские оживлённо общались и с «Нёмой», и с остальной «диссидой», как я их называл в разговорах с моей подругой Медведевой.
Умер он в какой-то американской заднице в забытом богом штате Северная Каролина, в городке Дарем. В Дареме в Шотландии, на востоке Great Britain, я был, там хоть средневековые строения есть, а Дарем, Северная Каролина — это, видимо, жуткий Мухосранск. Умер «Нёма» 92 лет от роду, на 93-м, видимо, окончательно опупев от жизни.
У таких, как он, людей обычно бывают верные старые жёны. Его жена умерла в 2014 году. После смерти жены жил в семье дочери.
Умудрился скончаться 22 июня, в день начала ВОВ.
Что ещё о нём известно.
В армии не служил по причине экстраординарной близорукости. За распространение идеологически враждебных стихотворений посидел и в лагере, и в ссылке в Сибири, и в институте Сербского.
Его дружба с Синявским объясняется просто. Он как-то выступил в защиту Синявского и Даниэля. Я думаю, даже если бы он выступил в мою защиту, я бы с таким эстетически отталкивающим человеком не поддерживал бы отношений.
О нём также известно, что Коржавин выступал против всех форм социализма. «Защищал органическую связь искусства с Высоким и Добрым». (Ну тогда я за людоедство, если этот плешивый — за Высокое и Доброе. Кто это? Баскетболистка-давалка. Соответствует ведь. И Высокая, и Добрая. «Ты скажи, ты скажи, чё те надо, чё те надо, я те дам что ты хоть, что ты хошь!»…)
Когда в России пришла к власти буржуазия, Коржавин несколько раз побывал в Москве. Подробности его поездок мне неизвестны.
Умер он 22 июня 2018 года, я уже сообщил, что в какой-то американской заднице, 92 лет от роду. Урна с прахом его между тем привезена из американской задницы и захоронена на Ваганьковском кладбище.
Настоящая его фамилия была Мандель. Ну да, тут он здраво рассудил. Читателям лучше читать стихи Коржавина, чем Манделя.
Поэт Дементьев
Одно время был главным редактором «Юности», с 1981-го по 1992-й, той самой богадельни, журнала, где из чёрного входа выходила уборщица в синем халате с ведром грязной воды. Где работала Проскурнина, заведующая отделом прозы.
Моё с ним личное знакомство состоялось коротко уже когда он был старым, да и я не молодым. А вот со стихами моими он ознакомился ещё в 1974-м, а то и 1973 году. Я послал в «Юность» свои стихи по почте. Дементьев, я так полагаю, был в это время не то заведующим отдела поэзией, во всяком случае это он прислал мне письмо, где шапкой служила девка, один глаз графического изображения Юности был закрыт прядью волос.
В своём письме, видимо, огорошенный всеми намеренными неправильностями, которые я допустил в послании в «Юность», он вопрошал: «вы что, немец, коряво пишущий по-русски?», учащийся «русскому языка»?
Я ему ничего не ответил и не намеревался отвечать, письма из журналов были мне необходимы, чтобы удостоверить за границей тех, кто будет мной заниматься, что в России меня не печатали. Набрать с собой ответов из журналов посоветовал мне хитромудрый человек Солнцев, организовавший в ту эпоху отъезды из России творческих людей.
Родился этот «живчик» Дементьев, и он-таки был живчиком, ибо на протяжении десятилетий мелькал и был заметен в сфере литературы, в 1928 году. Это ж чёрт знает когда. А умер 26 июня 2018-го от осложнения после простуды.
После его правления главным редактором журнала «Юность» стал некто Виль Липатов. Это как раз то время, когда я приходил к ним в богадельню звонить по телефону. К Проскурниной.
Дементьев был человек бесталанный, банальный, но наглый. О таких, не совсем прилично, русский народ придумал бессмертное «без мыла в задницу лезет».
Так он лез везде. И добился того, что от верхов до низов его считали выдающимся поэтом. Но если поставить его рядом с тоже банальным слезливым Евтушенко, то у того 111 книжек стихов таки есть, хотя и чудовищных, как стенгазета.
Серый Дементьев, как банный лист, прилип к советскому журналу «Юность», через журнал приучил ассоциировать свою фамилию с поэзией и как загулял потом по всем буфетам, съездам и конференциям, что уже то не буфет, и не съезд стали, и не конференция, если без Дементьева. Там стихотворное приветствие, здесь на злобу дня в популярной газете, так и передвигался эстафетой из одного нахрапистого человека.
Не видный, нахрапистый, не сказать, чтоб красивый, но и не уродливый, он спасся и в гайдаровско-чубайсовские времена, представлял то здесь, то там культуру.
Большинство-то народное только вывески читает. Обманщикам в России выгоднее себя выдавать за поэтов или за боевых генералов. Книжки стихов, дай Бог, чтобы несколько тысяч у нас читали. Но и воюют не так много. (А если воюют, то генералов своих часто и не знают.)
Ну вот, шёл он в клетчатой рубашечке и костюмчике из твида по жизни, как вышел в путь комсомольским вожаком, так и в возрасте почти 90 лет таким комсомольским и оставался.
Вина это его или не вина, что он в выдающиеся просочился? «Выдающиеся» тоже нужны.
Был. Ушёл.
В день, когда он умер, его цитировали. Банальность оставшихся после него строк просто угнетает. Настроение портится. И если до этого ты ещё верил в человечество, то после этого — не веришь.
Зачем же, думаешь, такое жило? Неталант — это ведь наказание.
Сергей Мелентьев
Серёжа был высокий статный парень и постоянно носил тяжёлые портфели, в которых стояли книги Дугина. Мне он пару раз жаловался, что семья работает на Дугина, что он их приспособил.
Дело в том, что Наташа Мелентьева работала женой Дугина, а Сергей Мелентьев продавал его книги. Кроме того, Мелентьев ещё и занимался изданием книг Дугина.
Когда высокий и статный парень жаловался мне на Дугина, я отмалчивался, зная, что большой человек заставляет окружающих заниматься его делами, даже если они этого не хотят. 15 июля 2018 года было сорок дней со дня смерти Сергея Мелентьева.
Где в настоящее время находится его портфель?
Кто продаёт книги Дугина? Может быть, его уже взрослая дочь Даша. Я помню, она, будучи малышом, что-то взялась ковырять у меня на подоконнике, когда я жил на Калошином переулке.
«Осторожней, Даша,— сказал Дугин,— дядя Эдик не любит детей, сейчас возьмёт и отшлёпает тебя».
Дугин удивительно умный человек, я ещё не соображал, что я не люблю детей, а он уже знал.
Они проходят мимо меня целыми семьями, из их шеренг вдруг кто-то выпадает, корчась, остальные беззаботно идут вперёд.
Как-то я встретил эту Дашу на «Царьград-телевидении».
«Я счастлива с вами познакомиться,— сказала Даша,— отец мне столько о вас говорил…»
Дочь Дугина была в чёрных чулках и на парижской улице выглядела бы как своя. Мелентьев приходился ей дядей. Чаще всего он ходил в длинном сине-зелёном плаще. От чего он умер, я не знаю. Все сейчас умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Вот и он, видимо.
В 90-е годы мы делили некоторое время помещение на 2-й Фрунзенской, в полуподвале. У них были дальние комнаты, помню, что было всегда захламлено суровой обёрточной бумагой от пачек книг, самими пачками книг, какими-то бечёвками на полу. Прорванные, разорванные иностранные плакаты висели лохмотьями со стен. У них была «Арктогея» — загадочное полу-издательство, полу-семейный бизнес. Дугин тогда был склонный к полноте большелицый молодой бородач, порою с вываливающимся брюхом.
Сейчас это сухопарый эзотерик в чёрной шапочке, исхудалый от пронзительных мыслей.
В одну из зим мы встретились в кулуарах политического шоу. Вошёл Дугин и, завидев меня, прямиком направился ко мне и вдруг обнял меня. Зная, что он минус сентиментален, я был тронут. Выходя с телевидения во двор Останкино, я ему сказал: «А знаете, я живу чуть ли не через двор от вас?»
«Да?» — уже стандартно откликнулся он.
На обледенелых ступенях Останкино мы обменялись телефонами, зная, что мы друг другу не позвоним.
Так и случилось. Пошёл второй, а то и третий год, но не позвонили.
Мелентьев же всегда ходил в костюме и при галстуке. Сколько его помню — он в плаще и галстук виден сквозь прорезь плаща. И несёт портфель с книгами «Арктогеи». По структуре своей он был, по-видимому, клерк, офисный работник. Он был бы счастлив, наверное, если бы Дугин обсуждал с ним свои издательские планы.
Но я подозреваю, что Дугин не обсуждал издательские планы с Мелентьевым, братом его жены.
Войнови́ч
Чем отличается писатель Анатолий Гладилин от поэта Наума Коржавина или писателя Владимира Войновича? Для их жён и детей эти человеческие существа, без сомнения, штучный товар, издалека узнаваемый на тропинке, ведущей к даче.
А вот для меня ничем не отличаются. Писатели-диссиденты, пока существовала советская власть, имели большого помощника. Имея, как тогда говорили, «Софью Васильевну» во врагах (то есть Советскую Власть), писатель-диссидент имел подспорье, и какое значительное. То, что писатель — враг советской власти, делало его автоматически союзником других её врагов и критиков, в частности, культурного официоза европейских стран.
Когда советской власти не стало, диссидентам перестали помогать: перестали давать выгодные места в университетах, давать премии, и нужно было отныне жить без покровителей, таким, какой ты есть,— со своим скромным или дохлым талантом. Поэтому последние части жизней писателей-диссидентов были скучными.
28 июля 2018 года умер в Москве Владимир Войнович, автор (трилогии, что ли) о солдате Чонкине. Я признаюсь тут: таких вот народных песенно-бубенцовых сатириков ни в чих не ставлю, считаю то, чем они занимаются, неискусством, потому умер-шмумер. В возрасте 86 лет «сердечный приступ, скорая не успела…» — объяснила незнакомая мне некая Юлия Пессина.
Я хочу пожаловаться на то, что яркие современники из моей парижской жизни либо умерли там, оставшись в Париже и Нью-Йорке, без меня, либо ещё не умерли, и мне вот остаётся скучная работа вспоминать о людях, о которых и вспомнить-то нечего.
Сербы, кажется, считали Войновича своим. По фамилии, но и в Белоруссии фамилий на «ич» немало встречается. Помню, что в каком-то далёком году, может быть, в 1991-м, идя по главному сербскому кладбищу под солнцем после дождя за сербскими священниками в черных расшитых золотом одеяниях, помню, кто-то мне говорил из сербов (а хоронили они писателя Данилу Киша), что Войнович — «наш серб». Произнося фамилию с ударением на последнем слоге (Войнович), на «ич».
Я не знал, что и сказать. Я тогда видел этого коренастого щекастого совписа один раз на конференции в Университете Южной Калифорнии. Там он сидел и всё молчал почему-то. Не то он тогда только уехал из России (в 1981) и ещё не привык болтать на международных литературных конференциях. Сербы удивлялись: как это один русский «писец» не знает другого русского «писец». Не понимали милые сербы, что я от русских писцев за границей бежал без оглядки и мне они не интересны.
Коренастый, широколицый, никаких оригинальностей в жизни, типичный советский писатель, и если бы не время, когда даже самые робкие пускались в авантюры, он бы совписом и остался.
Если Александр Галич был расхрабрившимся в «оттепель» этаким квартирным аристократом (и гитару ему носили богатые тётки из околоцековской среды), то Войнович был таким расхрабрившимся в «оттепель» (а обратно-то уже не сожмёшься) крестьянином, пейзаном от литературы.
Чтоб вы крепче поняли меня, объясняю.
Эти расхрабрившиеся предприняли в «оттепель» и после ряд шагов, обозначив свою враждебность к Софье Васильевне, а потом, когда оттепель быстренько закончилась, каяться в ошибках и бить себя в грудь в покаянии было уже поздно, было понятно, что не простят же.
Ну, и остались на той стороне. Слава Богу, ещё Софья Васильевна не в тюрьмы их сплавляла, а за границу, за бугор.
Меня больше всего удручало и удручает отсутствие в них оригинальности. Полное, никаких выдающихся черт. Ну хоть бы кто, ну хоть педофилом бы оказался, нет. Серые лица, бугры животов под рубашками и пиджаками. Удручающе скучные ребята. Суп-водка, водка, суп, селёдочка…
Книги, пишущая машинка, копирка шуршит. Чонкин, мать его, создаётся, бравый солдат. Солдатский юмор. Как его понимают совписы, не смешно.
Если бы Гладилина, Коржавина, Войновича не было среди русских писателей, то никто и не заметил. Поскольку пусты все места.
Орхан, сын Гейдара
Орхан Джемаль был убит в Центральноафриканской Республике, вместе с телеоператором и телережиссёром. В 23 километрах от города под названием Сибут. Как со страниц Библии сошедшее название, не правда ли? Сибут.
Они ехали в автомобиле. Вывели ли их из автомобиля и расстреляли (скорее всего, так и было), или по-другому было совершено убийство, не суть важно. Вообще не важно. Кто их убил, конечно, интересно, но сути дела не меняет. В ночь с 30 на 31 июля 2018 года стояла, должно быть, очень тёмная африканская ночь. Вряд ли в Центральноафриканской хорошо освещается полотно дороги. Скорее, они ехали, высвечивая дорогу автомобильными фарами, и только. В каком-то месте их остановили, должно быть, выстрелом в воздух. Они остановились.
Вывели и шлёпнули, что называется. Привели в исполнение чьё-то приказание.
Орхан Джемаль был оголтелый парень. И руками, и ногами за дело мусульман.
Отец его Гейдар — сын русской женщины и азербайджанского интеллигента, художника, как мне говорили, выбрал пойти по мусульманской дороге, материнскую не выбрал. И сын его Орхан, следуя примеру папы, выбрал мусульманскую дорогу. Кто была его мать, мне неведомо. Русская ли женщина или не русская.
Должно быть, чтобы видеть, в кого стрелять, горели фары. Водитель-негр, скорее всего, потом наврал с три короба, что якобы по ним стреляли из кустов, но есть ли в машине пробоины от пуль?
Представьте себе эту сцену на дороге. Люди, закутанные до глаз в маски, платки и тряпьё, автоматы в руках, лишают жизни трёх москвичей под свет автомобильных фар.
И кричат африканские цикады, либо монады, либо ночные воробьи.
И никому это нахер не нужно. Потому что человек умирал на Земле всегда, зачастую по меньшим пустякам.
Куда-то ехали. По какому-то заданию. Что-то снимать. Ничего определённого. Ночь. Даже непонятно, те, кто москвичей расстреливал,— негры? Не негры?
Что после себя Орхан оставил? Несколько злобных интервью, десятка два злобных статей.
Была ли у него девка? Жена, может, была? Не знаю.
Выпила Орхана центральноафриканская ночь.
В последний раз я видел его в гигантском ангаре на Бумажном переулке. Там помещались и «Известия», и «Русская служба новостей», и телевидение.
Орхан стоял с группой людей в окружении кофров с камерами и рюкзаков.
— Привет!
— Привет! Как дела?
Даже руками не сцепились на ходу. Даже ладонями. Прошли, я и мои охранники, служба безопасности.
Что он обо мне думал?
То, что говорил ему обо мне отец, да и какая разница. Я о нём, об Орхане, уже плохо думал, потому что слышал его кипятковые интервью на «Эхе Москвы». Подумал, слушая: «Этот парень как ИГИЛовец, он мусульманский радикал, он как враг, да что там, уберём «как», он — враг».
Его никто не завербовывал, он сам завербовался в исламские радикалы.
Есть турецкий писатель Орхан Памук. Вот был Орхан Джемаль. Распространяется ли мировая буря на Россию? Распространяется, ты не Орхан, я не Орхан, он — бородатый, высокий, неистовый, он — Орхан.
Вот и сгинул. Может такое быть, что его шлёпнули потому, что слишком заёбистый был? Может.
Долго пытались расследовать. Кто, дескать, убил, и не наши ли русские убили, не те ли русские военные, которых нанял охранять себя центральноафриканский лидер?
Эта возня по выяснению протянула загробную жизнь Орхана Джемаля, а то бы уже давно его забыли. А так попомнили ещё пару месяцев после африканской ночи с 30 на 31 июля.
Говорят, часть сознающих, что их убивают, умирают от остановки сердца ещё до того, как в их плоть вонзятся пули.
Человек вообще хорохорится. Ходит высокомерный, а сам любому отверстию подневолен. Как ударит его несущейся свинцовой болванкой, так и мёртв тотчас. Или не тотчас. И на большие листья африканских растений падает кровь. А потом дожди её смывают.
Настя
Сисястая, весёлая, всё время смеющаяся и улыбающаяся, вот какой она была. Хорошенькая.
После неё остался сын Ванька и муж — Сергей Аксёнов, в своё время второй после меня человек в партии, последние годы удалившийся с ней в её родной город Омск, чтобы жить там с ней.
Были времена, когда она перепечатывала мне мои книги, после тюрьмы я их пишу от руки.
Настя Пусторнакова была бескомпромиссный партийный товарищ.
Даже сейчас о ней вспоминать приятно. Настька.
Я узнал о её смерти в августе 2018 года. В Омске от рака.
Есть девки в русских селеньях…
Особенно из Сибири. Особенно много их приехало из Оренбурга. Но вот и из Омска — Настя.
Настя Аксёнова
Сергей Аксёнов
Я познакомился с ней зимой 2003–2004 года в партийном бункере на 2-й Фрунзенской. Неизвестная мне девушка сидела за столом где-то в глубине помещения, я проходил мимо. Ярко-алая губная помада, очки, берет а-ля Че Гевара… Здравствуйте, я — Настя, сказала она довольно робко. Робость объяснялась её особым отношением ко мне. Я влюбилась в тебя по книге, признавалась она позже.
Речь шла о романе Лимонова «В плену у мертвецов», посвящённом нашей алтайской эпопее. Её поразил эпизод в самолёте, на котором нас везли из Барнаула в Москву в СИЗО «Лефортово». Тогда я громко вслух пообещал «ничего им не сказать», в смысле никого не выдать. Им, то есть чекистам. И не выдал, промолчав все полтора года следствия, несмотря на давление. Настя оценила.
При том, что она в свои девятнадцать лет сама была уже тёртый калач. Освободилась совсем недавно из литовской тюрьмы. Осужденная за участие в партийной акции, связанной с требованием свободного транзита в Калининград, Настя отбыла с товарками пусть и небольшой, но вполне реальный срок на женской зоне в Лукишках. Годы спустя с теплотой вспоминала свои прибалтийские приключения.
Та наша зимняя встреча была лишь эпизодом. Я бывал в Москве наездами и перебрался в столицу только весной. Партия тогда потеряла бункер, где жили многие нацболы. Отряд спецназа ФСИН прорвал круговую оборону — мы не хотели сдаваться без боя, Кирилл Ананьев, впоследствии воевавший на Донбассе и погибший в Сирии, вскрыл себе вены, залив помещение кровью, но это не помогло. Настя оказалась бездомной. Я — тоже.
Когда меня позже спрашивали, где мы с Настей познакомились, я в шутку отвечал «в канаве». В смысле: на самом городском дне. Как у Гиляровского или кого там, Максима Горького? Поскольку мы оба стали бомжами, то составили пару. До обеда гуляли, а затем я начинал звонить (уже появилась доступная мобильная связь) знакомым в поисках вписки на ночь. Развесёлую, перекати-поле, Настю это нисколько не напрягало. Ей нравилась такая жизнь.
С ночлегом особых проблем не было. Авторитет мой после отсидки был высок, и потому многие охотно давали нам временный кров. Помню, как однажды ночевали в кипенно-белой квартире, любезно предоставленной главредом газеты «Лимонка» Алексеем Волынцом, в другой раз в Химках у Димы Селезнёва, тогда финансиста, а сейчас арт-критика. Пускал нас к себе переночевать и Лимонов. Всё-таки мы были подельниками. Много было людей и квартир…
Весна и безделье способствовали очевидному. Я беременна, призналась однажды Настя. Роди мне сына, попросил я её. До этого равнодушный к детям, после того, как прокуроры чуть не закатали нас в каменный мешок навсегда (именно так воспринимались запрошенные ими 23–25 лет лишения свободы), я страстно захотел кого-то оставить на этой Земле. В том, что родится именно сын, а не дочь, я нисколько не сомневался.
Настя всегда была с характером. Она не хотела идти со мной в ЗАГС, а решила (об этом я узнал уже позже) уехать к себе домой, в Омск, и родить там. Никакого разумного объяснения этому нет. Обычно девушки в такой ситуации стремятся замуж. Думаю, это была попытка отстоять свою независимость. Впрочем, неудачная. В ЗАГСе мы всё-таки оказались, а свою фронду Настя продемонстрировала, оставив фамилию отца — Пустарнакова.
Сына назвали Иваном. В честь моего деда, погибшего в 1942-м под Сталинградом. Партия тогда состояла в основном из совсем молодых людей. Детей почти ни у кого не было. Иван был одним из первых. На свои первые митинги-шествия он заявлялся в мамином слинге — перевязи-люльке, как у цыган. Присутствовал вместе с Настей и на партийных собраниях, и во время наших исполкомов на квартире Лимонова «в Сырах». Оставлять его было не с кем.
Во время нападения вооружённых прокремлёвцев (бейсбольные биты и травматы) на собрание нацболов в московском горкоме КПРФ Насте, которая держала годовалого Ивана на руках, едва не досталось. Незадолго до инцидента я обрил её наголо, и нашист в угаре принял её за пацана. Бита уже была занесена над их головами… Вдруг у него в глазах что-то щёлкнуло, и рука опустилась, рассказывала она потом. Папа тогда, увы, отсутствовал — трудился поваром в ресторане, зарабатывая копейку, и защитить жену и ребёнка не мог.
Быт, необходимость кормить семью для таких людей, как мы с Настей, подчас более тяжёлое испытание, чем уличные бои или отсидка в тюрьме. Лишь редкие встречи с товарищами скрашивали будни. Однажды, заглянув втроём в гости к Лимонову, познакомились с его будущей женой, актрисой Екатериной Волковой. Катя с каким-то особенным чувством играла с крохотным ещё Ванечкой. А спустя год родился их первенец Богдан.
Политическая деятельность, однако, давала возможность заработка небанальным способом, и Настя решила попробовать себя в журналистике. Пусть и не сразу, трудоустроилась на kasparov.ru — новостной ресурс наших политических союзников того периода. Позже поработала и в других СМИ. Вершиной этого направления в её жизни были габреляновские «Известия». Те самые?— спрашивала с уважением её мама, Татьяна Константиновна.
Свой кипишной нрав Настя проявила и на работе. Трудолюбивая и добросовестная, она требовала того же и от других. И когда у Гарри Каспарова однажды перестали платить зарплату, возглавила забастовку новостников и корреспондентов. Именно она решилась написать шахматисту полное злой иронии письмо с требованием погасить задолженность. Это письмо мы с хохотом перечитывали порой. Кстати, долг тогда погасили моментально.
При этом Настя была крайне щепетильна и, как только наши политические пути с Каспаровым разошлись, подала заявление об увольнении. Позже, работая пресс-секретарём у бывшего замминистра экономики Ивана Старикова и столкнувшись с недостаточным фронтом работы, она поступила точно так же. Я не могу получать деньги просто так, объяснила она мне. Её регулярная зарплата была ой как нужна нашей бедной семье, но я поддержал её выбор и, вздохнув, отправлялся трудиться в ночные смены на московские фабрики и заводы.
Ещё один пример её черно-белой принципиальности — публичный, прилюдно, отказ пожать руку публицисту и уже «звезде» Олегу Кашину во время случайной встречи. Олег в середине 2000-х некоторое время тусовался с партийцами. Настя же, как и многие другие наши товарищи, считала дружественных журналистов «своими», чуть ли не нацболами, и не могла смириться с их переходом в стан политических врагов. Хотя речь, по-моему, шла о профессиональной мимикрии, не более.
В этих пертурбациях прошло несколько лет. Жизнь втроём в крохотной семиметровой комнатке бывшего общежития завода ЗиЛ социальной гармонии не способствовала. И мы стали искать счастья на стороне. Я — первый, признаю, она — следом. Итогом этих поисков стал временный распад семьи и её отъезд на родину, в Омск. Это случилось вскоре после ареста «эшниками» шестилетнего Ивана и его няни и нашей подруги Вики на Триумфальной площади. Я провожал жену и сына на вокзале под камеру Дмитрия Борко. Где-то остались кадры.
В Сибири Настя внезапно сменила профессию. Журналистика, с её склонностью к хайпу, ей опротивела. Закончила курсы массажистов (необходимую для этого сумму прислал я, получив её в качестве пожертвования Ивану от блогера Ильи Варламова), поступила учиться в медицинский колледж, трудилась по новой специальности, помогала людям поправлять здоровье. И, кажется, была очень счастлива этим обстоятельством. Оказавшись рядом, в Сибири, я наблюдал происходящие с ней благотворные метаморфозы.
Определенная склонность, интерес к медицине у неё были всегда. Однажды, не имея никакой специальной подготовки, кроме личного опыта с Ванечкой, она приняла экстренные роды в поезде. Вот как об этом писала «Комсомольская правда»:
«Водку! Нож! Нитки!— такими криками в ночи был разбужен забитый под завязку плацкартный вагон поезда «Москва — Чита». Ураганом, срывая на ходу с полок простыни и отдавая растерявшейся проводнице чёткие распоряжения: «Включите свет! Узнайте, есть ли в поезде врачи!», по вагону бегала пассажирка вагона Анастасия Пустарнакова. Повод для побудки серьёзный — в туалете рожала случайная попутчица, купившая билет на соседнюю полку…
«Шли самые настоящие роды, уже показалась головка малыша,— рассказывает Настя,— пришлось вспоминать, как это бывает. Я, подстелив на пол простыню, подставив руки под голову ребёнку, кричала «тужься», помогала дышать…» Младенец огласил вагон криком… И над всей этой компанией зависла Настя с ножом, перерезая пуповину. В это время поезд остановился на станции «Котельничи», и в вагон вбежала фельдшер».
В сибирский период жизни у Насти появилась мечта побывать в Индии. Она просто бредила ей, беспокоясь, получится ли когда-либо её осуществить. Получилось. И я рад, что смог этому способствовать, взяв на себя заботу о сыне и хозяйстве. За два с половиной зимних месяца Настя исколесила в одиночку весь полуостров Индостан, от Дели до Гокарны, а затем на самый север до границы с Непалом. Там она пожила в высокогорном ашраме и вернулась на родину совершенно счастливая.
Вообще, склонность к путешествиям у неё была особенная. Настя была маниакальным автостопщиком. Первой её поездкой стал вояж из Омска в Новосибирск. По примеру Егора Летова, наверное, чьей фанаткой она была. Второй вояж был из Омска в Москву. И было ей тогда 15 лет. В Москве, ещё до партии, она побывала на легендарной вписке друга нацболов и гуру автостопа Антона Кротова на Ленинградке. Всего же преодолела автостопом более 100 тысяч километров. Мы считали.
Прощаясь в прошлом году и понимая, что страшный диагноз не оставляет шансов, она презентовала мне самое дорогое — свой старый заслуженный атлас автомобильных дорог Евразии. Именно с ним она накрутила 2,5 витка вокруг глобуса. Вон он, потрёпанный, стоит на моей полке. Я же отдал ей синее, как купола Самарканда, кольцо со звёздами, которое привело меня однажды в самое сердце Центральной Азии. Я тоже путешественник, хотя и не такой матёрый, как она. Даже в «Лимонку» писал под псевдонимом Voyager.
А ещё Настя — поэт. Стихи всегда были важны для неё. Лучшие из них были написаны в самые трудные периоды жизни. Она читала их на Маяковских чтениях на Триумфальной площади в Москве в период Стратегии-31. Знаете, наверное. Вместе мы успели отредактировать сборник её стихов. Он уже издан для самых близких. Я хотел назвать книжку «Анестезия». Так она сама говорила о себе. Но Настя предпочла другое название — «Стрела». Свою фамилию на книжке она тоже поменяла. Настя Аксёнова, значилось там.
«А с Востока идут пацаны
Что избиты были ментами
Этим хватит своей войны
Эти больше не будут рабами».
Это её о приморских партизанах. Ведь юный Андрей Сухорада жил в бункере нацболов как раз той зимой, когда мы с Настей пересеклись впервые. Она знала его лично. Я — нет.
3 апреля 2019 года
Лёва Халиф
Начнём с пуговицы.
Она у него находилась на животе. Ну, чего там, держалась на двух жгутах ниток, продетых в четыре дырки в пластиковом теле пуговицы.
Лёва был неряшлив. Бывают такие неряшливые, неровно поросшие волосом евреи, в них, ввиду их внешности, даже не подозреваешь, что гнездится в них талант. А в Лёве он был. Я всегда подозревал, что он старый, а умрёт и ещё куда более старым.
Так и оказалось. Он умер в возрасте 88 лет.
У него был зычный голос. Роста он был высокого. Совсем не нужный ему пиджак плясал этой его пуговицей у меня перед глазами.
Я уехал из России в 1974 году и больше его не видел. В 1974 году ему было 44 года. Ровно половину жизни его он прожил без меня.
Передо мной единственная его книга, написанная ещё до моего отъезда в Россию. Называется «ЦДЛ», то есть Центральный дом литераторов, где его всегда можно было увидеть. Он все время похохатывал, клетчатая рубашка под вечно расстёгнутым пиджаком, развевающаяся эта на длинном стебле пуговица, на ногах… на ногах чуть ли не тапочки.
«ЦДЛ» — в книге 541 страница, офонареть можно. Последний её эпизод в гостинице «Маунт Синаи», Халифу 77 лет, он проживёт ещё одиннадцать лет после этого,— охуеть можно. Этот дородный Лёва — часть моей юности, его, шерстистого во все стороны, рано седого, летом с мокрым чубчиком, я не могу так вот дисквалифицировать его.
Всё то, о чём он писал — давно умерло нахер и не нужно современному человеку, разве что долгими зимними вечерами на холодной даче, греясь от кружки с чаем в их поздние восьмидесятые, будут читать старики. Кстати, их всё больше, только уж ЦДЛ даже я не помню, разве что запах жжёного шашлыка в помещении.
Мы до ресторана, молодёжь зелёная, участники семинаров Давида Самойлова и Арсения Тарковского, до ресторана никогда и не добирались, нашим владением было голое и прокуренное кафе с рисунками на стенах (потом их, кажется, затёрли или закрасили во время очередного ремонта). Там мы сидели, в нашем гетто-кафе. Но зато у нас были юные поэтессы, а у них там в ресторане их женщины — жопастые матроны с пудовыми ляжками, прячущие свои телеса в домотканых сарафанах и всё ещё себя воображающие хорошенькими.
Лёва Халиф — сатирик и критик ЦДЛ, был также и его завсегдатай, и голь кабацкая, никогда не отказывался от налитой рюмки или полустакана портвейну, хотя и каркал по поводу всего, его окружающего, подобно ворону.
Никогда больше этого не будет, ни Лёвы, ни ЦДЛ — ресторан Дома литераторов успешно отсоединился от Дома литераторов ещё в перестройку, и в скрипучих деревенских комнатах третьего этажа, где я некогда впервые прочёл свои стихи и меня заставила читать молодёжь семинаров.
В этих деревянных комнатах я пару раз обедал с банкиром Петром Авеном. И как-то объяснил ему доходчиво, почему нельзя орать на охранников. («Почему?» — спросил он на голубом глазу, и я на столь же голубом ответил ему — «Нам с ними умирать».)
Короче, нет того климата, нет того Дома, а теперь нет и Лёвы, вульгарного, умного, наблюдательного и насмешливого. И никому его Илиада-Одиссея о ЦДЛ не нужна. Усё. Конец. Finita la comedia.
[Лев Халиф «ЦДЛ» // Москва: «Центрполиграф», 2017, твёрдый переплёт, 542 стр., ISBN: 978-5-227-06632-9, размеры: 207⨉135⨉29 мм; ЦДЛ — стр.11–258]
Збарский Лев-Феликс
Он был такой долговязый, усатый. Сын знаменитого профессора из знаменитой двойки, которая бальзамировала Ленина, он, судя по анекдотам, был ещё мальчиком вместе с Лениным в эвакуации где-то в Таджикистане. (По другим источникам, это было в Тюмени.) Анекдоты или нет, но Лев-Феликс таки был с отцом-академиком в эвакуации, где отец его следил за температурой тела забальзамированного и всё такое прочее.
Благодаря ли связи через отца с темой Ленина, либо благодаря лёгкому сухому перу художника, Лёва стал в Москве плейбоем, у него была потусторонне вместительная мастерская в центре города. Я побывал в его мастерской, меня водила туда моя подруга, а потом жена — Козлик. (Ох этот Козлик, ох этот Козлик!)
Я вообще его и в грош не ставил, а зря. Потому что он вдруг совершил совершенно безумный иррациональный поступок — взял и уехал в Америку.
Вот не знаю, понимал ли он, что, не имея диссидентства в его личной биографии, станет на Западе никем, ещё одним художником, да и только, либо Москва и его место знаменитого плейбоя в Москве ему до смерти опротивели и он просто убежал в другую жизнь, вот не знаю причины, сорвавшей его с места. Вначале он уехал в 1972-м в Израиль, а оттуда — в Америку.
В Москве он был, как пишут о нём, «любимцем богемного общества» и «пользовался большой популярностью у женщин». Его первой женой (одной из) была знаменитая российская манекенщица — Рената Колесникова.
Там следует ещё целый сонм женщин — его любовниц, которых я здесь лишь перечислю: Марианна Вертинская, Людмила Максакова. Когда я уже не жил с Козликом, та осуществила свою детскую мечту, выспалась с настоящим советским мужчиной — Лёвой Збарским и осталась им довольна.
Я помню, что как-то прогуливался вместе с другим советским изгнанником, Иосифом Бродским, и Збарским по пыльной промзоновского вида улице в down-town Нью-Йорка. По Houston-street. Указывая на слепую стену, выходящую на Houston, Збарский буднично сообщил, что за этой стеной его помещение — мастерская, он её только что купил тогда. «Вот пробью три окна, будете ко мне приходить в гости». Однажды я, по-моему, пришёл к нему в гости с медсестрой, чужой женой, у которой была прекрасная белая жопа. Из озорства я хотел ему впихнуть эту девку, но она ушла со мной.
Я его уважаю. Он не связывался с родственниками и с бывшими друзьями в России. Как в другую жизнь поселился.
Умер в мой день рождения 22 февраля 2016 года в возрасте 84 лет. От рака лёгких. Денег ни у кого не просил. Умер в хосписе.
Получается, что уехал в 1972 году, он прожил за границей 28 + 16 = 44 года, то есть большую часть жизни.
Сцепив зубы, высокомерный и одинокий. Вот тебе и московский плейбой.
Он серьёзно интересовался моими идеями. Начинал с насмешек. Но потом искренне: «А что вот предполагаешь делать с людьми искусства?»
Chapeau, Лев Феликс!
Ещё он был весь прокуренный, как рыба бывает просоленная.
Возможно, он был другом Боярского, которого я терпеть не могу, с его шляпой. Во всяком случае, помню, что его часто упоминали рядом со Збарским: Збарский, Боярский… Боярский, Збарский… Так как-то…
Травник
Начиная вспоминать его, неизменно вспоминаю как мы вошли в эту уютную долину, справа предгорье, и кедры наверху краснеют стволами, слева лес и загадочной стоит повозка, оглобли подняты.
Тревожно. Так начинаются важные приключения.
Там оно и началось, важное приключение моей жизни. Повозка, как потом выяснилось, принадлежала ему, «травнику Семёну», и то, что мы, не разобравшись, приняли за накошенное сено, были лекарственные травы и корни.
Фамилию его я с трудом вспомнил. Пирогов его фамилия была.
Он лечил людей травами и кореньями. У него был небольшой хутор недалеко от казахстанско-русской границы.
В полсотни шагов от обнаруженной нами повозки с поднятыми оглоблями два деревянных столба в виде идолов обозначали вход на его территорию, несколько изб, сушилка — сушить растения, ульи для пчёл, домик, где он опоражнивал соты, сарайчики. У меня имеется полный комплект цветных фотографий, сделанных уже после того, как нас там у него арестовали в горах, 7 апреля 2001 года.
Мужик совсем простой, крестьянский, он мечтал о создании у себя на хуторе фитолечебницы, вырыл для этого пруд, даже столики у пруда заказал поставить, новую пахучую баню срубил, но кто ж в его глушь поедет.
Лечить умел, в корнях и растениях разбирался, только кто ж в его глушь поедет. Ближайший крупный город — Барнаул, а туда чуть ли не полтыщи километров, кто ж поедет?
О травнике Семёне есть информация в написанной, но ещё не опубликованной моей книге «Будет ласковый вождь…»
Иосиф и его братья
С ним связаны несколько эпизодов моей второй московской жизни.
Эпизод первый.
Возможно, это был 91-й год или 92-й год. Я иду на Тверскую улицу в уродливый тогда отель «Интурист». Он выглядел как блочный панельный дом и портил Тверскую, в десятках двух шагов вниз на углу Тверской перед панорамой Кремля сидел приземистый «Националь», вот где было роскошно, шикарно и здоровски. «Интурист» имел 11 этажей и просуществовал до 2002 года.
Так вот. Они ждали меня у отеля. Я иду на Тверскую улицу в уродливый отель «Интурист», где моя белорусская издательница из «МОКА-Пресс» сняла себе офис. Платиновая блондинка Ольга, за нею её водитель, он же охранник, с пистолетом ТТ и замыкаю шествие я.
Напротив офиса Ольги на кушеточке изодранного красного дерматина полудремлет мордатый парень, прижимая к груди автомат Калашникова.
— Чей автоматчик?— спрашиваю я Ольгу, войдя в её офис.
— Депутат Иосиф Кобзон,— бросает Ольга.— Сегодня охранник один. Обычно их у двери двое-трое сидят.
— Так что, Эдуард Вениаминович, давайте договариваться?..
*
Эпизод второй.
Полуподвальный лабиринт на 2-й Фрунзенской улице. Дверь мы себе пробили сами из окна. Она нам стоила кровавого пота, эта дверь. Фундамент дома был скалой из арматуры, цемента с камнями, и били мы его до нужных размеров несколько недель. Зато у нас отдельный вход.
Год это, кажется, был 1996-й. Два зловеще респектабельных джентльмена спустились к нам в полуподвал и вручили дежурному (пацан сидел под красно-золотой табличкой «Дежурный по полку»):
— Кто у вас тут директор?
— Директор?— Дежурный не представляет, что такое директор.— Вождь?— переспрашивает дежурный.
— Главный ответственный товарищ,— уточняет второй джентльмен.— Передайте ему этот конверт (протягивает конверт). И да, распишитесь за получение.
Я появляюсь через час или два.
Дежурный:
— Вождь, тут какие-то перцы приходили. Наглые такие, вот, просили конверт передать.
Некоторое время ищет конверт во всех ящиках многоярусного стола. Находит. Вручает мне. Я вскрываю.
Адресовано руководителю, подписавшему договор с Москомимуществом.
«Уведомляем вас, что Москомимущество уступило нашей организации права на ваши долги за ЖКХ».
И перечисляются в столбик аккуратненько наши, нам показавшиеся огромными, долги. И ещё более безжалостные пени.
— Прошуршав подошвами начищенных туфель, два респектабельных джентльмена поднялись по нашей доморощенной лестнице и вышли (там из всех щелей дуло) в нашу кое-как приваренную дверь,— рассказывает мне, пока я разглядываю бумаги, дежурный.— Сели в автомобиль. Укатили.
— И чего, не поинтересовались, что у нас за организация?
— Нет,— удручённо ответил дежурный.
— Хм. Обычно нас все боялись, с политикой никто не хочет связываться.
— Вы ещё прочтите там, на последней странице, красным шрифтом в красной рамке.
Следуя указанию дежурного, переворачиваю шестистраничное издание их требований и обнаруживаю:
«Предупреждаем руководителя организации г-на (дальше шла моя паспортная фамилия), что в случае невыплаты в течение двух суток (сорока восьми часов) указанных сумм задолженности вся ответственность за невыплату долга ляжет на него лично. Со всеми возможными неприятными последствиями».
— Круто,— сказал я дежурному. И пошёл в свой кабинет звонить.
Кабинет — это было громко сказано. Два обшарпанных стола, составленных буквой «Т», убогий склеенный шкаф, красные плакаты на стенах. До этого помещение выглядело ужасно. Сейчас, на наш взгляд (это был, навскидку, 1996 год), помещение выглядело прекрасно. Нацболы под руководством художника Миши Рошняка выкрасили помещение в белый цвет, плинтусы — в черный, полы в красный.
В кабинете я принялся звонить нашим, как мы их называли «силовикам», и партийным, и дружелюбным, тем, кто мог оказать нам в случае надобности силовую поддержку. Просил всех прийти к 19 часам. Поскольку у нас ЧП.
Собрались. Народ в ту пору выглядел (а это, получается, 23 года тому назад) куда агрессивнее, чем сейчас. Носили ещё тяжёлые косухи-кожанки, у рокеров или бывших рокеров по торсам струился металл — цепи там всякие. У кого ещё были длинные волосы, кто уже расхаживал как скин.
Я изложил им проблему. Сказал, что некая наглая организация купила у Москомимущества наши долги и вот теперь предъявили нам предъяву. Платите, руководитель лично ответственен. Что они имеют в виду?
— Если б хотели решить по закону, то пригрозили бы судом,— сказал уж не помню кто.
— А как называется их организация?
Я, спотыкаясь, зачитал с бумаг, оставленных нам джентльменами, название организации, довольно длинное название.
— Там есть их адрес и телефон?— спросил уж не помню кто.
— На хуй нам разговаривать с ними? А вот адрес пригодится, пойдём и перестреляем их там. Скажем, двоих застрелим, остальные отлипнут,— предложил один дикий человек, он потом погиб в Сербии.
*
Собрание «силовиков» меня не успокоило.
Я выслушал всех и поступил по-своему. Я позвонил одному знакомому журналисту. Встретился с ним.
— Ты притворяться умеешь?
— Да вроде могу, хотя в театральную студию в школе не ходил.
— Сможешь пойти в тыл к врагу и выяснить, что это за организация? Притвориться нужно будет лишь чуть-чуть. Отрекомендуйся журналистом и попроси о встрече.
Парень так и сделал.
Встретился с одним из их руководителей у него в кабинете. Когда руководитель вышел, мой журналист нырнул под стол, выгреб добрую половину содержимого мусорной корзины (бумаги) и запихал себе в обширную журналистскую суму. И притащил мне. Разгладив бумаги утюгом и внимательно прочитав дома содержимое бумаг, я извлёк оттуда одно знакомое мне символическое имя-звание-должность, Иосиф Кобзон. Выяснилось, что Кобзон был учредителем (точнее, одним из учредителей) организации под названием «Щит и лира», и уже «Щит и лира» была одним из учредителей той организации, которая на нас наехала.
Юридический адрес «Щита и лиры», где бы вы думали, находился? А в здании на Каретном ряду, на Петровке, 38, в одном из кабинетов. Тогда ещё так делали, по простоте душевной.
Трындец. Было ясно, что дело тёмное. Прошли первые сутки, 24 из 48 часов, отведённых мне для уплаты задолженности.
У меня был факс. Я привёз его из Парижа, Франция, в марте 1994 года, и он послужил мне верой и правдой. Это я вскользь упомянул о факсе. Сейчас он выйдет на сцену. Точнее, появится важным элементом в этой уже детективной истории.
Пока он стоял под настольной лампой в дальнем углу living room квартиры на Калошином переулке. Был включён в сеть, иной раз попискивал, не ожидая, какая роль ему уготована.
Разложив перед собой бумаги, я набрал номер телефона офиса великого человека. Вероятно, это был тот же самый офис, проходя мимо которого, я видел охранника с Калашниковым. Мне ответила секретарша.
Я чуть-чуть позаикался (тогда я был на 23 года менее нагл, чем на сегодняшний день). Знаете, что, терпеливо выслушав часть моих заиканий, предложила мне секретарша. «У нас есть в офисе факс. Пришлите Иосифу Давыдовичу факс, чего вы от него хотите».
Я взял страницу из тех бумаг, которые мой разведчик-журналист выкрал из мусорной корзины. Подчеркнул там про «Щит и лиру» и, приписав на поле «Иосиф Давыдович, это очень важно», послал факс.
Мне позвонили через ну десять минут, очень быстро. Секретарша: тон очень серьёзный и перепуганный. «Иосиф Давыдович просил вас не сообщать никому сведения, изложенные в факсе. Там ошибка. Не беспокойтесь, всё будет в порядке. Вам ничего не придётся платить и, разумеется, никакой личной ответственности».
Как она сказала, так произошло. В течение суток приехали двое зловещих джентльменов, извинившись перед дежурным, и настоятельно забрали из штаба бумагу с красным предупреждением в конце. Мы её еле нашли.
Потом его офис в «Интуристе» взорвали. Я в это время был в Государственной Думе. Такое ещё было возможно в те времена. Я слышал взрыв, а когда вышел из здания, то с угла Волхонки и Тверской можно было видеть висящий с окна его офиса раненый кондишен. Но это не эпизод, это к вопросу о тогдашних нравах.
*
Эпизод третий.
Мы сидим рядом на каком-то телешоу. Я вижу его в профиль, и он смотрится для меня памятником, национальным монументом, бронзовой головой и торсом. Он называет меня «Эдик», и мы практически во всём согласны, он только чуть-чуть пожурил меня пару раз за резкость.
*
Видите, как интересно я о Кобзоне написал. Так интересный же человек был. Не сидел, как тихая мышь, а вовсю в жизни участвовал.
Да и 90-е годы были куда интереснее путинских.
Первая русская хиппи
Когда она умерла, Алёна Василова, то оказалась моей сверстницей, то есть родилась, как и я, в 1943 году. А умерла 30 августа 2018-го, то есть прожила 75 лет.
Там, где в Садовое кольцо впадает сегодня Каретный ряд, вдоль по середине Садового кольца был узкий сквер и несколько домов. Сейчас там с душным тяжёлым топотом покрышек катится поток автомобилей в обе стороны.
А тогда вот на втором этаже жила модная девочка Алёна.
Она была родственницей Лили Брик и действительно была на Брик похожа. Только что была на добрую голову с лишним выше Лили Брик.
Ходила, помню, в бархатных серых или вишнёвых штанах, и бархат был зачёсан у неё на штанах во все стороны.
Жили они, две женщины, мать и Алёна, без мужчины, то есть мужчины у них были, но они их у себя не поселяли.
Мать была членом секции драматургии в Союзе писателей СССР. Вот не помню, сам ли я ходил как-то в секцию драматургов, либо меня привёл туда поэт Генрих Сапгир. Секция помещалась в подвале, и все части этого подвала, ну, например, даже его отопительные трубы, были обшиты бархатом. И мама Алёны была в бархатном платье. Подозревать, что обшитый бархатом подвал имеет отношение к бархатному платью и бархатным штанам женщин Басиловых, не стану.
Мама — монументальная, старомодная, грудастая, великоотечественная и высокая. Сентиментальная и боязливая, о, эта мама!
Я знал троих мужчин Алёны. Первый — поэт Лёнька Губанов, потом португалец-дезертир из португальской армии в Анголе Антонио (этот даже нашёл меня позже в Париже), и потом лидер группы «Цветы» Стас Намин, внук Анастаса Микояна, советского политического деятеля.
Этот длинный остров растительности и дом (может быть, это был единственный дом на середине Садового кольца, сохранившийся ещё в те времена) неизменно связаны у меня с сумерками. Возможно, потому, что я приходил туда только по вечерам? У меня была девушка — Елена по кличке Козлик. Чужемужняя жена. У Козлика была белая собака — королевский пудель. Иной раз мы приходили к Басиловым с этим пуделем. Потому что у Басиловой тоже был пудель, только бежевого цвета.
Я не очень помню, я был влюблённый мальчишка, по сути дела. Меня, конечно, поражала вся эта московская экзотика, но так как мои мечты были куда смелее московской экзотики, я её выдерживал.
Мать постоянно находилась где-то в коридоре, или на кухне, что ли, по-вечернему одетая и светская. Посему я даже и не помню, было у Басиловых в той коммуналке две комнаты или одна. В той комнате, где мы всегда находились, лежало множество подушек, с хвостами и без хвостов.
И я помню, летало словечко «хиппи» и жгли какие-то ароматы. Не уверен, были ли это ароматные палочки.
Я застал Антонио, красивого дезертира, похожего на футболиста. Успел увидеть в те времена Стаса Намина пару раз (сейчас могу его видеть сколько угодно раз, но на кой он мне сдался). Ну и Губанова, этот кусок московского хулигана.
Мне даже теперь кажется, что это в моём присутствии Лёнька просунул поверх цепочки руку свою с ножом и так напугал мать Алёны, что драматургшу пришлось отпаивать валерьянкой. Впрочем, я не уверен, что видел воочию, возможно, мне так красиво об этом рассказывали…
Все эти встречи на острове на Садовом кольце долго не продлились. И, по-моему, в то время там не появлялся Губанов, кажется, они были в ссоре. Но он там незримо присутствовал, это факт. Его поминали, Сапгир — благожелательно покряхтывая, мать Алёны с ужасом, многие — с восторгом, были и такие, что с ненавистью.
Вот я не помню, ходил ли я к Басиловым уже после того, как разбил о голову Лёньки бутылку Славы Льна, или это было до?
Губанов, конечно, не мог пройти мимо Басиловой. Я думаю, ему хватило бы и одной наживки — родственница знаменитой в русской литературе Лили Ерик, пассии самого Маяковского, а уж то, что она была чуть ли не первая русская хиппи, и страшно модная, его, видимо, сводило с ума.
Помню её белое лицо, вечную сигаретку, прокуренный голос. Высокая, она была сложена как греческая статуя, я бы, наверное, влюбился в неё, но уже влюбился в Лену. Пахло сиренью, бензином немногих автомобилей, а если вдруг ещё начинался дождь, прибивал летнюю московскую пыль, становилось чудесно как хорошо.
«У вас тут как на даче»,— говорили матери и дочери комплименты их гости. Основной состав этого салона Басиловых были друзья дочери, но попадались и друзья мамы, забытые мною советские корифеи, и тогда вспыхивали острые конфликты поколений.
А острые конфликты в присутствии красивых женщин, как мы знаем, могут и зашкаливать вдруг, тональность разговора повышается, кто-то злой и побеждённый вдруг убегает.
Убегало поколение отцов, что называется, ухажёры маменьки. Более горластые, более уверенные в себе «смогисты», «самое молодое общество гениев», клало советских на лопатки без проблем.
Я, очевидно, тоже участвовал в этих гонениях с улюлюканьями, хотя вот на дистанции полсотни лет мне кажется, что я не вмешивался. Что опровергается моим темпераментом, я всегда лез везде и, наверное, не отказывал себе в участии в травле, пусть сейчас мне и кажется, что я даже жалел этих изгнанных дядькив.
Если взять отдельно бархатные штаны в обтяжку, разрисованный и вышитый топ, то вне самой плоти Алёны внутри никакого эффекта Басиловой не получится. Черты лица её были крупнее, чем у Лили Брик (нет-нет, я ориентируюсь на её фотографию молодой, в балетной пачке, возможно это была и не фотография, но кадр из фильма «Барышня и хулиган»), так вот, лицо Алёны было крупнее и от того злее. Но темперамент её, вероятно, если судить по прожитой Алёной жизни, был менее хищный, чем у Лили Брик.
На фото, подаренном нам, молодой паре, в последний момент, когда мы уезжали за границу, Брик скромно написала: «Леночке и Эдику, не очень красивая Лили…»
От Басиловой у меня не осталось фотографий, от Лили Брик в фотографиях Лёвы Нисанова оставались некоторое время. Затем сам Лёва умер в Соединённых Штатах, довольно рано умер, и куда делись те фотографии? У его вдовы Тамары? Томки?
Вся история Басиловой Алёны — девушки Губанова — держится на необычности места действия (длинный такой Long-Island вдоль Садового кольца, пустынная ночная Москва), на маскарадной фигуре гипсового пионера из Кунцево. Так я воспринимал Лёньку Губанова. На тех баснословно далёких временах другой эпохи.
Когда именно Long-Island снесли, а семью переселили, я упустил из виду. Почти в то же самое время моя жизнь передислоцировалась из Москвы, и для Басиловой у меня наступило внеисторическое время. Опустился тёмный занавес.
Алёна Басилова сама ушла со сцены. Она не была достаточно амбициозна, чтобы оставаться на сцене. Ещё мне кажется, что у неё болели зубы.
Мне теперь также кажется, что её мать, монументальный драматург, была более и романтична, и амбициозна, чем дочь. А тогда все восклицали: «Алёна! Алёна!»… Это, видимо, было влияние поэта Губанова — «я сегодня стреляюсь с Родиной!»
И ничего ты, Лёнька, с Родиной не стрелялся. Ломался только под стреляющегося с Родиной.
Закадычный дружок Губанова — Губанов называл его «поручиком» — Вадик Делоне закончил свой земной путь в Париже. Потомок коменданта Бастилии de Louney (кажется, так) замкнул семейную мёртвую петлю там. Любил выпивать во французских кустах за фонтаном Медичи в Люксембургском саду, где в фонтане плавали красные перистые рыбы. Делоне был красивый мальчик-алкоголик.
Басилова была красивая рослая девочка моего возраста. Первая хиппи России. Вероятно, таки-да — первая хиппи. Ушла со сцены одна. Только мы её вспоминаем. Я вот, Стас Намин… У него была первая хиппи рок-группа в России под названием «Цветы».
Всё о Басиловой.
Занавес.
Гладилин
Он меня никак, видимо, не удивил, ни его жизнью, ни книгами, потому что, пытаясь увидеть, что называется, «умственным взором», я вижу невысокого человечка в сером, чуть ли не фланелевом костюме с сухой рукой (хотя сухая рука ведь была у писателя Максимова).
Он был чуть моложе Евтушенко/Вознесенской компании, он родился в 1935 году, в то время как они в 1932-м. Окончил, сука серая, Литературный институт, печатался в журнале «Юность». В 1956 году (я ещё учился в средней школе) он уже создал «Хронику времён Виктора Подгурского», говорят, это была книга протестная и молодёжная.
В 1976 году, то есть через двадцать лет, эмигрировал во Францию. Там он написал, судя по названиям, ещё более банальные книги. Одна называлась «ФССР» (то есть Французская Советская Социалистическая Республика), а другая — «Жулики, добро пожаловать в Париж!» То есть дал волю своему раздражению по поводу новой страны. Судя по названию первой, Франция увидена была им как имеющая зёрна тех же явлений, что и Россия, и он предрёк ей будущее Советской Французской Республики. А судя по названию второй, он увидел во французской действительности грандиозные возможности воровства в магазинах (shop-lifting) и, похохатывая, приглашал мелких воришек на свою новую Родину.
Есть такие люди с мелкими мыслями, они представляют себя оппозиционерами, но просто у них обывательское мелкое мышление вечной брюзги. Вот таким и был Гладилин, таким вечно, то пирожок пересолят, то носки окажутся на полразмера меньше, чем на них заявлено.
Ясно, что когда он умер, в 83 года, 25 октября 2018 года, я долго вспоминал, где я его видел. Наконец вспомнил, а на конференции в Университете Южной Калифорнии, среди «нём» и Эдварда Олби. Вот где я его видел!
Совершенно излишний человек своей эпохи. Дубль или трипль. Его ровесники брюзжали громче его. И ужасались больше. Копии всегда не в цене, живут где-то сбоку жизни. На хрена попу третья гармонь, когда у него уже две есть, скажем, Войнович и Александр Зиновьев или Максимов.
Неоригинальных, таких, как Гладилин, их набралось на целую когорту диссидентов. И те, что уехали во Францию, и те, что улетели в США, и те, что умотали в Израиль, были очень скучные, очень серые, плохо талантливые, совсем не талантливые люди. Но жили, питались, варенье на языки клали, у меня к ним просто отвращение, к этим Гладилиным. И ещё каких-то девок себе доставали, удивительно, почему ни одна не оттолкнула, не сказала: «не хочу с тобой, рожа у тебя скучная». А может, говорили, и не одна, а я просто не знаю? Бога нет, если такие водятся и доживают зачем-то до 83-х лет? Неужто предназначение, неужто вакансии у Бога есть и для серых людей и он набирает в серые люди?
Актёр Караченцов
Караченцова я увидел в ресторане «Распутин», что на Rue de Bassano, что на Елисейских полях в Париже. Несколько этажей под землю.
Караченцов стоял рядом с Марком Захаровым и с девкой-актрисой и ещё с Евтушенко, и было это у стены ресторана, справа.
Позднее подошла и владелица ресторана, мадам Мартини. Оттуда, из того времени, на меня так и пышет жаром, поскольку все там находившиеся были молодые, телесные, плотские. Даже залакированная мадам Мартини. Это середина 80-х, я полагаю. А сейчас большая часть той толпы перемёрла, а иные стали не горячи, напротив — холодны.
И я, их Мастер, режиссёр, кукловод (ибо это моими глазами я обладал ими), также не уверен, что доживу до июня, до мая-то доживу, скорее всего.
Они тогда привезли «Юнону и Авось». Почему вместо Вознесенского был Евтушенко, чёрт его знает, но вместо Вознесенского, автора Юноны и Авося, был Евтушенко в большом сером костюме, висевшем на нём, как на манекене, как на огородном пугале.
Появилась и исчезла и моя любовь той поры, мой демон — Наталья Георгиевна Медведева — певица кабаре «Распутин» (произносилось с ударением на «ин»). Стесняясь всей этой шикарной толпы, как потом выяснилось, она ушла в тот вечер из кабаре и не выступала.
Тогда все себе позволяли простые подлости и гадости, не расчётливые совсем, так, подлости и гадости просто от избытка горячей юной крови.
А любимым моим фильмом тех лет было «Последнее танго в Париже», где циничный актёр Марлон Брандо в гороховом пальто метался по экрану, и мне казалось, что он похож на меня, и Мария Шнайдер чудила, убегая от мальчишки-режиссёра к самцу американцу. И Наташе казалось, что она похожа на Марию Шнайдер, и так и было.
И в фильме была сцена, где голый Брандо встаёт, чтобы взять пачку масла, и втирает масло Марии Шнайдер в анал для того, чтобы въехать ей в задницу. Нас это всё возбуждало. И декор — фон картины был нам с Натальей хорошо знаком, квартирные хозяйки, консьержки — мы снимали квартиры, и сцены в фильме были нашими.
Не могу знать, каким видели актёры «Юноны и Авося» их Париж, но мы там тогда стояли, смешавшись в жёлтом свете ресторана, и помню, что было очень жарко, и оттуда даже сейчас сюда, в зябкую Москву, пышет этим жаром молодости.
Караченцов? На нём был костюм того же типа, что и на Евтушенко, расшлёпанные губы выражали скорее смятение. Носатый Захаров держался увереннее всех.
А девка-актриса представляла из себя обыкновенную тайну, которая случится непременно, если ты с ней пойдёшь (никогда ничего подобного не случается, тайна исчезает, но ведь казалось и кажется опять и опять…)
Это далеко в будущем проекте ещё, что Караченцов попадёт в аварию, что Наташа Медведева умрёт от овер-дозы, что смиренно умрёт как-то мадам Мартини, а завсегдатаев кабаре «Распутин» вначале прополет время, а потом грубо затопчет сапогами оставшихся (как племянника Аднана Кашогги, он часто бывал в кабаре).
В 1990 я приеду к младшему Любимову в Москву на его передачу «Камертон», где против меня будет выступать Марк Захаров, в тот же приезд в ресторане на Лесной улице я буду сидеть с Листьевым, Боровиком-младшим, с Любимовым, с молодым Сашей Плешковым, немолодым уже Юлианом Семёновым, а потом их всех съела эпоха, бурно чавкая, неряшливо и торопясь.
Вот тебе и Караченцов. Много лет он прожил в бессознанке. Как Юлиан Семёнов. Затем всё же погиб во второй раз.
Так и поймите, я его видел один раз. Там. Глубоко в недрах «Распутина», там, где, как в недрах планеты Земля, бурлила Магма.
Черты лица его я не помню.
Оскар Рабин
Об Оскаре Рабине я всегда думал: «Старик», в то время как отец его жены, Евгений Леонидович Кропивницкий, дедом мне не казался. Может потому, что Оскар был демонстративно лыс,— выглядел состарившимся, возле ушей — клоки полуседых волос, а Евгений Леонидович прочно всегда был Евгением Леонидовичем, спокойным мудрецом и гуру без надрыва.
С тех пор я Рабина и помню истеричным сутулым высоким, но постепенно уменьшавшимся стариком.
Художники устроили свою бульдозерную выставку, кстати, под нашим, поэтов, влиянием.
Всё-таки провинциалы тогда ещё, Вагрич Бахчанян и я, тосковали по литературной школе, по направлению, по «изму». Без «изма» мы чувствовали себя неполноценными. На некоторое время я (помоложе Бахчаняна) примкнул в Москве к смогизму. Но так как не был я одним из основателей СМОГа, то тосковал.
Как-то, под предлогом, что мы уезжаем из России (Вагрич так и уехал довольно быстро, а я в сентябре 1974-го), нам удалось затащить в фотографию, в комплексе ресторана Прага она помещалась, поэтов Игоря Холина, Генриха Сапгира, одного из смогистов — Славу Льна, и нам сталинские зубры советской фотографии изготовили (всё как полагается: манерные позы, тренога, вставляемая-вынимаемая пластина) прекрасненькое групповое фото, оно могло быть изготовлено с таким же успехом и в 50-е, и в 60-е годы.
Договаривалась, что мы приедем и снимемся вместе — моя тогдашняя уже жена Козлик — Лена Козлова. Позднее, осознав себя всё же конкретными поэтами (я-то как раз и был наименее конкретным), мы согласились называть себя группой «Конкрет». От группы остались в живых двое: Слава Лён и я. Пока остались.
Так вот, глядя на наше шевеление, художники, крутившиеся на том же общественном поле: злословящие, размышляющие и выпивающие алкоголи вместе, решили также действовать. Организовали в конце концов выставку, которую в конце концов пришлось называть бульдозерной, поскольку на неё пустили бульдозеры.
Сапгир без труда сбил Рабина. Они дружили ещё детьми, и Сапгирская караимская удаль, возможно, давала Оскару пример хулиганства и форменных безобразий всю его жизнь. Отец Сапгира вроде был какой-то портной, что ли, и людей искусства, вероятно, ни хрена не понимал. Отец Рабина умер, когда Оскару было 5 лет. Потому пацаны и ходили в семью к Евгению Леонидовичу, где только искусство и царило. Евгений Леонидович — художник и поэт, мать Ольга Потапова — художница, дочь Валентина (на ней в 1950 году и женился Рабин) — художница.
В то время, а это самая середина 70-х годов, все ещё хотели продолжения оттепели и верили в это продолжение. Повеселели после успеха давления на власть (евреев вынужденно стали выпускать в Израиль) евреи. Уже не так было душно в СССР и в Москве. Часть творческих людей уехали. Но нашлось и немало таких, кто уезжать и не собирался. Тому же Сапгиру было хорошо в Москве. Талантливый и изобретательный Сапгир занял этакое место патриарха детской авангардной поэзии и жил себе вполне обеспеченно.
Ну в общем как-то сварганили выставку. Её попрали и поломали бульдозерами. Зато следующую — взяли и разрешили. (Я ещё присутствовал на той выставке и чуть ли не наутро с молодой женой улетел в Вену.)
Нет, ничего у них дальше с властью не получилось. Никакого сотрудничества. Никакой оттепели-2 не произошло.
Около этого времени как раз у Рабина был пик здоровья, душевных сил и влюблённости (в 1974-м ему было 46 лет). Но не в его жену Валентину, кто-то привёл Оскару малолетку. Звали её, я помнил, как, да уже не помню, этакое исчадие ада и злая разлучница. Все звали её, по-моему, Элька, она сидела на наркотиках (так говорили), и Оскар ради неё ушёл от Валентины, а затем, усугубляя ситуацию, в неё влюбился сын Рабина и Валентины. Сашка.
Там чёрт-те что творилось. Сапгир только крякал и ухмылялся, поскольку именно в таких ситуациях чувствовал себя как рыба в воде. Мне он по секрету сообщил, что Оскар вкалывает себе некие средства, повышающие потенцию. Потом эта юная Элька вдруг умерла. Юные всегда умирают вдруг, насколько я помню, от овер-дозы она умерла.
Оскар, посетовав на судьбу (злой рок!), вернулся к Валентине. Сашка, вот не знаю, что стало с Сашкой. Вот, увидел в Википедии, умер в 1994 году.
С 1978 года по туристической визе живёт во Франции. Умер (7 ноября 2018 года), находясь во Флоренции. От помоек в Долгопрудной и Лианозове до Флоренции — какое расстояние! Селёдка на советской газете его шедевр. 7 ноября умер, в день рождения Советской власти и моего сына Богдана.
Лаосец
Вообще-то, когда состарился, он стал совсем похож на… тут я задумался, на кого же? Скорее, на лаосца, поскольку если б корейца, то лицо было бы темнее и компактнее, как мужской кулак.
А Битов, да, на лаосца был похож последние годы жизни. Я, правда, в эти последние годы его не встречал, но по телевизору у меня впечатление. Он в одном углу Москвы где-то жил, я — то у Комсомольского проспекта на 3-й Фрунзенской, то на Ленинском проспекте, а где он, Битов, в Москве обитал, понятия не имею.
Была ли у него жена в момент смерти, были ли дети, мне про то неведомо.
Я вообще человек не любопытствующий, редко кого когда добивался встретить, но вот если жизнь сталкивала, то не сопротивлялся.
С ним меня столкнула ненадолго моя молодая московская жизнь вначале. Он вроде был любовником одной красивой простецкой девки из рабочей семьи, которой я и хотел бы быть любовником, да не получилось. Московская девка из хорошей, отлично зарабатывающей московской семьи, ну, бывают такие семьи, где и настойка, и наливка, и деньги есть, и дочери красивые, и все умытые и постиранные, и к ним приятно прийти. Брусника, рябина там лежат и жёлтые листья в кувшинах… В Москве тогда стояло лето, я жил молодым парнем на Погодинской улице в девятиметровой жёлтой комнате.
Её, как часто бывает в России, звали Наташа. Я был влюблён не в неё, но вот она ко мне приехала, Наташа, и не мог же я ей отказать. Не, не занимались сексом. Нет! Нас сплачивало вот что общее. Она с Битовым мужу изменяла, а я был влюблён в замужнюю девку, хотя и молоденькую, так что тут много общего.
Все тогда в каких-то отношениях состояли.
Что о нём тогда было известно. Что он написал «Пушкинский дом» и что это «гениально»!
Не буду язвить против прошлых нравов, книгу эту я намного позже в руках держал, листал, читать пытался, но несерьёзной она мне показалась, и, собственно, в порядок происходящее в ней я так и не поставил. Сам я в те годы писал ещё стихи, и инфантильный молодой интеллигент, его герой, меня не интересовал.
Говорили, он дерзкий и запросто может в морду дать, но я к тому времени уже тоже имел ту ещё репутацию после того, как разбил бутылку Славы Льна, витую и антикварную, о голову другого их московского прославленного хулигана Лёни Губанова. После моего Салтовского поселка, его шпаны, после работяг завода «Серп и молот», где я работал в литейке, московское интеллектуальное подполье умиляло меня своей детскостью. Я был серьёзный парубок, до возраста 23 лет ходил с опасной бритвой в нагрудном кармане. Вообразите! С опасной (увёл от отца, мне ещё нечего было брить).
Ну, с Битовым меня ничто не разделяло. Ни женщина, ни амбиции. И в те два-три раза, что наши пути пересекались в Москве, мы с ним не враждовали, скорее отнеслись друг к другу по-братски. Я ему наливал, он мне протягивал тарелку с закусками, при этом он и Наташа обменивались спокойными улыбками, дескать, «он о нас знает, good boy». Как-то так.
А затем, через годы, он обнаружился вдруг в Литературной делегации советских писателей в Страсбурге, а я был в делегации французских писателей. И в память прошлого я его пригласил. Пошли мы в старый город, в квартал, называемый La Vieille France — Старая Франция, хотя это была бывшая старая Германия, о чём свидетельствовала и пища в ресторанах, и её пиво. Эта часть европейской территории изначально говорила на диалекте германского языка. Старики до сих пор говорят, молодёжь выучила французский, посему на улицах можно услышать эту какофонию двуязычия.
Вообще-то мне говорили, что эта часть Европы за сто лет шесть раз переходила между Германией и Францией.
Битов был очень доволен. Советским, им, насколько я помню, давали на выезд за рубеж гроши. А я был абориген, я тогда уже неплохо зарабатывал и охотно угощал его весь вечер.
Я, может быть, где-то и законспектировал наш с ним разговор в Старой Франции, но тетради той поры у меня либо пропали, либо находятся в недосягаемости, потому, о чём мы говорили, вспомнить не могу.
Было лето, не то начало осени, мы сидели на открытом воздухе, нам прислуживали официанты в неопределённых национальных костюмах, скорее всё же более немецких, поскольку крахмальные кружевные воротники не есть французское украшение женской одежды.
Там были какие-то уличные костры через каждые два-три столика, скорее жаровни, тщательно оправленные в железо, там обильно пахло жжёным деревом.
Сейчас бы я ни за что не пошёл сидеть с ним в старой Германии, переделанной под Старую Францию, тратить целый вечер в память о нескольких встречах в нетрезвых компаниях в Москве. Но тогда во мне ещё теплились остатки человечности.
Помню (вот как из далёкого далека обрывки разговоров медленно достигли моих ушей), я спросил его что-то глупое, типа: «Как пишется?», и он засыпал меня названиями своих произведений.
Я слушал и молчал. Признаюсь, я не умею хвалиться успехами. Когда я был молод, в первых моих книгах я делился с человечеством моими несчастьями. Странным образом человечество по самому только факту, что я говорил об этом, решило, что я этим горжусь. Ну как же, позвольте, человек рассказывает, что ему изменила жена, так он не гордится, он жалуется… Сейчас мне хоть десять жён измени, я буду абсолютно спокоен…
«Пушкинский дом»,— спросил я, чтобы сделать ему приятное.
«Ну как же, переиздают»,— сказал он таким тоном, что, мол, о чём спрашивать, само собой разумеется…
Я ничего не сказал о моих книгах, потому что он не спросил.
Мы крепко выпили тогда, как часто бывает, когда встречаешь людей из прошлого. Говорить-то не о чем.
Ехать нам было в один отель, где поселили участников книжной ярмарки в Страсбурге.
В такси он говорил, что уж он меня угостит, когда я буду в Москве, он пригласит меня к себе на дачу.
Я никогда не воспользовался его предложением. Но когда я сел в тюрьму в России, то возглавляемый им PEN-клуб промямлил что-то там, что мол хотя они не разделяют политические взгляды (могли бы обойтись без трусливых экскьюзов, нет?), но типа литератору не место в тюрьме.
Помню, прочитав это на моей пальме вверху у окна, я подумал ядовито: литератору как раз самое место в тюрьме, только там ему и место, и расхохотался.
Они все уже тогда казались мне детьми. Ну чего с них взять, дети, они и есть дети. Недалеко ушли от собак.
Бабушка русской контрреволюции
Когда она умерла, в декабре 2018 года, я радовался.
Потому что подумал, что она в значительной степени разрушила мои планы, сделала невозможным единение всех сил оппозиции, так чего бы мне и не радоваться.
Мои эмоции — суть просты, в основе их лежит схема, которую я выработал ещё пацаном, когда убегал из дома: тот, кто дал мне кусок хлеба или пустил на ночлег,— хороший человек. И соответственно, тот кто обидел меня или отобрал у меня что-либо,— плохой.
Она отобрала — увела, выманила с Триумфальной площади тех, кто уже ходил туда к нам два года, значит — плохая. Старая, согбенная, с дряблой кожей, свисавшей с рук (она даже не догадывалась прикрыть свои ужасные руки одеждой с рукавами), она принимала нас у себя, поскольку жила в самом центре Москвы, на Старом Арбате, рядом с памятником Окуджаве, а мы, Косякин и я, жили где придётся, ну, не рядом с Окуджавой.
Трое, мы оказались в 2009-м году руководителями московского восстания. Идея выходить в одно и то же время в 18 часов в одно и то же место — на Триумфальную площадь по 31 числам месяцев, в которых 31 число есть, принадлежала мне.
Но один, я понял, я не справлюсь, силёнок у партии юных отморозков было маловато. Я пошёл к правозащитникам, ибо политические партии либералов вынули к тому времени из меня мой мозг, я не хотел иметь с ними больше дела. Неуживчивые кошка с собакой: Каспаров и Касьянов выпили из меня всю мою кровь. Они запороли мои проекты, «Коалицию Другая Россия» и «Национальную Ассамблею», одну за другой. И дать им запороть третью — «Стратегию-31» — я просто не мог себе позволить.
И я пошёл к Алексеевой. Сидя на том же стуле, на котором через десятилетие будет сидеть пришедший её поздравить с 90-летием Владимир Владимирович Путин, я сумел донести до неё соблазнительную суть «Стратегии-31».
«Людмила Михайловна, мы приучили людей приходить на одно и то же место в городе, нам не придётся их агитировать прийти, с помощью классического принципа единства, знаете, тот принцип неукоснительно соблюдается во всех театрах мира: единство времени и места действия».
Алексеева оценила моё политическое остроумие, впоследствии она не раз говорила мне и не мне, что завидует Лимонову, что это он придумал такую простую рабочую формулу, а не она.
То, что она оценила мой простой и гениальный проект, ещё не значило, что она не будет пытаться украсть у меня этот проект.
Почти сразу же она сообщила мне, что её коллеги-правозащитники подталкивают к тому, чтобы она предложила мне выйти из проекта, оставив «Стратегию» им, правозащитникам, поскольку «ведь вы — Лимонов — одиозная фигура и отталкиваете собой тех людей, которые могли бы прийти на Триумфальную, не будь вас там. Меня просили поговорить с вами, выяснить, как вы к этому относитесь…» Старуха смотрела на меня лживым невинным взглядом. Она обычно сидела на своей видимо любимой тахте, и эти ужасные куски старой плоти свисали с её рук, и ужасные старые ноги в синих венах и сухожилиях были одеты в домашние тапочки.
А я сидел, я уже упомянул, что я сидел на том полустуле-полукресле, на котором, или в котором, лет через десять будет сидеть Верховный главнокомандующий, пришедший её поздравить…
А Косякин сидел на тахте, стоящей перпендикулярно тахте Людмилы Михайловны, а я сидел параллельно на стуле-кресле, где через десяток лет… И так далее.
Началось всё, что мне предложили уйти, оставив им мою остроумную и простую идею. Я как-то переморгал это первое оскорбление, поделившись только с Косякиным. «Ох, Эдуард, то ли ещё будет,— прореагировал Косякин.— Мы с ней ещё натерпимся!»
Ну, и натерпелись. 1 июня 2010-го она привела нас в офис Лукина, где они все собрались, чтобы принудить нас оставить Триумфальную. В качестве выхода из ситуации Лукин, которому Медведев поручил остановить движение «Стратегия-31» (накануне, 31 мая, к нам пришли многие тысячи протестующих), Лукин предложил, чтобы мы проводили акции поочерёдно: одно 31-е на Триумфальной, другое — на площади Пушкина.
В тот день в кабинете Лукина на Мясницкой мы услышали немало чудовищных предложений (подробно можно ознакомиться с ними в книге «Дед»), но мы устояли. Охая и ахая, разрываясь между властью (Лукин и главный правозащитник по Москве, забыл фамилию) и нами: я, Косякин, Алексеева всё же удержалась с нами. Выходя и садясь в машину, я всё же услышал от Косякина: «То ли ещё будет, Эдуард, в следующий раз она сломается».
И сломалась. Вопреки всем законам морали, порядочности, совести, чести, Алексеева снюхалась с господином Сурковым и, взяв к себе старого Адамовича Ковалёва, самовольно организовала милицейско-правозащитный митинг на Триумфальной 31 октября 2010 года. Меня на тот митинг затаскивали полицейские вниз головой.
Вот я приведу из случайно спланировавшей на меня из интернета статьи радикального либерала Бориса Вишневского, чтоб было понятно, чтоб был понятен накал страстей.
«Всю неделю на сайте «Эха» в ежедневном режиме идёт интернет-истерика Эдуарда Лимонова по поводу двух митингов 31 октября на Триумфальной площади и якобы «подлости» и «предательства» Людмилы Алексеевой, согласившейся на компромиссный вариант.
«У них будет митинг на полусогнутых, благословлённый Сурковым!» — бушует Лимонов, призывая не ходить на «робкие, слюнявые маленькие митинги под разрешённое жандармской властью количество персон».
⟨…⟩
…он не жалеет оскорбительных эпитетов для Людмилы Алексеевой — она, видите ли, «подпорчена близостью к власти» и «перешла на сторону тех, от кого она взялась защищать наши права».
Вопрос о том, как бороться за свободу собраний, каждый решает для себя сам. И каждый сам для себя отвечает на вопрос, что важнее: провести публичную акцию (пусть и пойдя для этого на компромисс), дав людям возможность высказать своё мнение, не рискуя провести остаток дня в «обезьяннике» — или, не уступив ни пяди, показать свою принципиальность и в очередной раз продемонстрировать «звериный оскал» режима?»
Дальше цитировать не стану, Вишневский привычно глуп и ограничен, ясно, что депутат Заксобрания СПб не может высказываться иначе. Замечу только, что пребывание в обезьяннике не напрасно потерянное время, но показ режима с его немаловажной стороны.
Что до Алексеевой, то она увела «Стратегию-31» на Пушкинскую площадь и провела там один-единственный митинг. «Стратегия-31» была умерщвлена Алексеевой.
На её милицейско-правозащитный митинг пришли, впрочем, все герои либеральной интеллигенции — и Немцов с Яшиным, и Лев Пономарёв, и даже Сергей Удальцов, не отличавшийся никогда высоким умом.
Другие герои интеллигенции — либералы — ещё хуже. Дрянь, а не людишки. Сколько они угробили начинаний.
И «Марши Несогласных» угробили, и «Национальную Ассамблею», и «Стратегию-31», и в конце концов увели протестующих на Болотный остров…
Когда я услышал, что старуха умерла, я обрадовался, я же говорю. Жаль, что не умерли все остальные.
Молодой актёр Владимир
2 января я узнал, что умер сын режиссёра Дыховичного, актёр Владимир. Высокий худой юноша.
Я сидел с семьёй Дыховичных (Иван, Ольга + сын) в ресторане на Бережковской набережной, где устроил своё шоу по случаю возвращения в столицу шоумен Григорьев. Григорьев был какое-то количество лет редактором журнала «ОМ», где печатал Наталью Медведеву, и когда она умерла, и я вышел из тюрьмы, я сменил Наталью, стал колумнистом «ОМ».
Так вот, возвратившись, Григорьев устроил себе бенефис в зале этого ресторана. Ольга, жена Ивана, всё бродила по залу. Иван, уже тогда больной раком, восхищённо смотрел в зал, где изгалялся всячески Григорьев, а их сын придвинулся ко мне и стал допытывать, допрашивать по поводу партии.
Я вначале отвечал неохотно, но, поверив в его искренность, стал отвечать развёрнуто.
Так и помню его вихры, его искренность, его внимательную физиономию, наклонённую ко мне через стол.
Мама Ольга, видимо, искала, бродя по залу, новых знакомств. Иван был счастлив — болезнь тогда от него года на три отступила, а Владимир искал, куда бы прибиться. Вероятно, я его не убедил, в партию он не пришёл.
Известно, что он умер «от наркотиков», следовательно, от овер-дозы. Ему был 31 год (на тридцать первом году жизни, написали СМИ). Он племянник Алексея Венедиктова. Либеральные семьи все в родстве, переплелись обезьяны хвостами.
Ольга Дыховичная снималась вместе с моей женой Катей Волковой в фильме Дыховичного «Вдох-выдох!» Я приходил на съёмки в Петербурге и некоторое время жил с Катей в отеле, где жили актёры и Дыховичный-старший. Полного названия отеля не помню, а вот, вспомнил, «Матисов дворик». Рядом был сумасшедший дом и здесь же жил когда-то поэт Александр Блок.
А, ещё Владимир Дыховичный снялся в фильме Кирилла Серебренникова «Лето». Кого он там играет, я не помню. Не употребил, по сути, свою жизнь ни на что. Ни во что, по сути, глубоко не погрузился. Вот, попался на глаза мне в тот случайный вечер. И будет теперь мигать в Интернете как печальный представитель недогадливого поколения, не употребившего себя ни на что. Почему я так думаю? Потому что я уже снабдил Интернет Иоанном Лейденским, Вениамином Ивановичем Савенко, вот будет и молодой актёр там.
Несчастливая семья, да? Отец Иван умер от рака, сын Владимир умер от нечего делать. Жена Ивана Ольга, по-моему, не была матерью Владимира. Помню, как влюблённо поедал в крошечном ресторане «Матисова дворика», а вот что поедал. Уже не помню, глядел на Катю, теперь не гляжу на Катю, гляжу на другую женщину. А над «Матисовым двориком», попадая на него или не попадая, колыхалась тень Александра Блока, он где-то жил там, рядом, на Пряжке и у дома умалишённых.
Неужели вы все кому-то нужны, такие, как вы есть?
Я точно нужен, чтобы сообщить вам некоторые тайны, которые знаю я.
Отец Лены
От Лены Лукьяновой всегда несёт алкоголем. Это довольно неприятно. Когда от женщины пахнет алкоголем. От женщины пахнет алкоголем по-иному, чем от мужчины. Как-то более едко, как-то более вонюче.
Когда ещё от неё не пахло алкоголем, мы с Владимиром Бондаренко пришли в гости к её отцу, Анатолию Лукьянову.
Последний Председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов скончался 9 января сего, 2019, года, на 89 году жизни. Почему-то чиновники такого ранга живут долго. Это должность на них так влияет?
Он сидел в тюрьме. Сидел меньше меня, с августа 1991 года по декабрь 1992 года. Сидя в тюрьме, в специальном «кремлёвском квартале» тюрьмы «Матросская тишина», Анатолий Лукьянов прочитал мою первую книгу «Это я, Эдичка». Именитые узники из ГКЧП передавали книгу друг другу в газетной обёртке, зачитали моего современного «Вертера» до дыр.
Анатолий Иваныч (кажется Иваныч) сидел в большой комнате за длинным чиновничьим столом, убранным по-чиновничьи (ну пресс-папье там всякие, канцелярский набор, чернильницы из малахита и прочее). Стол был поставлен углом по отношению к комнате, а не параллельно. За спиной Лукьянова висел ковёр.
Мне мою многоразпрочитанную книгу вынесли показать. Вот тогда я впервые увидел Елену Лукьянову. Скорее всего, она ещё была студенткой юрфака. Алкоголем от неё ещё не пахло. Книга моя была в обложке из газеты, кое-где прорванной. Книга была раза в два толще свежего экземпляра «Эдички». Дело в том, что прочитанные многими книги захватаны пальцами, размочены плевками на пальцы, плевки затем разбухают в бумаге.
— Мы стояли в очередь, чтобы прочесть её, представьте себе, Эдуард.— Лукьянов улыбался мне, сидя в своём столе-танке с малахитовыми чернильницами и с ковром-самолётом сзади на стене.
Я стал думать, что советские чиновники, его сокамерники-сидельцы, могли в моей книге вычитать. Простой народ, тот дивился гомосексуальной линии, а эти? Пришёл к выводу, что эти тоже — «гомосексуальной линии». А что, высокого ранга советские чиновники тоже «вышли мы все из народа», короче — «дети семьи трудовой». Потом, потом книга была модной в те годы. Миллиона два был общий тираж, мне Шаталов говорил, Шаталов уже умер. Читали как модную «Мастер и Маргариту» своего времени.
В 2012 году и позднее президент Франции Саркози будет рекомендовать своим министрам прочитать книгу Эммануэля Каррера «Limonov», я через всю нелюбовь ко мне эстаблишментов этого мира, я как-то всегда ухитрялся быть в моде.
По мне нанесено столько ударов, я практически оглох на левое ухо, посадить меня в свои тюрьмы мечтают десяток государств Европы и Азии, но что есть, то есть.
Так вот, Елена Лукьянова присутствовала при этой сцене. И Владимир Бондаренко, он привёл меня в квартиру Лукьяновых.
Насколько я помню, Лукьянов был в тапочках. Я лично всегда надеваю туфли, если ко мне приходят гости. Но он же советский был вельможа, туфли не надел.
Вдоль стен мебельные гарнитуры там всякие. У Баркашова (он жив, жив, жив!) хотя бы меч был, смешно казалось, теперь по прошествии лет думаю, что меч был слабостью Баркашова, но ярко освещал его, Баркашова.
А у Лукьянова был стол его класса, малахитовые чернильницы и моя книга из тюрьмы, обёрнутая в газету.
Худяков
Генрих Худяков, если распределить умерших по группам, то он в одной группе со Львом Халифом. И родились в один год, в 1930-м, и умерли, Халиф — в 2018, Худяков — в 2019, и оба в Соединённых Штатах Америки.
Два московских парня, стариками умершие в Соединённых Штатах.
У меня есть рассказ «King of Fools», где спортретирован Генрих Худяков, его появление, белого человека в плаще и шляпе, на негритосской в ту пору 42-й улице Нью-Йорка.
Я позволю себе процитировать драматичное появление его в Нью-Йорке в дождь. Хорошо, что я написал его, этот рассказ. Тогда я ещё умел восхищаться отдельными экземплярами человека. Сейчас не умею.
«Дождь лил уже неделю. Даже неоновые витрины затухли, и лишь шипели, замкнувшись, провода. На чёрной от ветра и дождя Восьмой авеню я вдруг заметил вынырнувший из распахнувшейся двери peep-show знакомый силуэт в шляпе и плаще. Он поднял воротник и, сунув руки в карманы, шагнул в дождь…
⟨…⟩
Он потрясающе выглядел даже в дождь. Он всегда потрясающе выглядел и никогда не умел воспользоваться своим внешним видом. У него было крупное, сильное лицо полковника парашютных войск, грабителя высокого класса, героя Дикого Запада, лицо Брандо в расцвете лет. Мы все зависим от нашей внешности. Почему его внешность никак не сумела поучаствовать в становлении его личности? При метре 84 роста, с рожей и статью киногероя, он был — о позор, о кретинизм!— он был поэтом! Да ещё поэтом-формалистом!
Он лишь чуть-чуть наклонил голову, чтобы дождь не заливал ему глаза. Если бы я был женщиной, я бы остановился, как поражённый молнией, увидев его, героя в плаще и шляпе».
Тон в рассказе взят верный. На шестнадцати страницах предстаёт этот одинокий человек, общающийся с мёртвой матерью. Повторюсь, хорошо, что я его написал. Он так и прожил около полусотни лет, чудаковатым эксцентриком в бедном отеле у подножия «Эмпайр Стейтс Билдинг», продолжая платить ту цену за номер, которую платил в 70-е годы, только поселившись там. Говорят, лишь совсем недавно властям удалось переселить его в старческий дом, где он и умер. Говорят так. Я, впрочем, не знаю. Я был в Нью-Йорке в последний раз в 1990 году. И больше туда не хочу.
В чём-то его выбор был правильным. Надо жить в брюхе Зверя, раз уж ты оказался в Соединённых Штатах, так нужно уж жить в самом аду, в отеле для провинциальных пенсионеров, где по утрам старая согбенная негритянка в грязном фартуке подметает в коридоре окурки.
Жизнь ведь именно это, шурх её тряпки на металлической треноге, которой она смахивает окурки в совок. За пятьдесят лет 18.250 таких утр.
И всё. И весь тебе Генрих Худяков.
Интересно, какими были его последние в жизни слова?
Ещё он покрывал пиджаки плотным слоем металлических бляшек.
Ещё он усложнял тексты Шекспира, вводя в них лишние слова, и знаменитый монолог «Быть или не быть» звучал дичайшим образом, нерешительно, весь запутанный в лишние слова…
«А либо ль быть, либо ль нет, что лучше…» — как-то так звучал.
Сказать, что я жалею о нём, было бы неправильно, появится ещё какой-то эксцентрик из России на его месте. Моложе его на целое поколение, там живёт человек по имени Слава, по фамилии Могутин. Вот Могутин и сменит Худякова.
Янкилевский
Владимира Янкилевского я не видел старым. Поэтому запомнил его мускулистым, сейчас сказали бы «накачанным», молодым человеком с крепкой шеей, коротконогого, похожего на коренастого матроса.
Ну, собственно, скульптор и должен выглядеть крупнее, сильнее и коренастее, и брюхатее при случае, чем щелкопёр-художник.
Получив от Бачурина мастерскую в пользование (правда, к мастерской мы с моей молодой женой ещё получили самого Бачурина, он приходил каждое утро), мы некоторое время пытались жить там. На Уланском переулке. И в соседи получили квартиру Кушера (один из моих друзей того времени) и мастерскую Янкилевского. Янковский ходил в свою мастерскую мимо дома, где я обитал с молодой женой. Мы часто его видели идущим в его мастерскую.
Он был довольно мрачным и молчаливым молодым человеком. Обычно он лишь без эксцессов лениво поднимал правую руку и неспешно поколыхивал ею над головой в качестве приветствия раз-другой. Иногда здоровался.
По-моему, он всех презирал и считал себя гением. Тогда многие были уверены, каждый, в своей гениальности. Сейчас это, скорее, редкое явление. А тогда сплошь и рядом.
Евгений Леонидович Кропивницкий даже написал шутливый список-поэму московских художников, поэтов, литераторов, где каждый был одарён титулом «гений».
Отчасти Янкилевский был похож на свои скульптуры. А в скульптурах его не было никакой лирики. Они все напоминали механизмы. Так и вижу его идущим ранним утром по прогретому солнышком Уланскому переулку. Сандалии на босу ногу. Крупное лицо боксёра (скульпторы — это же чернорабочие изобразительного искусства). Брови под короткоостриженными волосами. Пыль лежит вдоль бордюра Уланского переулка того времени. «Здравствуйте, Володя!» — «Здравствуй, Эд!» День начался. Это 1973 год.
Утверждают, что через чёрную дыру, через одну из них можно возвратиться в прошлое время.
Вот бы возвратиться в прошлое время. Пока юная жена ещё спит, опуститься по лестнице, выйти на Уланский, а там идёт Янкилевский, точный, как часы, в сандалиях на босу ногу. Умер он 4 января 2018 года, в Париже, в возрасте 80 лет. Выставки и все его достижения как скульптора, ведь правда же, нас не интересуют, зачем они нам. Где он там выставлял свои скульптуры-механизмы? Нам это не нужно. Должно быть, в Чехословакии, Германии, Венгрии какой-нибудь. Но нам это не нужно.
Вот попасть бы через чёрную дыру на Уланский 1973 года, это да. Ногти у него в сандалиях на больших пальцах ороговевшие, как когти. Я тогда это всё заметил. В 1973 году, тогда я был наблюдателен.
Лариса Сергеевна
Сейчас у меня такое впечатление, что это мы подбили Юрия Власова выдвинуть свою кандидатуру на выборах в президенты 1996 года.
Юрий Петрович жив, а вот супруга его, Лариса Сергеевна, уже несколько лет как нежива, хотя и была моложе его на 21 год, но вот нежива. Поэтому она и попала в «Книгу мёртвых». Попала бы и раньше, да только я не знал, что она умерла.
Когда могучий Юрий Петрович сел в нашу легковушку, старенький ВАЗ (за рулём был сослуживец моего охранника Кости Локоткова, вместе они служили в Германии и обретались в казармах бывшей танковой дивизии «Мёртвая голова»), то в автомобиль как будто посадили гранитный куб. Его колёса так плотно прижало к асфальту. Жил великий спортсмен у Сокола, машину просто пригвоздило. Мы высадили Костю Локоткова. Ехали мы как раз в Центризбирком.
Рождённому в 1935-м, Юрию Петровичу в 1996-м было 60 лет. В его квартире на заметных местах мы увидели и штанги, и гири. Юрий Петрович не бросал занятий спортом. Мы его уважали.
Лариса Сергеевна, белолицая, крупная, белотелая, казалась нам его сверстницей, но по факту вот оказалось, что она родилась в 1956 году и умерла где-то в районе 2016-го, я так полагаю. То есть в возрасте, по-видимому, лет шестидесяти.
А Юрий Петрович жив до сих пор, 84-й ему.
Совместно в них было, наверное, около 250 килограммов живого веса, в этих чудо-супругах, удивительно, как их выдерживали полы и перекрытия советской квартиры. Ведь такая нагрузка!
Так как я мало что помнил о Ларисе Сергеевне, я попросил написать о ней Данилу Дубшина. Он написал, но так много, что Лариса Сергеевна вдруг в объёме чуть ли не превысила всех других персонажей пятой книги мёртвых.
Поправка моя вот какая. Вы наблюдения Дубшина читайте, я не сократил ни строчки, но Лариса Сергеевна, жена величайшего русского штангиста, следует сказать, была банальной русской тёткой, и выглядела как «пивная королева», правда, с красивым лицом.
Э. Л.
Царствующая жена
Данила Дубшин
Кто предложил нам, нацболам, поддержать на президентских выборах 1996 года Юрия Петровича Власова, чья это была идея, я уже и не помню.
Зато помню, что когда Эдуард Лимонов позвонил мне и спросил: «Хочешь познакомиться с Власовым? Подъезжай завтра на Калошин, пойдём вместе от меня на пресс-конференцию», я чуть не подпрыгнул от радости.
Власов был моим кумиром. Отчаянный фанат силовых тренировок, я, не употребляя стероидов, приседал в те годы со штангой за 200 килограммов. Кроме того, как юноша интеллигентный, глубоко погрузился в изучение истории тяжёлой атлетики и силовых видов спорта. Оттого спортивные кумиры для 1996 года у меня были несколько позавчерашние — триумфатор Рима 1960 года Юрий Власов и герой трех Олимпиад армянский гимнаст Альберт Азарян — тот, который первым сделал сверхсложную фигуру на кольцах — «Крест Азаряна»…
Недавно я откопал свой дневник 1996 года, там сохранилась запись о первой встрече с четой Власовых:
«В четверг 29 числа познакомился с Юрием Власовым. Большая радость для меня. На 12:00 в пресс-центре «Рэдиссон-Славянская» была назначена пресс-конференция нас, националистов.
От Лимонова поехали в «Рэдиссон», ехать близко — всего одна станция метро. Эдуард, Тарас и я, такая вот компания. В пресс-центре разбрелись. Я шатаюсь по вестибюлю. Встречаю Иванова-Сухаревского — союзник. Неожиданно замечаю, со стороны входа приближается группа. Его не узнать невозможно. Выше всех на голову, широкущий, вот он, Власов, так неожиданно и близко. Он вовсе не стар, в короткой коричневой дублёнке, скорее зрел, нежели стар. Не дряхл — могуч.
— Здравствуйте, Юрий Петрович!— Протягиваю руку.
— Здравствуйте.— Он внимательно здоровается со мной. Ладонь у Власова огромная, но жмёт руку деликатно, не стискивая. Облик знаком, конечно, по фотографиям, но удивило, что седые волосы достаточно длинны — закрывая затылок, спадают на воротник пиджака.
В коридоре конференц-зала заговариваю с женой, Ларисой Сергеевной. Я ей звонил уже где-то недели полторы назад, хотел договориться об интервью с Юрием Петровичем.
— Вы не видели наших героев?— Спрашивает она.— Лимончик его подхватил, и они куда-то ушли…
Так, Эдуард уже, значит, «Лимончик». Он уже два раза был у Власова в гостях, подолгу, по четыре-шесть часов разговаривали…»
В тот день я сделал большое предвыборное интервью с Власовым, и, при протекции Лимонова, его напечатал Евгений Додолев в своём «Новом взгляде» — на целую первую полосу. «Победитель Власов» безосновательно оптимистично называлось оно. Кажется, это было единственное большое интервью нашего кандидата.
*
Следующая картинка, которую выдаёт память,— Тарас и я сидим на кухне у Лимонова в Калошине переулке. Лимонов демонстрирует подаренную Власовым книгу «Русь без вождя». На обложке посмертная маска Сталина работы скульптора Манизера. На форзаце — дарственная надпись:
«Эдуарду Вениаминовичу, с уважением… Умоляю, подарите хоть одну из своих книг. Юрий Власов».
— Эдуард, подари ему «Палача»,— цинично похохатывая, советует Тарас…
…Вскоре Юрий Петрович с Ларисой Сергеевной побывали в нашем легендарном Бункере на 2-й Фрунзенской улице. Опять поражаюсь тому, насколько Власов огромен. В дублёнке, под дублёнкой пиджак, под пиджаком тёмно-вишнёвый джемпер с треугольным вырезом — в прорубленную нами в стене дверь он входит, лишь развернувшись боком. Она тоже крупная, можно сказать, «статная», а можно сказать — «дородная». Улучив момент, я набрасываюсь на Власова и, волнуясь, начинаю рассказывать, что тренируюсь со штангой, что его имя для меня… что он для меня…
«Вы знаете,— отвечает Юрий Петрович, внимательно разглядывая меня из-под очков с толстыми стёклами,— я тоже тренируюсь. Кажется, есть ещё кое-что». Он сгибает руку, и под материей пиджака вздувается бицепс размером с мою голову.
Знакомство продолжилось, и через некоторое время Лариса Сергеевна звала меня не иначе как «Данилушкой». Мы часто созванивались, и вскоре я впервые оказался у Власовых в гостях в квартире на Чапаевском переулке. С собой я взял моего друга Егора Г., с ним вместе мы тренировались.
…Есть понятие — царствующая королева. То есть королева, у которой вполне себе наличествует король, но при этом глава государства — она. В домашнем королевстве Власовых Лариса Сергеевна была царствующая жена. Она решала, кого допустить к Юрию Петровичу, а кого нет, кого из приближенных изгнать, а кого поощрить. Она определяла политику этой ячейки общества. И мы с Егором на первых порах попали под её благосклонность.
Вот справная ли хозяйка была Лариса Сергеевна? Не могу сказать. Чем-то нас с Егором угощали, однако хорошо ли было угощенье, я позабыл. Запомнил разговоры с Юрием Петровичем. От штанги мы свернули на тему войны, Власов сразил тем, что помнил неимоверное количество детальной информации, вроде номеров частей, фамилий командиров полков и даже младших офицеров. Как наших, так и немецких. Говорил он с напором, разговаривая, вспыхивал волнением, и речь его убыстрялась.
Лариса Сергеевна непременно присутствовала при разговоре, она словно показывала Юрия Петровича гостям, глядела на него с обожанием, а на нас посматривала с гордостью за мужа, однако всё больше молчала.
Дело происходило в гостиной, мы сидели на диване, у дивана отходила боковая спинка, и чтоб она совсем не отвалилась, к спинке, придерживая её, была подставлена крупная, покрашенная серой краской гиря. На 32 кэгэ.
*
А потом… Президентские выборы Юрий Петрович провалил, да с треском, набрал какие-то микроскопические доли процента. Разошёлся с Лимоновым, сделав это максимально некрасиво…
Я, однако, сепаратно продолжал общаться с Власовыми.
В ту пору как раз вышла книга Власова «Справедливость силы» — монументальный, printed in Slovakia, том на 700 страниц с сотней фотографий. Вскоре у меня раздался звонок от Ларисы Сергеевны: «Данилушка выручай, гибнем! Юрию Петровичу издательство отдало часть тиража, и надо вывезти книги. Помочь некому, нас спутали по рукам и ногам, лишили всех помощников…»
Я согласился, позвал с собой Егора, и мы приехали в какой-то подвал, забитый пачками с 700-страничным сочинением Юрия Петровича. Состоялся сеанс нормальной такой, потной работы грузчиков. Вынесли из подвала и загрузили в фургон «Соболь» не меньше тысячи экземпляров.
Лариса Сергеевна была счастлива: «Мальчишки, какие же вы молодцы! Вас ждёт награда,— сияя, провозгласила она,— Юрий Петрович дарит вам по экземпляру книги, а я отвезу вас до метро на машине».
У Власовых была в то время двадцать четвёртая «Волга» серого цвета с водителем. Мы уселись в авто вместе с Ларисой Сергеевной, которая пребывала в состоянии умиления. «Какие же вы молодцы!— пела она,— ты, Егор, вообще похож на Юру в молодости, а ты, Данилушка,— на Арнольда».
— Кстати об Арнольде…— вскинулся я.— Чуть не забыл вам рассказать! Арнольд был неделю назад в Москве, я встречался с ним на пресс-конференции в отеле «Метрополь», и первое, что он сказал, что «любит Москву, город, где живёт его друг, великий чемпион Юрий Власов».
Мы находились в замкнутом пространстве салона «Волги», поэтому возглас Ларисы Сергеевны прозвучал пронзительно, как сирена гражданской обороны:
— Я всегда говорила Юрию Петровичу, что Арнольдик православный!!!
* * *
История со «Справедливостью силы» имела продолжение. В ноябре того же девяносто шестого в нашем с Егором спортзале устроили соревнования по пауэрлифтингу. Мы оба на них готовились (я выступил, завоевал второе место, а Егор не стал выступать). В один из визитов к Власову я спросил: «А что, Юрий Петрович, могли бы вы выделить из своих экземпляров несколько книжек на призы для наших соревнований? Пацанам было бы очень приятно получить такой подарок».
Власов сказал, что да, с радостью. Ещё и подпишет каждую книжку. Только дома книг сейчас нету, за ними надо будет заехать через неделю. Ровно через неделю, как раз накануне соревнований, я набрал с утра номер Власовых: 157-6..-…
— Да, Данилушка, Юрий Петрович подписал все книжки, да не просто, а с рисунком, он не всем так подписывает. Приезжай, жду.
Через час я приехал по уже хорошо знакомому адресу, поднялся на лифте и позвонил. Дверь никто не открыл. Я позвонил ещё раз, и тут заметил торчащий из щели между дверью и стеной листок бумаги. Записка, написанная красивым округлым почерком отличницы, гласила:
Данила, здравствуй!
Я вынуждена срочно уехать — у меня заболела девочка.
Книги в 24 кв. у Татьяны Николаевны.
Всего доброго,
Лариса С. Власова
Книги действительно оказались у соседки, я забрал. Их вручили участникам соревнований, и парни были счастливы.
Вот только… обескураженный столь внезапным исчезновением Ларисы Сергеевны я в сердцах вдавил кнопку звонка ещё раз — долго-долго — и, уже разворачиваясь уходить, услышал: за дверью проскрипел несколько раз половицами пол. Кто-то прошёл по квартире, осторожно, стараясь не быть услышанным…
А далее Власовы исчезли. Без малейших видимых причин. Некоторое время я ещё звонил, неизменно натыкаясь на автоответчик, потом и звонить перестал. Лимонов столкнулся ровно с тем же раньше меня, а теперь пришёл и мой черёд. Странным они были семейством — «потаённые люди», как сказал бы литератор Мамлеев.
Последняя моя встреча с Власовой Ларисой Сергеевной произошла случайно. Раскалённым летом 1997 года вышла разоблачительная книга опального охранника Ельцина, Александра Коржакова, о своём бывшем шефе. Мой хороший знакомый, журналист Александр Щуплов (он тоже уже умер, о нём см. в «Книге мертвых-2» Э. Лимонова, глава «Алекс Киви»), позвал меня составить ему компанию на интервью с генералом Коржаковым.
Был август, помню, что жара стояла такая, что каблуки моих туфель, когда я ждал Щуплова, оставили отпечатки в размягчившемся асфальте. Опаздывая, прибежал Щуплов, потный, одышливый, со своей сумкой-торбой на плече. И мы вошли в прохладу здания Госдумы на Охотном ряду. В бюро пропусков оформляли пропуска. Занятый этим делом, я не слишком глядел по сторонам, как вдруг за моей спиной раздался знакомый певучий голос: «Ну, здравствуй, Данила…» На этот раз голос звучал печально и укоризненно.
— Здравствуйте, Лариса Сергеевна.
— Какими судьбами? Мы уже не чаяли тебя услышать… (это после полугода моих попыток дозвониться).
— По службе, Лариса Сергеевна, по службе…
Однако Лариса Сергеевна была человек опытный, молниеносным броском она продвинула вперёд свой, как говорили в старину, стан и успела-таки разглядеть на пропусках, куда мы с Щупловым направляемся.
— А, к Коржакову, к Саше…— голос её был по-прежнему печален и певуч.— Передавайте ему от меня привет…
— Это что ещё за тётка?— спросил вечный грубиян Щуплов.
— Жена Юрия Власова, Лариса Сергеевна.
— Аааа…— протянул Щуплов.
И мы поднялись на лифте к Коржакову. В разгар интервью, когда генерал в пятнадцатый раз промокал пот с шеи генеральским носовым платком, дверь в его кабинет распахнулась, и в неё вошла… нет — вплыла Лариса Сергеевна.
— Здравствуйте, Саша…— выдержав хорошую паузу, по-прежнему печально пропела она.
Коржаков недоуменно уставился на неё:
— Здравствуйте! А вы кто?
— Ну что же, Саша, вот вы меня и не узнаёте уже… Я Власова, Лариса, жена Юрия Петровича…
Абсурдность ситуации разрядил я — привлёк Ларису Сергеевну к делу, попросив запечатлеть нас с Коржаковым. Она сделала моей фотокамерой отличную карточку, где мы с генералом пожимаем друг другу руки. Щуплов, вопреки обыкновению, фотографироваться не захотел. Снимок тот сохранился, и у него редкий автор — Лариса С. Власова.
*
Прошло без малого 20 лет. Лимонов порой вспоминал о Власовых, спрашивал меня, вижусь ли я с ними. Но я не виделся — после эффектного появления Ларисы Сергеевны в кабинете Коржакова ничего не изменилось, и мои несколько попыток восстановить контакт не увенчались успехом.
В декабре 2015 года Юрию Петровичу исполнялось 80 лет. Мне вдруг очень захотелось его поздравить. Через товарища-журналиста, нацбола Лёшу Сочнева, я попытался найти актуальный телефон Власова. Через день Лёша сообщил мне мобильный номер… Ларисы Сергеевны.
Я набрал, и удивительно, но Власова взяла трубку. Ещё более удивительно, что она сразу узнала меня, будто бы не прошло восемнадцати лет.
— Где ты был, Одиссей? (Ну то есть: «Здравствуй Данилушка, что же ты не звонил?») — как всегда и торжественно, и ласково, и печально.— Поздравить Юрия Петровича можно. Но только его сейчас нет рядом. Он принимает поздравления от… (я забыл от кого, но она назвала кого-то крайне высокопоставленного) …он сам тебе перезвонит, позже, когда сможет.
Привычные византийские хитрости Ларисы Сергеевны,— решил я.
Но Юрий Власов действительно позвонил мне вечером, при крайне необычных обстоятельствах, и я его поздравил, и… Но это совсем другая история…
* * *
В марте 2018 года я увидел на ютьюбе интервью штангиста Дмитрия Клокова с постаревшим Юрием Петровичем Власовым. Власову говорили комплименты по поводу того, как он выглядит в свои 82 года, а Юрий Петрович лишь горько повторял через слово: «Если бы вы видели меня до смерти жены, какой я был в 80 лет…», «После смерти жены — я стал катастрофически глохнуть…», «Я не сломался тогда абсолютно, я сломался после смерти жены…»
Несколько десятилетий Власовы успешно избегали всякой публичности (отшельничали в деревне, странствовали по святым местам — до меня доходили слухи, что их видели в православном монастыре на горе Афон), и понятно лишь, что Ларисы Сергеевны не стало между 2016 и 2018 годом. Родилась она 13 июля 1956 года, стало быть, ей было вовсе не много лет — шестьдесят или чуть за шестьдесят.
Я давно уже понял, что одновременно существует множество совершенно не похожих «способов существования белковых тел» — человечьих семейных союзов. Бывают весьма причудливые. Склеиваются двое сообразно своим темпераментам и склонностям. Судить их бессмысленно. При всех трудностях, которые Лариса Сергеевна создавала в общении для внешнего круга, для Юрия Петровича, я полагаю, она была идеальной женой. Whatever that means — как говорят англичане.
Смерть Савицкого
Был и сплыл… Было 10 апреля 2019 года.
Я стоял в огромной, просто агромадной, толпе в аэропорту Домодедово у кабинок паспортного контроля, когда получил телефонный звонок от «Кубика» (Юрий Кублановский, поэт, член объединения СМОГ, самый молодой из них).
— Эдик,— сказал Кубик,— я всегда приношу тебе трупные вести. Твой друг Димка Савицкий умер. Сегодня или вчера… Помнишь, я тебе целый репортаж о смерти Шаталова устроил?
— Юр,— сказал я,— я тут стою в Домодедово, сразу пять, что ли, самолётов прибыли, столпотворение. Давай потом.
— А я тебе, Эдик, из Китая звоню,— сказал Кубик, страшно довольный тем, что Савицкий умер, а он — Юра Кублановский — жив.
И мы разъединились.
Рядом со мной стояли военные корреспонденты: Семён Пегов и его операторы: Влад и Сашка. Мы прилетели из республики Арцах (то есть Нагорного Карабаха). Надо отдать должное администрации Домодедово, они стали усиленно зазывать прилетевших в дипломатическую секцию паспортного контроля, открыли её для нас, поскольку налицо был кризис перегрузки.
Когда девка-пограничница спросила меня, на каком рейсе я прилетел, я не мог назвать правильный номер рейса. Затем мы битые несколько часов ехали через Москву, и я злился на водителя Макса.
Когда доехали и я вошёл в квартиру, я вспомнил о Савицком. Он у меня всегда ассоциировался с летом, с белыми брюками, с матроской, хотя большей частью на нём не было матроски.
В белом он был на берегу старого Коктебеля, в белых брюках и белых кедах на липучках играл он в теннис в Люксембургском саду в Париже в 80-е годы.
Он всегда таким образом представлял для меня весну, лето, спорт, праздник, загорелый и раскачанный на тренажёрах, улыбающийся, с выгоревшей чёлкой на лбу, чёлка прыгала, когда он играл в теннис.
Молодость он для меня представлял. Идя через Paris, я не забывал пройти через Люксембургский сад, и присутствие его на кортах в саду делало Paris своим обжитым, домашним городом. Обычно он играл с латиноамериканцами, с гомиками или девушками из богатых семей. Он среди них и жил. Понятия не имею, как. Я намеренно туда, в ту его жизнь не лез. Хотя он познакомил меня с парой-тройкой латиноамериканцев, с бывшим сотрудником посольства Кубы в Париже (его звали Хуан Аркочча, его якобы отпустил от Кубы сам Фидель), с молодым человеком гомосексуального вида, носившим совсем не кубинскую фамилию Гетанборн и кубинское имя Hesus. Вот уже два.
Ещё у меня есть рассказ «В сторону Леопольда», там Леопольд, торговец картинами, гомик, фигурирует. Савицкий, насколько я понимаю, гомиком не был, но его тянуло зачем-то к таким людям. По-моему, это он познакомил меня и с Леопольдом.
В Москве он несколько лет образовывал пару с киношной девочкой Надей Фединистовой, она не так уж давно скончалась. Они запомнились мне как молодёжная современная пара.
В основном, вспоминая, я помню его человеком в белом. Есть фотография, я только что вспомнил её вид, мы стоим втроём (четвёртая, давно умершая местная поэтесса Ирина, не в белом, потому она не в счёт) на берегу Коктебельского залива, все в белом, Елена в белом платье и белой шляпе, тонконогая и соблазнительная, Савицкий в белых брюках и я в белых расклешённых джинсах Елены. Коктебель был пустынен в те годы, домик Волошина был самым высоким зданием Коктебеля. Сейчас дом затерялся в толпе туристических сараев, в 2017-м летом в оставшемся у дома садике сидели на жалких пластиковых стульях поэты, общим числом десятка полтора. А Коктебель распирало от человеческого мяса, раскалённого и потного, прилетевших со своих Таймыров и Екатеринбурга курортников. Только в 2017-м я понял, что мы жили в прошлом Коктебеле, как в Раю. Это был-таки Рай, совсем слабозаселённый, можно сказать, необитаемый.
Савицкий жил в домике Марии Николаевны Изергиной, наверху, на чердаке, счастливо обдуваемый крымскими сухими ветрами. Аккуратист и чистюля, он ещё был блистательным поваром, и Мария Николаевна, бывшая петербургская певица, пригрела его в своём интеллектуальном доме. Вот не помню уже, я ли познакомил Савицкого с Марией Николаевной или кто другой. И она умерла, и он. Есть ещё Борис Гройс, ставший философом и живущий в Германии. У него, что ли, спросить?
В общем-то, Савицкий был талантливый человек, но не упорный. Посему сейчас, после его кончины, виден все же скудный творческий итог его жизни: тощая стопочка книг, из них пара скорее коммерческо-диссидентские и пара лирических. И всё. Ну стихи, верлибры. Далее он увяз в «Радио свободе»: вёл там полтора, что ли, десятилетия музыкальную передачу. Когда его уволили (это типичный метод замены сотрудников «Радио свободы»), он вынужден был оставить квартиру в центре Парижа на улице Железного Горшка вблизи рю Муфтар и уехал в банлье, в квартал, где с арабами вместе обитал как white trash. Это сказалось на его морали, он (предполагаю) стал презирать себя. Заболел раком. Умер.
*
Вернёмся к Коктебелю. Помню, пошёл я с Марией Николаевной Изергиной купаться. Солнце садилось уже. Семидесятилетняя певица сбросила платье-балахон, натянула по самые брови резиновую шапочку, вошла в воду, и только я её видел. Я было по прошествии 15 минут стал беспокоиться. Но сидевшая с внуком неподалёку женщина сказала, чтоб я не беспокоился. «Мария Николаевна — отличный пловец».
Дама, сидевшая с жирным внуком, сравнила Коктебельский залив с Генуэзским, сказала, что Коктебельский — синее (вот какие там в ту пору отдыхали дамы), и сделала комплимент мне и моему сухому мускулистому телосложению. А Марья Николаевна всё плавала вдали от берегов. А жирный внук дамы рассматривал меня, чёрного от загара, с завистью.
Сестра Марии Николаевны была замужем за тогдашним директором Эрмитажа, академиком Орбели. В гражданскую войну Мария Николаевна была чудесной молодой девушкой и, я полагаю, имела романы и с красными, и с белыми. А познакомившись с нею в 1970-м, я уже застал её бодрой крашеной дамой, устроившей у себя в летней резиденции форменный салон и певшей за пианино «Гори, гори моя звезда!», а мы сидели и покачивались от удовольствия.
Надо сказать, что, осколок прошлых времён, она в большинстве из нас не ошиблась. Я или Борис Гройс так были осколки времён будущих, наше время тогда ещё не пришло. Теперь оно явственно сияет.
Вот и Савицкий был среди нас. В первый ряд он не сумел выбиться. Чем-то он похож на Генку Шмакова, тот тоже с удовольствием отирался среди больших людей: Татьяна Яковлева, Барышников, Бродский, и готовил им обеды. Только у Шмакова было большее сердце, чем у Савицкого. Со Шмаковым я познакомился уже в 1976-м, в Нью-Йорке. А Коктебель — это было начало 1970-х годов.
Но как же он ужасен теперь, Коктебель, накрытый волнами брюхатого обывательского мяса. Он ничего не имеет общего с тем Коктебелем, где мы плыли, используя как парус огромный зонт художника Юры, гражданского мужа поэтессы Ирины. Шли под этим зонтом из Сердоликовой бухты и доплыли к самому домику Волошина, зонт я держал в руке, так и плыли. У Юры на его скромном баркасе отказал мотор.
Как было хорошо! Как задиристо пекло кожу солнце! Как разбегались от нас рыбы Черного моря! Как нас ждали на берегу. Савицкий был в том баркасе рядом со мной. Не знаю, жив ли художник Юра. Ирина покончила с собой ещё в ту эпоху. А вот Савицкий скончался только что.
*
Помню, когда я его в последний раз видел. Это была уже политика. Это его трусость нас развела.
В Париж приехал для участия в конференции в Сорбонне полковник Виктор Алкснис. Конференция была важная, на неё пригласили всех военных bad boys планеты. Я добровольно взял на себя заботу об Алкснисе, с которым тогда только познакомился в Москве.
В тот день я водил Алксниса по Парижу, показывая ему чудесные старые кварталы. Проходили мы и по Rue Mouffetard, вблизи от улицы Железного Горшка, где снимал квартиру Савицкий.
Когда ты гордишься своими друзьями, то ты хочешь познакомить их с другими своими друзьями, похвалиться Алкснисом хотел я перед Савицким. Ведь тогда об Алкснисе, «чёрном полковнике», говорили во всём мире. Я думал, Савицкий обрадуется.
Я пытался позвонить ему и сказать: «Димка, со мной тут полковник Алкснис. Тот самый. Давай мы зайдём, я познакомлю тебя».
То было время, когда не было мобильных телефонов. Телефоны-автоматы часто были неисправны в Париже.
Мы вошли в escalier В (по-моему, «В») дома, где жил Савицкий, и я нажал кнопку интерфона. Савицкий ответил. Я сказал ему ровно то, что собирался сказать по телефону: «Димка, со мной тут полковник Алкснис. Тот самый. Давай мы зайдём, я познакомлю тебя».
Я прям почувствовал его замешательство. «У меня женщина, Эд,— соврал он.— Я сейчас спущусь».
Мне уже стало не по себе. Это было неожиданно. Я думал, он обрадуется.
Савицкий спустился. Они неловко пожали друг другу руки. Что-то мы пробормотали все. «У него женщина»,— сказал я Алкснису. «А, понимаю, понимаю»,— пробормотал внук латышского красного командира.
В тот же день Алксниса сердечно приветствовал на том коллоквиуме в Сорбонне генерал Ярузельский. Жан-Эдерн Аллиер поселил полковника в соседней квартире на авеню Гранд Арме. Художник Игорь Андреев устроил дома ужин, где, помимо его супруги Элизабет, внучки генерала Леклерка, присутствовала внучка генерала Корнилова. Алкснис был просто счастлив.
Савицкий же, презренный трус, испугался, что потеряет место музыкального критика на «Радио свобода», если на радио узнают, что он встречался с путчистом, чёрным полковником Алкснисом. Больше мы с Савицким не виделись. Через 27, что ли, лет Савицкий вот умер, когда я прилетел в Домодедово из горной Республики Арцах.
* * *
Сейчас с опухолью мозга приземлился в Уфе и лежит между жизнью и смертью Дмитрий Быков.
Я ловлю себя на том, что ожидал смерти Савицкого, а теперь ожидаю смерти Дмитрия Быкова с некоторым нетерпением даже. Это не от того, что я так плох, так отрицателен, что желаю смерти близкому в какие-то годы мне homo sapiens. Это потому, что мне хочется видеть мир законченным, а смерть это решительный и безжалостный «заканчиватель» жизней. Она бестрепетной рукой подводит итог жизни. Выдёргивает личный шнур человека из розетки.
Ещё живущие homo sapiens имеют шанс видоизмениться. В то время как умершие — уже нет.
Мне бы хотелось, чтобы ещё при моей жизни смерть подвела бы итоги и Дмитрию Быкову.
Боюсь ли я быть настолько кощунственно храбрым?
Да нет, я не верю в вездесущего верховного надсмотрщика над людьми.
Творец человеков беззаботен, если допустил нас размножаться в таком миллиардном количестве копий.
* * *
Савицкий, скорее всего, ничего уже не мог соскрести со своей души, там ничего уже не было. Вряд ли он оставил что-то написанное, зафиксированное после себя.
Дмитрий Быков же не умер, хотя я надеялся, что умрёт. Савицкого я уже никогда не увижу.
Нет, это неверное утверждение. Пока я буду жив, он будет перед моим внутренним, что называется, «взором», даже более точным, детальным, чем если бы я видел его нормальным образом, посредством аппарата зрения.
Плюс, он там во внутреннем видении, не через аппарат зрения, всегда будет молод. И всегда будет в белом, одет в белое. Старым он стал некрасивый старик, с признаками его расы. Молодым он был красивый, спортивный, без изъянов.
*
Вот, припомнил ещё один эпизод моей жизни с Савицким. Я только прилетел в Париж, это июнь месяц, я так думаю. Всё цветёт, что может цвести. Хожу в Люксембургский сад, где Савицкий играет в теннис.
На тот день был назначен визит в Agence Immobiliere. Берём с собою рыжую полногрудую ирландку, не помню, то ли служащую Мэри Клинг (литературный агент Савицкого и затем мой литературный агент), то ли девку из тех, с кем Савицкий тогда спал. Всё под цвет: рыжие волосы ирландки, её губная помада под цвет волосам, почки какого-то растения Люксембурского сада, обильно раздавленные подошвами и каблуками парижан. Тучи, время от времени прорезаемые сильными трассерами солнца.
Мы молоды, хохочем. Я две недели прожил у Ляли (Ларисы), сестры бывшей моей жены Лены, пора и честь знать. Меня уже изрядно подзаебал сын Ларисы, вымахавший в дылду с широким тазом и узкими плечами Илья (Йойу, что ли звала его Лариса), и его механический монстр Голдорак. Хочу к себе.
Ирландку взяли переводить. Где-то вблизи rue des Archives помещалось это ажанс недвижимости. Там мы тотчас сняли мне за 1300 франков в месяц студию на rue de Archives, 54, мою первую жилплощадь в Париже. В одном из поздних сборников стихов у меня есть стихотворение «Те, кто несли картину». Это уже следующий эпизод переселения с rue des Archives на следующую парижскую квартиру — rue des Ecouffes. «Один умирает от рака» — это Савицкий, ещё картину несли Саша Соколов, Сергей Юрьенен и ваш беспокойный автор — Э. Лимонов.

Александр Галич, фото Г. Шакина, 1970 год

Слава Сорокин и Эдуард Лимонов, СПб., 1995 год, фото из архива Даниила Дубшина

Записка Ларисы Власовой, 1996 год

Алёна Басилова

Анатолий Гладилин

Анатолий Лукьянов, фото Владимира Мусаэльяна

Андрей Дементьев

Станислав Говорухин, 1990 год, фото Даниила Дубшина
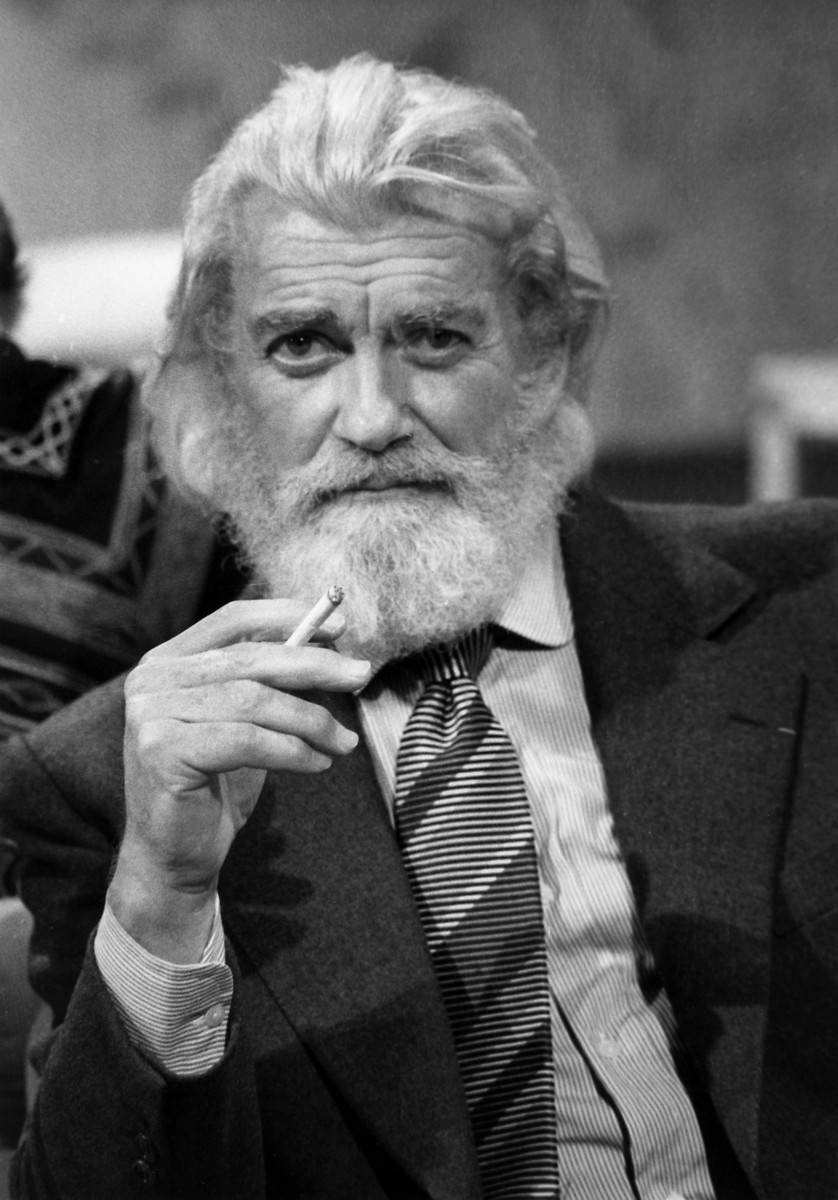
Жан Марэ

Владимир Янкилевский в мастерской в Уланском переулке, 1972 год, фото Игоря Пальмина

Генрих Худяков и Елена Щапова, фото из архива Эдуарда Лимонова

Эмилия Проскурнина, фото из архива Сергея Шаргунова

Владимир Дыховичный

Поэтесса Ирина, Дмитрий Савицкий, Эдуард Лимонов и Елена Щапова в Коктебеле, 1974 год

Лев Халиф
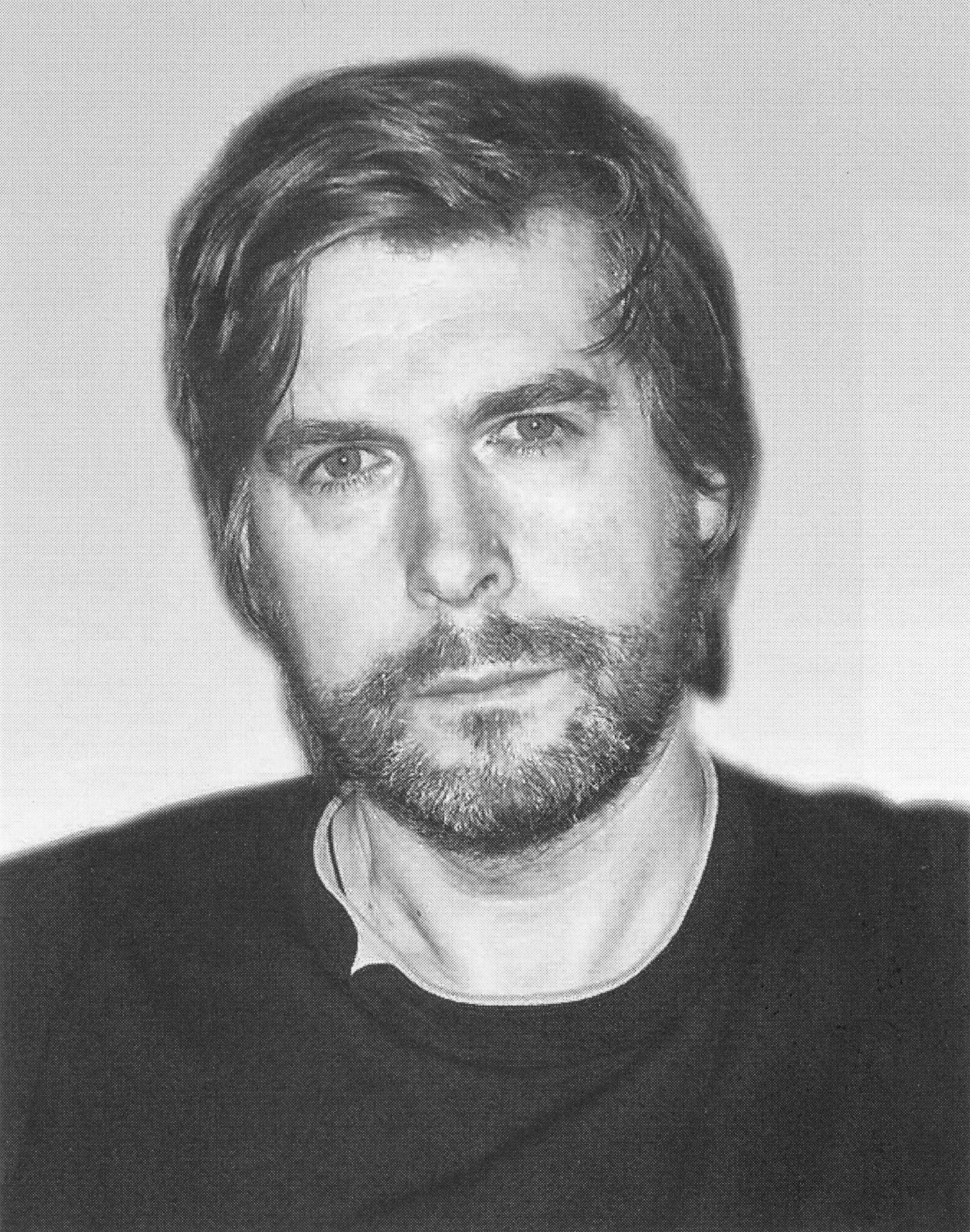
Сергей Мелентьев

Людмила Алексеева + Эдуард Лимонов

Настя Аксёнова

Андрей Битов, 2013 год, фото Даниила Дубшина

Наум Коржавин с женой

Орхан Джемаль
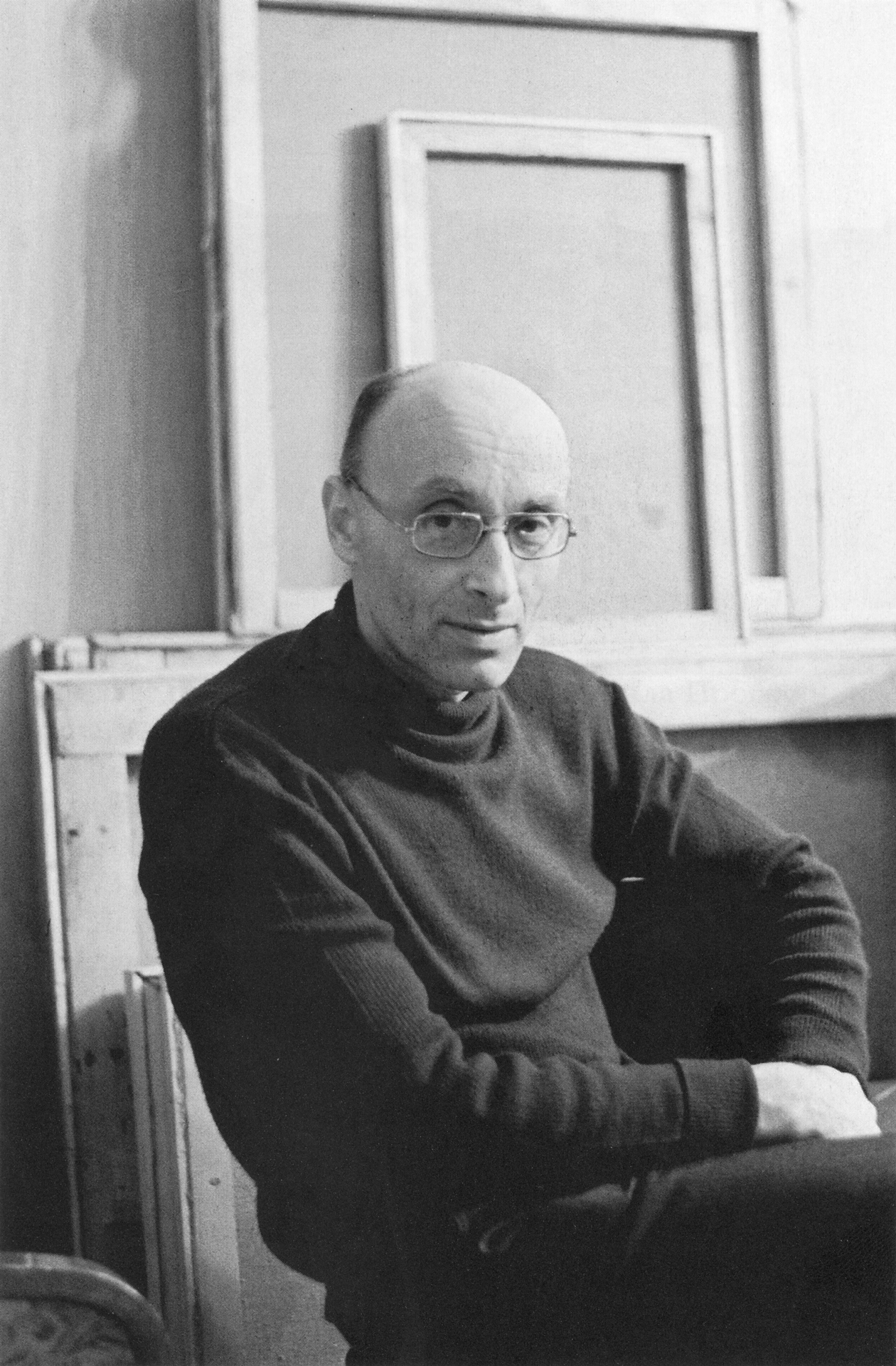
Оскар Рабин на Черкизовской, 1975 год, фото Игоря Пальмина

«Приморские партизаны», справа — Андрей Сухорада