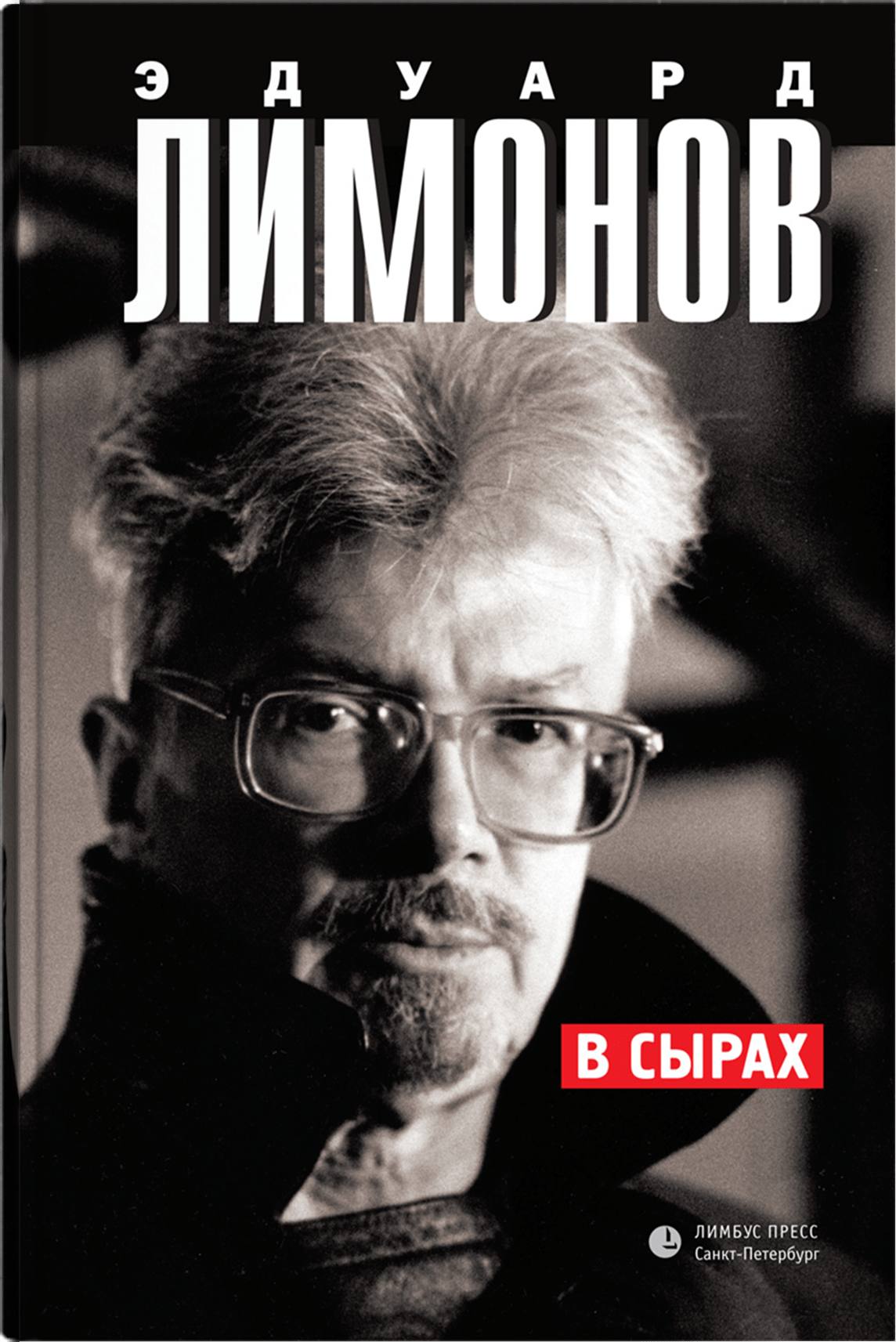Предисловие
Выйти из тюрьмы было хорошо. Потому что, несмотря на возраст шестидесяти лет, это давало возможность начать новую жизнь. А ведь человека,— хлебом не корми, дай ему возможность начать новую жизнь.
В тюрьме я помудрел. Потолкался среди русского народа, пожил, пострадал рядом с ним, видел с ним зачастую одни сны, опростился, одним словом. Слез с пьедестала своего знания и интеллекта. Стал, как Коляны, Сережки и Сашки. На уровне страдающего тела,— я как они, то неуместно строгий, то неуместно легкомысленный Russian man.
Вышел из лагеря я как-то быстро, не надеялся, а вышел. Между прочим как-то вышел. Не стремясь особо, готовый тянуть и выносить дальше. Но вышел.
И вот в конце августа я переселился в лунатический, пустой квартал старых строений, где под пыльным солнцем грелись только опасные бродячие собаки и не было в ту пору людей. Ну, как не было… В будние дни шли немногочисленные фигуры через тоннель вниз к Яузе, в завод «Манометр», но общее их количество вряд ли превышало размер бригады вохровцев, охраняющих завод. А так было пусто! Жаркий ветер пятидесятых годов прошлого века шевелил кронами пыльных деревьев, тихо осыпалась краска и штукатурка с перегревшихся старых домов. Сорные травы мощными корнями взрывали остатки когда-то асфальтированных тропинок, насекомые вольно плодились и размножались. Шуршали и пищали.
С самого начала промзона задала мне мистический тон. Разбухшие деформированные рамы окон моей квартиры поскрипывали, как суставы больного старика, форточки то не закрывались, разбухшие от погодных артритов, то вдруг становились на размер меньше. Вечерами непроницаемая темнота опускалась на Сыры, и если бы не охранники, было бы боязно мне подъезжать к моему подъезду… Ночами шумели кронами деревья, кричали дикие птицы и поезда. Порой доносились аудио отдаленных драк, возможно, это дикие бомжи дрались за булку хлеба. И всё это в пяти минутах от цивилизации, где на Садовом кольце уже был сооружён блистательный торговый центр «Атриум»!
Впрочем, со временем цивилизация медленно, но стала проглатывать Сыры. Вначале в подъезды поставили железные двери и домофоны. Проснувшись для жизни наконец, местные жители, потомки рабочих завода «Манометр», смекнули, что выгодное расположение в центре города даёт им уникальный шанс стать буржуазией,— «рантье», и стали сдавать внаём либо продавать свои квартиры, а сами удалялись жить в далёкие спальные районы. Семиэтажка (четыре этажа были построены в 1924 году, а ещё три надстроены в шестидесятые годы) заселялась иными, состоятельными, людьми. Автомобили всё плотнее забивали узкую полосу дороги вдоль дома. И это уже были недешёвые автомобили. Жильцы избрали пухлую высокорослую блондинку старшей по дому. И блондинка не была потомком рабочего завода «Манометр». Два дома en face от нашей семиэтажки были отремонтированы и снабжены оградами. В одном разместился банк, в другом всякого рода офисы. По ночам эти дома были освещены прожекторами, бьющими светом с их крыш. Стало слишком светло, если ранее было удручающе темно. Охранники стали дежурить у шлагбаумов. Происходил процесс «джентрификации», то есть «облагораживания» промзоны. Я наблюдал подобное когда-то вначале в Нью-Йорке, затем в Париже. И вот цивилизация стала наступать на Сыры, тесня её призраков…
Эта книга имеет подзаголовок «Роман в промзоне», справедлив ли этот подзаголовок? Таинственные Сыры послужили сценической площадкой и декорациями для пяти с лишним лет моей жизни. В «убитую» квартиру являлись персонажи моей жизни этих лет, её действующие лица. Являлись и персонажи из моей прошлой жизни, то есть, в конечном счёте, здесь происходила моя жизнь. Сюда приходили женщины и политики, сюда я привёл впервые будущую мать моих детей. Актрису. Ну конечно, это роман, но роман современный.
«Веничка…»
Выйдя из лагеря, я поселился за Курским вокзалом, в промзоне, на Нижней Сыромятнической улице, в обширной и запущенной квартире. Рядом с заводом «Манометр» стоит семиэтажный дом. Тогда это был единственный обитаемый дом в промзоне, стиснутый речкой Яузой с одной стороны и отходящими от Курского вокзала железнодорожными путями, вознесёнными на высокие эстакады, с другой. В доме жили всякие чудики. Гулял с собачкой поседевший музыкант Гера Моралес,— лидер группы «Джа Дивижен», у него на концертах висел над сценой рисованный марихуанный лист, ну вы всё поняли… На первом этаже, подо мной, жил майор милиции…
Всё вместе, с несколькими туннелями, с неработающими корпусами заводов, с пустырями за Яузой, место это, называемое в народе «Сыры», имело мистический вид. Здесь можно было целые дни снимать фильмы ужасов по сценариям Ганса Гейнца Эверса или Лавкрафта, ей-богу. Однажды возвращающуюся от меня рано утром девушку покусала стая собак, а в другой раз приехавшая ко мне в гости пара видела банду парней, крушивших бейсбольными битами автомобиль. В Четвёртом Сыромятническом переулке, как раз в том месте, где сейчас вход в центр современного искусства «Винзавод», ночами стояли толпой проститутки. Их привозили на двух микроавтобусах, этих бедных девок. Ну вы поняли, что было за место.
Как я попал туда? Я унаследовал квартиру (владела ею квартирная хозяйка — пожилая бывшая официантка, жена слесаря) от директора издательства «Ad Marginem» Миши Котомина. Вещей у меня после тюрьмы не осталось. Я приехал с сумкой и французским мешком «Почта Франции» и стал жить. Меня привозили и увозили на красной «пятёрке» охранники. Я строго подчинялся суровому распорядку жизни лидера радикальной (тогда ещё не запрещённой) партии. Если соседи пытались познакомиться со мной, я уходил от знакомств. Звонок на двери я отрезал, на стук в дверь не отвечал. Где-то через полгода жильцы установили домофон, и я стал пользоваться домофоном строго выборочно, отвечал только если ожидал посетителя. Девушка, встретившая меня из заключения, отвыкла от меня, пока я сидел, и постепенно отдалилась. Если я не был приглашён куда-либо, вечера я обыкновенно проводил с белой крысой, оставшейся от девушки, когда она вернулась к родителям.
Крыса откликалась на имя Крыс и была чудесным другом, веселила меня и скрашивала жизнь. Я, конечно, подумывал о том, что нужно бы обзавестись новой подружкой, но это предприятие для человека охраняемого, не покидающего дом без охраны, представлялось трудным. Трудоёмким. Впрочем, я неустанно пытался, подружки появлялись, но когда ты вышел из лагеря и тебе шестьдесят лет, тебе трудно угодить.
Однажды, была весна, я вернулся со скучнейшей вечеринки, устроенной одним немецким журналом в честь вступления в должность нового главного редактора. Делать там было мне нечего, толпа состояла главным образом из русских чиновников и официозных журналистов, юных девушек не было вовсе. Были крупнотелые матроны. Потому я больше обычного налегал на алкоголь. Так что, привезённый охранниками домой, я был слегка пьян и умеренно зол. С весёлыми возгласами молодые парни покинули меня, чтобы отправиться к подружкам, а может быть, они выпьют, наконец… Не мне же одному… Я запер за ними двери (тогда у меня были одни двери, впоследствии я поставил ещё одни) и отправился в кухню, где между старинной ванной на ножках и газовой плитой стояла клетка с крысой. Крыс радостно повисла на прутьях, предвкушая свободу. По ритуалу я должен был её сейчас выпустить, и после радостного путешествия по моей штанине, затем по рубашке, и на моё плечо, она спустится на пол, обегает всю квартиру, комнату за комнатой и коридор, все шестьдесят два квадратных метра…
Раздался стук в дверь.
Крыс успела выскочить в приоткрытую мной дверцу клетки и уже карабкалась по штанине моих джинсов. Я не пошёл открывать дверь, я даже не сдвинулся к двери. Оперативники стучат иначе, их наглый стук не спутаешь со стуком соседки, пришедшей попросить соли. Впрочем, никакие соседки меня давно не беспокоят. Боятся иметь дело…
Стук повторился. Такой сдержанный по характеру стук. Не оперативный. Можно было бы и открыть. Но мне запрещено открывать двери, если я нахожусь один в помещении. Я пошёл с крысой на плече в большую комнату, задёрнул шторы и включил телевизор. Шварценеггер металлическим весом топтал коридор мрачного подземелья, ловя в инфракрасный прицел бывшего полицейского, ставшего преступником. Там, за одиннадцатью метрами коридора от меня, всё ещё ненастойчиво стучали в дверь…
Стук оборвался. Крыс весело гоняла, хвост параллельно полу, вдоль стен пустой большой комнаты. Я сидел на королевского размера кровати, она у меня стояла в центре комнаты, и наблюдал за действиями уже обгоревшего металлического Шварца. Внезапно о стекло ударился, видимо, камень, а может, стреляли из пневматики. Нет, камешек… Ещё один. Я вздохнул и встал. Что-то происходило.
Я осторожно прошёл в свой кабинет (ничего особенного: стол, книжные полки) и не зажигая света чуть отодвинул штору. Посмотрел. В голых деревьях внизу стоял одинокий мужчина. Высокая лампа над подъездом позволяла увидеть, что это был немолодой мужчина в тёмной куртке и кепке. Поклонник моего литературного таланта? Сумасшедший, ищущий побеседовать с VIP-персоной на предмет спасения человечества? Отец нацбола, попавшего в тюрьму, пришедший переломать мне нос? Все варианты были для меня неприемлемы. Смущало меня и время действия. Было около полуночи, хотя ещё не полночь.
Набегавшись, Крыс нашла меня в тёмной комнате и вскарабкалась опять на любимое своё место, на моё плечо. Бросание камешков прекратилось. Пошёл дождь, стало слышно, как он стучит о жестяные подоконники…
Стук в дверь… С Крыс на плече я отправился к двери.
— Кто там, чего надо?
— Эдуард, я ваш родственник, извините за поздний час, можно войти?
Родственников у меня немного, но появляются. Дочь одной из моих двоюродных сестёр живёт в Магадане. Она ветеринарный врач. И даже лечила как-то собачку губернатора Цветкова, которого потом убили в Москве на Арбате.
— Назовите себя.
— Меня зовут Юрий. Я сын вашего отца.
*
Я открыл ему дверь, отпер два замка и задвижку отодвинул, продолжая осознавать, что он такое сказал. А сказал он ни много ни мало, что он мой брат. Между тем я вырос единственным ребенком в семье.
— Ради бога, извините, что я так вот, ночью. Но у меня завтра поезд. Он снял кепку и оказался лысым мужчиной, седая растительность сохранилась лишь над ушами и на затылке. Морщинистое белое лицо. И тут я его идентифицировал: он был на вечеринке немецкого журнала. Стоял в сторонке и поглядывал на меня. Я, впрочем, привык, что меня разглядывают, на улицах даже бывает пальцем тычут, в бока друг друга толкают локтями: «смотри, вон кто идёт…».
— Вы откуда сами, Юрий, будете? Зачем выследили меня?
— Город Глазов, Удмуртия. Вам ничего город Глазов не говорит?
— Город Глазов мне говорит. Пойдёмте в мой кабинет.
Я включил верхний свет.
— Снимите вашу куртку. Садитесь.
Он снял джинсовую куртку со множеством пуговиц и прострочек, и заклёпок. Её, такую, можно носить и зимой. Такие любят провинциалы. Куртка у него была мокрая. Интересно, что дочь моей двоюродной сестры из Магадана также всегда одета в джинсу: пальто её с разводами и вшитыми камнями помню. Она посещала меня несколько раз, приезжая в Москву на конгресс ветеринаров. Он сел в кресло, доставшееся мне в наследство от одной политической организации. И стал улыбаться.
— У вас крыса,— сказал он.
— А как вы думали… Конечно, крыса, у такого как я. Так вы Вениаминович?— Я сел в другое, точно такое же кресло.
— Да. Юрий Вениаминович…
— Надо же!.. Я думал, это всего лишь семейная легенда, ревнивые фантазии моей юной матери. Фантазии о сопернице в марийской тайге.
— В удмуртской,— поправил он.
— Мать говорила «в марийской». Он там дезертиров ловил. С мандатом, лично подписанным Берией.
— Всё правильно, только в удмуртской тайге. Молодым лейтенантом.
— Мать рассказывала, что считала уже, что потеряла его. Что у него там другая семья была, в марийских снегах, в 1943-м. Тотчас после моего рождения.
— Да, это так всё и было, только в удмуртских снегах. Рассказать вам всё по порядку? А потом вы мне расскажете о нём…
— Рассказать… Может, хотите чаю?
— Нет, чаю не хочу. Ну вот, я значит вас на год младше, 1944 года рождения. И вашего года рождения, и моего, как вы знаете, очень мало в России родилось. Поколение не получилось, да и на пол поколения не наберётся, потому что подавляющее большинство мужчин находились тогда вдали от женщин, на фронтах. На фронтах женщины бывали, но в ограниченном количестве и такого характера женщины, что не для деторождения предназначены. Наш с вами отец, Вениамин Иванович, на фронты не попал вследствие счастливого для него стечения обстоятельств. Призвался он в 1937-м, попал в особый полк ОГПУ и буквально накануне войны остался служить на сверхсрочную службу. Когда началась война, то НКВД своих людей попусту не тратил, берегли их. Брат отца, младший, Юрий, в честь его меня и назвали, был призван в дикой спешке. Их, не переодев даже, бросили на фронт под Псковом, там он и погиб, даже тела не собрали. Пропал без вести… Да вы, наверное, знаете все эти подробности биографии отца не хуже чем я!
— Знаю.
— Отец приехал в Глазов в 1943-м. Дезертирство было распространенным. Прятались в лесах, варили там свои каши, сбивались в банды и были опасны для местного населения. Мать говорит, он был очень красивый… А как на гитаре играл!..
— Сейчас под себя ходит. Мать таскала его в туалет, порвала себе позвоночник, теперь сажает в стул с дырой в сиденье, внизу ведро. Туда и ходит, прямо у постели. Вот что вытворяет время…— промычал я. Отцу восемьдесят шесть, и он уже год как не встаёт с постели. Он ничем не болен. Ему надоело жить, и только. Он собрался умирать.
— Я так и не решился к нему поехать,— сказал он.— Если честно признаться, то родственные чувства охватили меня сравнительно недавно. Пришли вместе со старостью. Так, видимо, современный человек устроен.
— Меня, после того как освободился из лагеря, в Украину не пустили в прошлом году. Задержали в КПП под названием Готовка, долго думали, что со мной делать. Наконец, ссылаясь на некие постановления их службы Безпекi, что есть эквивалент нашего ФСБ, запретили мне въезд в Украину до 25 липня 2008 года. Так что я отца в его нынешнем, жалком виде не видел, слава богу. Как зовут вашу маму?
— Софья. София.
— Это что, удмуртское имя?
— Да нет, нормальное, русское. Но она, да, удмуртка.
— Она жива?
— Жива. Живёт с нами, в моей семье. Она 1921 года рождения.
— Того же года, что и моя мать.
Мы помолчали.
— А братья и сёстры у вас есть, Юрий?
— Есть. Два сводных брата. У мамы от другого отца. Он уже умер.
Мы опять замолчали.
— Я читал ваши книги о вашей семье. «У нас была великая эпоха» и «Подростка» читал. В «Великой эпохе» наш отец мне понравился. Прочёл я эти ваши книги сравнительно недавно. И маме давал читать.
— Ну и как она реагировала?
— Да сидела, молчала и улыбалась… Потом стала вспоминать, как он приехал зимой 1943 года в длиннополой шинели, худющий и молодой. Привезли его в санях красноармейцы, и среди вещей мама отметила гитару. Собственно, вещей и не было особых. Худенький вещмешок, полевая сумка, пистолет на поясе. У нас полдома пустые стояли, и его определили к нам, чтоб не в казарме со всеми. Следователь всё-таки. Особист. С мандатом.
— Это был, я понял, частный дом ваших деда и бабки?
— Ну да, Глазов и сейчас город не большой, сто-тысячник, а шестьдесят лет назад и вовсе был сонным, провинциальным. Частные дома в основном. У деда был двухэтажный дом с кирпичным низом. Отца наверх определили в комнату моих дядьёв, они тогда на фронте были все три. Одного уже убить успели. Вот отец там и расположился. Правда, вначале, мать рассказывала, он и ночевать не приходил. Ушёл с отрядом в тайгу. Через неделю вернулись. Стали дела на дезертиров оформлять. Тогда, правда, всё проще было. По законам военного времени дезертиры подлежали расстрелу. В ряде случаев следователи и судьями становились. Военная выездная коллегия или как там…
— Так отец следователем там работал? Или членом судебной тройки?
— Из того, что мама говорит, получается и то и то. Двойные обязанности исполнял. Точнее говоря, и тройные исполнял.
— Что вы имеете в виду?
— Людей было немного. Фронт обескровил страну. С дезертирами некогда было законность соблюдать. Ставили к стенке в старом молокозаводе. И в расход… Сами судили, сами приговор приводили в исполнение.
Мы помолчали.
— Так что, и отец ставил?
— Судя по вашим книгам, вас не должен смутить такой эпизод в биографии отца… Мать говорит, что да, он их стрелял… Мучился, правда, они же все его возраста, чуть моложе. Ему двадцать пять было. Светленькие такие парни. Удмурты же к угро-финнам принадлежат. Среди них много блондинов. Я вот тоже был, пока не поседел.
— Как мучился?..
— Ну что, не спал, засыпал, во сне стонал. Ходил по комнате.
— Вы считаете, что беленьких стрелять тяжелее, чем брюнетов?
— Да. Беленький как мальчик, мальчика напоминает, что-то такое. В мальчиков же нельзя… стрелять нельзя… Жалко…
— Можем ли мы его осуждать?
— Можем, думаю.— Он замолчал…— Только что толку, все эти сцены ведь в книге Неба навечно записаны. Там, где Зло, в той части Книги.
— Это что, Книга Неба? Традиционные удмуртские верования?
— Да. Инмар, Бог Неба, хранитель Книги Неба, время от времени перечитывает её. Листает.
— Вы что, в этом разбираетесь?
— Немного. Историю преподаю. В частном порядке интересуюсь традиционными удмуртскими верованиями. У нас сорок богов и божеств. Дед мой весь этот пантеон знал. А прадед и вовсе был «восясь», то есть главный жрец. Вениамин называл маму «шаманочкой». Потому, что она из рода, где были несколько «туно» и один «восясь». «Туно» — это знахарь, шаман.
— У вас с собой фотографии мамы нет?
Он покачал головой.
— Нет. Если бы знал, что вас встречу, захватил бы.
— А «шаманочка» чем в жизни занималась? И в тот день, когда Вениамин вылез из саней в длинной шинели, она кем была, что делала? Ей было двадцать два…
— Детей учила в начальной школе. После педагогического техникума учила детей.
— А как она выглядела?
— Косу носила одну, толстую и длинную белую косу. На всех фотографиях сразу замечаешь эту особенную косу. Красивая была. Блондинка, но ресницы густые, чёрные. Глаза — как лёд.
— У моей мамы тоже серые. И даже сейчас, у старухи, такие пронзительные, как у волчицы. Её в доме «волчицей» называют за глаза… соседи… Отец был бабником? Как вы думаете, Юрий?
— Вам виднее, я ведь его жизни не знаю. Я и родился без него, вне брака.
— К тому времени, когда я обрёл сознание, он, вроде, не проявлял уже своих, как бы сказать, «наклонностей», что ли. Но мать отчего-то страдала, я помню. Они по ночам иногда препирались. Не ругались, но она его отчитывала, а он односложно отвечал. Я, кстати, тоже вне брака родился, они только в 1951 году расписались в ЗАГСе.
— Видимо, был бабником. Две семьи в возрасте двадцати пяти лет не так уж обычно… Он же у нас целый год пробыл, с мамкой у всех на виду жил. Ей нелегко было. Он же чужой, приехал, наших по лесам ловил, судил и расстреливал. Там сцены бывали порой, душераздирающие, мать рассказывала. Однажды прибрела мать дезертира, откуда-то узнала, где он живёт, дождалась и к сапогам его бух… Заревела. «Пощади, родной, сына! Ты сам мальчик худенький, совсем мальчик, не казни моего мальчика…».
— А отец что?
— А что он мог сделать? Помиловать не мог. Ему и не позволили бы. Он и в тройке старшим не был. С ним капитан был из местного НКВД, старше по званию. Поднял её. «Уходите, говорит, а то, и вас арестуют».
— А мандат, подписанный Берией?
— Мандат значил много, но решала судьбу тройка. А судьба была в тот год одна — расстрел. К тому же тот «мальчик», за которого мать его к сапогам нашего отца падала, был взят в результате боя с дезертирами. Они обороняли свой схрон, стреляли. Какая уж тут пощада… За этот бой отец получил свой первый орден Красной Звезды…
— А есть второй орден? Я знаю только об одном.
— Есть второй. К концу года был награждён второй раз. Вот за что именно не скажу. Но тоже за борьбу с дезертирами наверняка. Потому что он ещё в Глазове находился, а никакой другой деятельности, кроме борьбы с дезертирами, он в Удмуртии не вёл.
— Значит, за второй схрон получил. Видимо…
Дождь стучал настырный, потому что была сильная оттепель, какие бывают в марте в Москве. Мы сидели, два седых человека, обсуждая деяния двадцатипятилетнего нашего отца, который обоим нам дал жизнь, заронив своё семя в двух разных женщин.
— Вы представляете, Юрий, тайга, тёмные деревья, снег, рассвета ещё нет. В предрассветных сумерках движутся цепью среди деревьев красноармейцы в длинных шинелях. Подбираются ближе к схрону. Из землянки чуть-чуть ещё идёт дым от вечерних дров, накануне вечером дезертиры сытно накормили печку, чтоб спать было тепло. Там они лежат, прикрывшись полушубками, белесые и конопатые крестьянские угро-финские парни. Темноволосых немного. Распарились в сырой духоте землянки. А цепь всё теснее смыкается вокруг землянки. Наконец наш отец, с пистолетом в руке, вместе с парой рослых красноармейцев вышибают дверь землянки своими телами. Врываются в сопящие тёплые сумерки. Навстречу им стреляют из обрезов. Красноармеец падает. Наш отец даже не ранен… Красноармейцы выволакивают дезертиров на снег. Дезертиры в исподнем. Кто в белом солдатском белье, кто в крестьянском. Руки заломаны… Руки подняты. Светает. Они стоят босые на снегу и дрожат все от холода. Представляете, Юрий?..
— У вас писательское сильное воображение. Мне даже стало холодно.— Юрий поёжился.
— Воображение тут ни при чём. Меня самого именно так арестовывали. В горах на Алтае — в снегу, в избушке. Нас было восемь человек в избушке. Был смутный рассвет. Жарко натоплено. Один из нас встал и вышел отлить. Сонный заметил стягивающуюся к избушке цепь стрелков, сводный отряд ФСБ. Вбежал, кричит, что там военных целый лес. Их-таки оказалось свыше семидесяти бойцов. Ворвались с дикими криками. Все кричали разное: «Лежать!», «К стене!», «Руки за головы!», «Лежать, суки!», «Встать, суки!» Ясно, что исполнить все их приказы сразу было невозможно. Мы остались лежать, кто где был. Потом нас стали выволакивать по одному. Босиком. Кто спал в носках, оказался в лучшем положении, потому что нас долго продержали на снегу, как мы были, босиком, и в исподнем с поднятыми руками. Потом позволили одеться и отвели в баню. Там мы ещё долго сидели, нас выводили допрашивать.
— Страшно было?
— Страшно. Мы поначалу решили, что это казахская национальная безопасность с той стороны границы. Думали, что они нас всех поубивают где-нибудь на краю ущелья. Медведи, волки и птицы довершат остальное. Но это оказались «наши». Ещё видео сняли, как мы стоим, выгнанные на снег, руки за головами, в исподнем, босиком. Для истории останется. Так что очень хорошо представляю, что чувствовали дезертиры, когда наш отец туда в их сонный схрон ввалился с красноармейцами.
— Получается, что вы в тот момент с отцом оказались как бы по разные стороны фронта? Отец наш был всегда на стороне государства… А вы побывали в шкуре дезертиров.
— Это всё так, но в Алтайских горах меня арестовали, чтобы обвинить в подготовке захвата и отделения от соседнего Казахстана Восточно-Казахстанской области. В попытке создания сепаратистского государства с последующей целью присоединения его к России. Таким образом, наш отец, если бы он был в сводном отряде ФСБ в то утро, не был бы на стороне России. В то время как в 1943-м он был на правильной стороне… В 2001-м я был на стороне России.
Мы замолчали.
— Может, вина хотите? Водки нет…
— Да я не пью вовсе.
— Что и на дни рождения не пьёте, и на Новый год? И не курите, наверное?
— И не курю. Когда выпил однажды две рюмки, болел потом.
— Вы как он. Не пил и не курил всю жизнь. Непьющие и некурящие чекисты, наверное, были самыми страшными. Этакие аскеты-Кащеи.
— Я не злой человек,— улыбнулся он.— А что, он так и не пьёт до сих пор?
— Какой пить, в лёжку лежит, ссохся весь, мать говорит, голова ссохлась, как старый орех. Еле говорит. Мать с ужасом призналась мне на той неделе по телефону, что адски устала, что ждёт, чтобы он умер. Что ей унизительно видеть его, когда-то красивого, обаятельного, беспомощно лежащего на полу, измазанного дерьмом… Это она, с которой вместе прожили шестьдесят два года, ждёт его смерти!
— С моей мамкой он прожил год,— сказал Юрий.
— Вот как печален, некрасив, и даже страшен конец таких вот героев, как наш батька. Интересно, что он о своих орденах Красной Звезды молчал, может, стеснялся, что они не на фронте получены.
— А почему у отца карьеры в армии не получилось? Насколько я знаю, он ведь проходил в старших лейтенантах чуть ли не лет двадцать. И только перед уходом из армии звание капитана получил, так ведь? Как так, ведь он же умница был…
— На эту тему отец никогда не высказывался, как и на многие другие темы. Я подозреваю, что он, пусть он и был младшим офицером, принадлежал к какой-то подавленной и расстрелянной чекистской группировке. Его оставили на свободе и живым только потому, что он был простой исполнитель. Знаете, Юрий, когда стали появляться машинные копии Солженицына, у меня, помню, состоялся с отцом разговор, году в 1968-м, по-моему, это случилось. Я приехал из Москвы, где провёл год, и стал ему выкладывать свои новоприобретённые знания о ГУЛАГе, о репрессиях 1930-х годов. Он мне вдруг сказал: «Я читал вашего Солженицына! Что он знает, он ничего не знает! Я видел такое, что страхи, которыми он стращает,— детский лепет… Вот если бы я написал…» И отец замолчал. Больше никогда я от него на эту тему ничего не слышал. Я думаю, он участвовал в жутких вещах, может быть, даже почернее, чем охота на дезертиров в удмуртской тайге и их ликвидация…
Мы замолчали. Словно нам потребовалась передышка, чтобы зарядить свои внутренние аккумуляторы. Наш общий отец нас с ним измотал. Сидели и молчали. Моя крыса внимательно слушала тишину с моего плеча.
— В «Подростке» у вас есть сцена, где вы…
— Давай на «ты», наверное, перейдём, брат. А то как-то странно мы стали звучать.
— Давай, брат. В «Подростке» есть сцена, где герой, ну то есть ты, едет встречать отца на вокзал и отыскивает его в тупике на задних путях. Где отец возглавляет конвоиров, загоняющих заключённых из вагон-зэка в автозаки. Это правда было или придумано?
— Правда было. В пятидесятые годы отец служил в конвойных войсках. Уезжал в далёкие командировки в Сибирь. От меня, впрочем, как и от соседей, скрывали, где он работает. Я случайно набрёл на эту сцену. До сих пор ярко помню. Зэков мне стало жалко мгновенно. Может, я предчувствовал, что однажды сам стану заключённым.
Он посмотрел на часы.
— Оставайтесь у меня. Переночуете. Метро давно закрыли, а такси в моей промзоне поймать непросто.
— Не могу, меня приятель в машине ждёт. Мы ведь за вами ехали.
— Так вы меня после презентации выследили?
— Да,— скромно потупился он.
— Недаром вы сын чекиста.
— Мы же уже на «ты». Ты тоже сын чекиста.
— А откуда ты узнал, что я буду на презентации?
— Есть такая сеть, интернет. Там написали, что среди других гостей ожидаешься ты. Михаил мне показал сообщение. Мы поехали. Пройти было нетрудно.
— Михаил это твой приятель? Который в машине?
— Да, он сюда лет двадцать назад переехал. Из Глазова.
— Позови его. Чего он там сидит в темноте в машине.
— Да не стоит, мы уже поедем. У меня завтра рано поезд,— он встал.
— Ну как хотите, Юрий.
Я тоже встал.
Я дал ему свою свежеизготовленную простую визитную карточку, лаконично нёсшую на себе только имя-фамилию-номер мобильного телефона. Он, подойдя к моему письменному столу, записал мне номер его глазовского телефона. На столе сидела крыса. Он сказал ей, улыбнувшись:
— До свиданья, Крыс!
Крыса поняла и пискнула. И поднялась на задние лапы в знак дружелюбия.
Юрий одел куртку. Мы пошли к дверям, я впереди. Я отпер все замки, и он переступил порог. Обернулся.
— Вы его любите, Эдуард?
— Люблю ли я моего отца? Я люблю моего отца, кого бы он там ни стрелял, да хоть гугенотов, будь он католик во время Варфоломеевской резни. Это же мой отец, юноша, который создал меня из любви к юной девушке. Вас он создал от любви к «шаманочке».
— Как ваша мама называла отца?
— «Веничка».
— Моя мама тоже называла его «Веничка».
*
Наш отец умер в самом конце марта. Через неделю после ночного визита ко мне брата… Юрий никогда не позвонил и не появился. Возможно, мой брат тоже умер. Все ведь умирают. Без исключения.
Девочка-бультерьерочка
Она потолстела. Когда я, оторвавшись от ликующей толпы, сел в старенький «Мерседес» адвоката, она уже сидела там. Нацболы бушевали за стёклами, довольные. Я, их лидер, дёшево отделался — оказался на свободе всего через два с половиной года. Мог отхватить пятнадцать. За стёклами «мерса» на ликующих нацболов обильно лил дождь.
— Ну что, ты со мной или не со мной?— спросил я, повернувшись к ней.
— С тобой,— сказала она ватным голосом. Я прижал её к себе. На ней была шляпка из бархата — такие бывают на незамысловатых куклах. Подбородок у неё округлился. Румянец со щёк исчез, но щёки были полными. И переходили в полную шею. Когда меня посадили, ей было восемнадцать. Сидящей со мной в «мерсе» был двадцать один. Старая.
И мы стали жить. Вначале несколько суток провели на надувной постели редактора газеты «Лимонка», где-то в Кунцеве. Далее перебрались в буржуазную квартиру известного политолога-аналитика на Космодамианской набережной. Там наличествовали две спальни, холл с зеркальной стеной, два санузла, телекамера, наблюдающая входную дверь и лифт, и многие другие прелести, включая контрастный душ и отличную библиотеку. Ей там понравилось. «Прикольно!» — сказала она. Она было привезла туда своего ужасного, белую свинью, бультерьера, но даже очень гостеприимный хозяин, однажды появившись, заворчал, и бультерьер был возвращён в квартиру её родителей, где она проживала последние годы, пока меня жевало правосудие. О бультерьере потом, вначале о ней, бультерьерочке.
Она всегда была такой себе девочкой с окраины, злой и немного нелепой. Маленького роста, блондинка, с пристрастием к проклятым российским панк-типажам, ну знаете, мёртвенькая Янка Дягилева, ещё живой тогда, но крепко качавшийся Егорушка Летов… Позднее её бросило к Мэрлину Мэнсону. Перед самым моим арестом в нашей квартире, в прихожей, она, помню, повесила бесовский портрет его с разными глазами. Когда приходившие ко мне политики (один раз был даже министр КГБ Приднестровской республики) удивленно таращили глаза на безумный портрет, я обычно считал нужным отмежеваться от него. «О, знаете, это моя дочь повесила! У подростков нынче странные вкусы!». Политики разглаживали лица. Понимающе улыбались…
У нас с ней была разница в тридцать девять лет. Когда мы познакомились, ей было шестнадцать, а мне уже пятьдесят пять. Однако на самом деле нас разделяло не такое уж большое расстояние. Общество несправедливо к таким парам, какой были мы с ней. На самом деле между нами лежало совсем небольшое количество биологических лет, которые не соответствуют никогда календарным. Она была маленькая женщина по всем её повадкам, с обворожительным, порой злобным, порой ангельским личиком, со взрывным характером. Однажды она полоснула меня по руке лезвием, которым до этого уютненько вырезала из журналов коллажи, сидя в уголке, за столиком, под лампой. За что-то обиделась, вскочила и полоснула. И снова уселась в уголок, вся домашняя, в носочках… Своих сверстников она презирала, себя высоко ценила, и когда мы столкнулись в жизни, она, видимо, решила, что я её достоин. Что там в точности думала эта маленькая бестия, я не могу знать, но до тюрьмы мы с ней отлично ладили, она порой поучала меня, и жили мы в общем весело. Тогда я ещё не считался государством настолько опасным, чтобы преследовать меня круглосуточно, потому мы часто нарушали правила безопасности, выходили ночью в близлежащий двадцатичетырёхчасовой магазин на углу Гагаринского, я покупал себе пиво, а ей — мороженое, и мы бродили, обнявшись, по арбатским переулкам, я тогда жил у театра Вахтангова. Оглядываясь назад, я вижу, что был тогда очень счастливым человеком, думаю, подавляющее большинство мужчин планеты могли бы мне позавидовать. Ведь я, когда хотел, задирал ей юбчонку, этой малышке…
Но вернусь-ка я к хронологии событий и стану излагать мою жизнь с ней после тюрьмы. В конце августа того же года я поселился в Сырах, в промзоне между Курским вокзалом и речкой Яузой, вблизи завода «Манометр». Место было тогда пустынное и пейзажно напоминало российский рабочий городок образца, скажем, 1953 года, скажем, сразу после смерти Сталина. Дом, в котором я поселился, был построен в 1924 году для рабочих завода «Манометр», потолки были высокие, комнаты большие, всего в квартире насчитывалось шестьдесят два квадратных метра. Второй этаж. Тенистый двор, детская и баскетбольная площадки бок о бок. Прямо оазис в разрушающейся промзоне. Квартира была, правда, что называется, «убитая». И очень.
Вначале я с энтузиазмом пытался изменить квартиру. В кухне висел расквашенный утечками воды сверху пятнистый потолок, и он раздражал особенно. Мои охранники собрались по моему зову, и мы как могли сбили этот ужасный потолок, побелили кухню. Михаил выкрасил в чёрный цвет старую ванну на львиных лапах (ванна стояла в кухне! в 1924 году рабочие ходили в бани, потому ванные комнаты не были предусмотрены), сделал чёрной вентиляционную трубу под потолком кухни и дверцы встроенного под подоконником шкафа (холодильник образца 1924 года!). Мы сорвали несколько рядов проводов в коридоре, служивших бельевыми верёвками многодетной семье хозяйки, разобрали убогую антресоль над входной дверью. Туалет с ужасным ржавым бачком трогать не стали. Бедный вульгарный линолеум в цветочках покрывал пол коридора. Мы пока оставили его в покое. Две вместительные комнаты имели щелястые деревянные полы, крашенные красным. Из меньшей я сделал себе кабинет, в большую поставил купленную за пятьсот рублей двухметровой ширины кровать. Ровно посередине. Выглядела комната таинственно.
*
Бультерьерочка приехала с бультерьером.
Ей не понравилась квартира. Она предпочитала ту квартиру, куда нас пустил политолог. А мне не понравился бультерьер. Белый, с красными глазами, похожий на мускулистую свинью. Молчаливый, он всегда норовил встать у меня сзади. И молчал там, чего-то выжидая. Когда существо с могучими клыками стоит за твоей спиной, ты невольно начинаешь испытывать опасения за свою жизнь.
Надо сказать, что у неё уже были бультерьеры. Когда ты метр с кепкой ростом, белокожая блондиночка, живёшь в спальном районе, то, видимо, такой хочется укрепить себя в жизни подпоркой. У неё был брат, на четыре года старше, но от него подпорки и безопасности было мало, никакой, он быстро стал компьютерным программистом, при этом всё время терял девушек и переживал по этому поводу трагедии. С семьёй в целом она также плохо ладила. Отец её был часовщик, и очень неплохой, он одним из первых в девяностые годы стал мелким бизнесменом: открыл свою палатку и стал починять гражданам часы. Быстро научил своему ремеслу молодого подмастерья, открыл ещё одну палатку и посадил туда подмастерья. Её отцу умилялись бы Гайдар и Немцов, Хакамада бы в нём души не чаяла. До тех пор пока не узнала бы, что её отец был, к сожалению, запойный пьяница, и когда запивал, то поил весь квартал в своём спальном районе. Никакого накопления капитала, таким образом, не происходило и происходить не могло. Отец не успокаивался, пока не пропивал всё заработанное, в доме не было еды, и мать с трудом отстаивала простыни и одеяла. Мать у неё работала на овощной базе не то инспектором, не то контролёром. Семья жила в ритме запоев отца, и такая семья не могла её защитить, хрупкую, белокожую и маленькую. Потому она обратилась к бойцовским собакам и предпочитала бультерьеров. А потом она обратилась ко мне.
Когда мы познакомились, у неё уже был один, точнее, одна бракованная самочка. Я уже с трудом вспоминаю, что именно у неё было бракованное, то ли окрас не тот, то ли сосцов было больше, чем нужно, или меньше, чем нужно. А может быть, самочка была не совсем «буль». На заре нашей любви она приезжала ко мне несколько раз с этой первой «булькой», и помню, что несколько раз мы спали все трое на полу в моей «жилой» комнате, она же кухня и гостиная…
Как бы там ни было, тюрьма была позади, лагерь позади, верная, но повзрослевшая подруга явилась жить со мною в «убитую» квартиру в Сырах. Довольно долго ещё она продолжала привозить из квартиры родителей (я давал машину) наши с ней дотюремные вещи. Большая часть вещей пропала, в том числе и многие мои книги, но часть сохранилась… Ах да, я позабыл сообщить, что в появлении последнего по времени её бультерьера в квартире в Сырах был повинен именно я. Когда в апреле она пришла ко мне на свидание в Саратовскую центральную тюрьму, она через стекло попросила разрешения завести собаку.
— Какую собаку ты хочешь?— спросил я.
— «Буля»,— сказала она и вздрогнула ресничками.
Я ей разрешил. И даже дал будущей собаке имя: Шмон, что по-тюремному значит «обыск». Потому что прокурор как раз тогда запросил мне срок: четырнадцать лет строгого режима, и я предполагал, что, прежде чем я выйду на свободу, бультерьер успеет прожить всю свою жизнь бойцовой собаки и благополучно отойдёт в мир иной. Либо я не выйду из-за решётки — человек моего возраста рискует при таком сроке, что его вынесут ногами вперёд… А случилось всё иначе. Судья счёл недоказанными обвинения по трём статьям и приговорил меня к четырём годам, а уже через полгода я вышел на свободу условно-досрочно, так как больше половины срока отсидел уже в тюрьмах. И мы встретились. Бело-розовый, тугой, как мешок с песком, мускулистая свинья с мощными клыками, и я. И стали игнорировать друг друга.
Я определил ему место в нише в длинном коридоре. Мы положили туда несколько диванных подушек, оставшихся после предыдущих жильцов, и он там подрёмывал, когда не бродил молча, топоча твёрдыми ногами по квартире. Судя по всему, у него был не злой, но тупой и медленный разум боевого животного, опасный уже тем, что был медленным. Медленность эта не оставляла никакой надежды на то, что, однажды сомкнув челюсти на твоём горле, он разомкнёт их. Он никогда не лаял, несмотря на то, что за стеной, в соседней квартире, жила и изнуряюще тявкала мелкая скверная чёрная собачонка. Он как бы даже и не слышал её истерик (а она отвечала лаем на малейший шум в подъезде, на лестнице и на улице; она лаяла даже на поезда вдали на эстакаде, ведущей к Курскому вокзалу!), из чего я сделал умозаключение, что он не понимает её собачьего языка совсем. У него был другой язык. Если его что-то беспокоило, он издавал хриплый внутренний гул, храп такой, как правило, короткий, как внезапно закипевшая кастрюля.
В первую же ночь он полез к нам в постель. Потому что она приучила его щенком, пока я сидел в неволе, спать у нее в ногах. «Шмон! На место!— сквозь сон вскрикнула она.— На место!». Результата не последовало. Вонючее животное влезло на нас и стало бесцеремонно расхаживать по нашим телам, разрывая простыни костяными когтями. Ей пришлось встать и вывести его. С тех пор мы закрывали ярко-синюю дверь на задвижку. Однако он еще долго стучал ночами твёрдой башкой в дверь, пока не привык к новому порядку.
А новый порядок вынужденно всё равно был организован вокруг него. Она вставала утром, зевая, и полусонная, напялив одежду, уходила тотчас на улицу, выводила его отлить. Возвратившись, она начинала готовить ему еду. Варила перловку, а в перловку мелко резала печень либо мясо. Перловку она заботливо охлаждала, а он в это время нетерпеливо бил жёстким хвостом по полу и стульям. Понаблюдав за всем этим с месяц, я вдруг понял, что попал в добровольное рабство какое-то. Что за пухлую белую попу, маленькие ступни и ляжки, за синие глаза пупса я вынужден делить территорию с молчаливым солдафоном, звучно воняющим после поеденной перловки. Более того, когда он зевал, обнажая клыки убийцы, я думал, что однажды он, пожалуй, сомкнёт эти клыки вокруг моей шеи либо легко отгрызёт мне руку — своими аристократическими точёными запястьями я всегда гордился.
Она стала часто обижаться на меня за всяческие мои, как она, видимо, считала, придирки к ней. Ну, скажем, я пенял ей на то, что она, обладая несомненным литературным даром, ничего не написала за те годы, которые я провёл в тюрьме, и даже не привела в порядок тексты под общим названием «Девочка-бультерьерочка», которые у неё уже были написаны, когда мы познакомились.
— Ты ленива, так ты ничего не добьёшься в жизни!— восклицал я.
— Я работала!— зло вскрикивала она.— Мне пришлось нелегко!
Она, действительно, продавала мороженое, а потом трудилась в зоомагазине, пока я сидел. Чудаковатая девочка, однажды она в конце рабочего дня раздала бесплатно оставшееся мороженое детям и старушкам. («Оно всё равно таяло!» — пояснила она мне, рассказывая эту историю.) За что её с треском и скандалом выгнали, удержав стоимость розданного мороженого при расчёте. С зоомагазином у неё тоже не сложились отношения. Она встала на сторону зверей, и хозяин её уволил.
— Не оправдывайся! Всегда можно выкроить несколько часов на творчество. Я вон даже в тюрьме писал… Вместо того чтобы прогуливать этого вонючего солдафона, ты могла написать книгу. Ты убиваешь своё время!
Она рычала в ответ. Будучи по природе своей девочкой аутичной, она рычала, как её любимые животные. Разъярённая, она пристёгивала мускулистую свинью к поводку и убегала. Ехала в спальный район к матери. Впрочем, мои нарекания оказались не напрасными. Видимо, возненавидев меня, она всё же стала злобно работать над текстом «Настроение злости». Впоследствии мне удалось напечатать его у издателя Бориса Бергера, вместе с последней пьесой покойной Наташи Медведевой. Когда вышла книга, мы давно уже не жили вместе.
Помню первый мой Новый год на свободе. Шмон, слава богу, остался у её родителей, а она приехала ко мне, хотя предшествующую Новому году пару недель прожила там же, в очередной раз обидевшись на меня. Помимо моих обвинений в лености, я еще предъявлял ей обвинения в бесчувственности. Объясню позже. Сейчас — Новый год.
Мои охранники в тот год подрабатывали на ёлочном базаре. Они привезли мне связку разрозненных еловых лап, и с их помощью я соорудил неслабую ёлку. Моя ёлка выглядела далее убедительнее, чем иные цельные деревья её породы, гуще и благороднее. Я повесил на моё сооружение сплошь красные шары и опутал ветви лампочками. В большой комнате, сдвинув кровать для такого случая в угол, установил ёлку, рядом стол и накрыл его на две персоны.
За окном лежал снег и стояла вторая ёлка. Дело в том, что жители нашего единственного в призрачной промзоне жилого дома установили на детской площадке, в центре её, свою ёлку. Эти жители, видимо, были неленивые и предприимчивые люди, жаль, что мне не пришлось познакомиться с ними поближе, пусть они поймут, что это не из высокомерия я с ними не сближался, но из необходимости обеспечения безопасности.
Итак: снег, в «убитой» квартире прохладно, но уютно. Ёлка, лампочки мигают, красные шары и на ёлке висят, и под потолком. (Там были оставлены зачем-то предшествующими жильцами в потолке крюки и стальные нити.) Пахнет свечами, потому что мы зажгли свечи с моей крошкой. Сидим, праздничные, она беленькая, в чёрном бархатном платьице, я ей когда-то купил. Ждём полуночи, включили телевизор, чтобы под двенадцатый удар… нет, не выпить сразу шампанского, оно на столе уже налито, в блистательные узкие фужеры; но чтобы вначале каждый взорвал свою петарду с конфетти. Это была её выдумка, с петардами, не моя. Путин, жёлтый лицом, в реглане, вещает, стоя у кремлёвской церкви, затем часы показывают на Спасской башне. Мы встаём с крошкой: девять, десять, одиннадцать ударов! Рвём с двенадцатым ударом за нитки наших петард. Моя взрывается, обрызгав нас разноцветными кусочками бумаги и оглушив. Её не взрывается, сколько она её ни теребит. Я забираю её петарду в свои руки, пытаюсь понять, что можно сделать. Но не взрывается и у меня её петарда. И нитка обрывается.
Она расстроена. Личико искривилось.
— Не будет мне счастья в этом году!
Мы пьём шампанское, у нас в тарелках уж не помню что, но праздничная еда (как бы не авокадо с креветками из кулинарии, запахом именно этим тянет из прошлого…), однако настроение у неё испорчено.
— Мне не будет счастья в этом году! Почему, почему я не взяла твою петарду!
— Ты считаешь, что мне счастье не необходимо?
— У тебя и так всё есть,— бурчит она.
В утешение ей мы сжигаем целую связку бенгальских огней. Комната наполняется сизым дымом.
— Это ты виноват! Ты нарочно подсунул мне бракованную, а себе взял хорошую…— ноет она.
Недолго пробыли за столом. Обыкновенно она много не пьет, но в ту новогоднюю ночь выпила изрядно. Ложимся в постель.
— Как хорошо, что нет Шмона!— воскликнул я на свою беду.
— Что тебе сделал бедный Шмон?!— огрызается она.— Он тихо сидит здесь в коридоре на своей подстилочке и никого не трогает. Там ему, кстати, дует, в коридоре…
Я не спорю с ней. Я задираю ей ночную рубашку и влезаю на девочку.
— Ну!— фыркает она.— Чего?! Я спать хочу!
Я пытаюсь её целовать, но она отворачивает лицо и сжимает зубы.
— Маленькая дрянь!— говорю я.
— Утром, утром,— шепчет она и засыпает.
Утром сцена повторяется. Злой, я ругаюсь с ней.
— Ты окаменела, пока меня гноили за решёткой! Ты ничего не чувствуешь!
— Я ни с кем, ни с кем,— фыркает она и рычит.
То-то и оно, что ни с кем, вот и окаменела вся, думаю я зло. За эти годы без меня её аутизм прогрессировал, она законсервировалась. Проблематично это утверждать, но, возможно, лучше было бы, чтобы она не была мне так уж верна в мои тюремные годы, зато сейчас бы я счастливо лежал с маленькой беленькой любовницей, а не с куском тёплого гипса.
Вновь лезу на неё, раздвигаю ноги. Она начинает смеяться, как дурочка. «Ха-ха-ха-хи-хи!».
— Что ты смеёшься, как дурочка?
— Над тобой. У тебя не получается… Ха-ха-ха!
— Перестань смеяться, как идиотка! Толстая стала какая! (Я держу её в это время за попу.)
— Ничего не толстая, сам толстый!
Рассерженная, она вскакивает. На ней ночная рубашка, подаренная когда-то моей мамой. Я вспоминаю, как до ареста, когда мы прожили с ней зиму в Красноярске, она носила там эту ночнушку. Умилительно…
Она уехала. И долго-долго не возвращалась. С месяц, наверное. Я несколько раз звонил ей и ругался с ней. Она перестала подходить к домашнему телефону, а свой мобильный она почти всегда держала выключенным и до этого. Зачем девушке-аутистке — действительно, зачем — включать мобильный телефон? Я не то чтобы обрывал её домашний, но время от времени бесился от одиночества и пытался найти её. Однажды ответила её мать. Мы с матерью были знакомы. Когда в 1998-м отец выгнал девчонку из дома и она явилась ко мне с рюкзаком, большим, чем она сама, и стала жить у меня, то через несколько недель ко мне пришла её мать. Её мать немедленно сумела понять меня (!!!) и успокоилась. Я даже накормил её, если я правильно всё помню, и мы выпили. Мать её произвела на меня очень позитивное впечатление.
— Её нет,— сказала мать, вздохнув.— Нет её, Эдуард. Как вы после тюрьмы?
— Я нормально. Слушайте (я назвал её по имени-отчеству), а у неё не появился там парень?
Её мать опять вздохнула.
— Этого уж я не могу знать, Эдуард. С её характером, какой должен быть парень… Это только вы умеете с ней общий язык находить…
— Умел,— сказал я.
— А что такое?
— Вышла из подчинения.
Её мать вздохнула.
— Что вы вздыхаете всё? С ней всё в порядке?
— Утром было всё в порядке, когда в институт поехала. Я вздыхаю из-за папули нашего.
— Запил?
— Угу.
Я оставил её мать в её ситуации, так как всё равно ничем не мог ей помочь.
Через несколько дней моя подруга вернулась, как ни в чём не бывало. С солдафоном на поводке. Потянулись рутинные утра: приготовление перловки, сырое мясо режется в перловку, перловка остывает, биение хвостом о ножки стульев и стола, сжирание в мгновение ока мяса и перловки красноглазой свиньёй.
Поскольку память моя доверху набита всяческими человеческими мудростями, я, поднатужившись, выхватил из памяти нужную. «В этой жизни, плывущей, как сон,— вспомнил я строки из «Хакагурэ»,— жить неудобно и мучиться есть величайшая глупость». Величайшая глупость, повторил я, проходя по коридору мимо лежащего на спине сукиного сына. Он в это время ёрзал задницей по подушке, выставляя напоказ внушительный член. Фу, какая мерзость! И хотя это было только животное, весом всего килограмм тридцать, мне было неприятно, что в моей квартире выставлена его физиология. Я помню, что так и думал, дословно: «мне неприятно». Что возьмёшь с животного, однако он там корячился, ёрзая задницей и позвоночником о диванные старые подушки, и это вызывало во мне протест. Вызывало протест, что он валяется на моей территории со своим членом.
Мы в постели. Глаза пупса, пухленький животик, сиськи с розовыми сосками… Тружусь над ней. Ничего не чувствует, отворачивает лицо от поцелуев.
Злой, как полсотни дьяволов, вскакиваю, рву на себя синюю дверь, пробегаю мимо мускулистой свиньи (он сполз с подушек и валяется, перегородив коридор, один красный глаз открылся и проследил за мной), прибегаю на кухню и наливаю себе портвейна. Выпиваю залпом. Возвращаюсь. Она дремлет. Один глаз открылся, оглядел меня и захлопнулся…
Я пришёл к выводу, что она засохла. Я сказал ей утром, что она стала бесполой. Она обиделась и уехала с солдафоном на поводке. Признаюсь, я был даже счастлив, что с меня сняли это иго.
*
То, что время идёт, мне было заметно по детской площадке под моим окном. За тот год, что я ссорился и мирился в Сырах с бультерьерочкой, тощие девочки-подростки вдруг превратились в грудастых невест. Моя «невеста» некоторое время ещё появлялась. Но всё реже. Правда, в последний свой приезд бультерьерочка задержалась у меня более чем на месяц, удивительное дело! Кончилась такая стабильность финальным взрывом. Вот как это было. Между нами тремя (я, она и Шмон) произошла следующая сцена.
Я вернулся однажды довольно поздно, в крепком подпитии. Охранники доставили меня в квартиру и, что называется, «откланялись». Она смотрела, валяясь в постели одетая, телевизор. Я сел на край кровати и стал тоже смотреть телевизор. Вдруг из коридора (дверь оставалась открытой) явился Шмон, как-то скромно подошёл ко мне сбоку и — о, невероятно!— положил мне свою тяжёлую твердую башку на колени. Молча.
— А!— воскликнул я.— Ты признаёшь себя моим вассалом, Шмон!
Он вздохнул. А я погладил его твёрдую лысую башку. И он в ответ облегчённо хрюкнул. Он не выдержал напряжения. Он признал меня хозяином. По всей вероятности, он наслушался наших с ней разговоров, в которых мой голос звучал громче и настойчивее. По громкости и энергии моего голоса и по уверенности движений он догадался, что я господин его хозяйки. И, следовательно, его господин. Он поступил разумно. Пусть я и упрекал его в медленности его звериного разума.
Девочка-бультерьерочка с ужасом смотрела на нас.
— Видишь?— сказал я ей.— Захочу, уведу у тебя собаку!
На следующий день она уехала, забрав Шмона. Я не присутствовал, меня не было на месте. Уехала и больше не возвратилась. Такой обиды она стерпеть не смогла. Следующий Новый год я встретил с охранниками, без неё. Где была она, не знаю.
Я потом думал: петарда в Новый год виновата? Не петарда? Не взорвалась ведь её петарда с двенадцатым ударом часов…
Или попросту кончилось наше с нею время?
Так я и не решил до сих пор. Если в магическом измерении рассматривать, то петарда. Там ведь, в магическом, всё за всё зацеплено. Мелкие происшествия вызывают трагические, необратимые последствия. Там пуговиц нельзя, не дай бог, терять, не то что петарда не взорвалась…
А потом…
А потом… Когда бультерьерочка удалилась, я стал себе жить тихо. Моя политическая жизнь в это время вся сотрясалась от энергии, мы нашли курс (и какой курс! об этом далее), моя личная жизнь была более чем скромна.
Вспоминая даже всю разом мою жизнь в Сырах, а не только этот период первого года после тюрьмы, а это целых пять лет, эпоха, можно сказать, я понимаю на дистанции, что в основном это была одинокая жизнь. Что подавляющее большинство дней я прожил один. Несмотря на то, что в эту эпоху целиком поместились несколько недолгих моих романов, моя любовь с актрисой и рождение двух детей. И всё равно, лейтмотивом жизни в Сырах звучит пронзительный, то печальный, то ликующий, мотив одиночества.
Когда не было женщин, я спал в кабинете, на узкой деревянной постели. Многослойный бутерброд постели венчал старый, порванный и лопнувший матрасик. Я лишь покрыл его красным покрывалом, купленным в народном магазине «Фамилия», а сверху положил галлюцинаторный старый плед, оставленный прежним жильцом Котоминым. Там я и спал, в белый старый пододеяльник вставлено было верблюжье одеяло, присланное мне моей матерью когда-то из Харькова. Теперь таких одеял не делают и не продают. Бело-кирпичное. На одеяле были вытканы в двух этих туркменских цветах аисты. Четыре аиста, по одному на угол. Одеяло это есть у меня до сих пор, а вот мать моя умерла.
Спал я, как правило, плохо. Просыпался ночами, бродил по красным полам двух комнат, появлялся в кухне сделать чай, чем вызывал восторг Крыс, она оставляла сон и повисала на клетке, готовая ко всем приключениям. Когда у меня появился позднее компьютер, я стал усаживаться ночами к компьютеру, пытался выудить из него интересные факты, либо ночные новости. Когда достаточно рассветало, но Сыры за окнами были ещё преисполнены сонного молчания, я ложился спать под моих аистов в белом пододеяльнике. И вставал уже где-нибудь в девять утра. Именно там, в Сырах, я открыл для себя удовольствие засыпать на рассвете.
Мебель я не любил всегда. Шкафы и диваны и особенно мрачное сооружение, называемое в России французским словом «шифоньер», вызывают у меня ужас. Переселившись в Сыры, я всё же оказался в голом пространстве. По совету нацбола Сашки Аронова (он пришёл делать мне проводку и принёс, и оставил каталог магазина IKEA) я собрал экспедицию в этот магазин. «Вся молодёжь, все продвинутые люди покупают себе интерьеры в IKEA»,— заверил меня Сашка, да и каталог меня убедил. IKEA оказалась объектом не близким, мы пробивались туда на красной «пятёрке» сквозь пробки часа два. Сооружение, начинённое страннейшей и простейшей мебелью и квартирной утварью, меня задело за живое. IKEA мне понравилась безоговорочно, особенно простейшая мебель из некрашеной сосны. Я почувствовал себя полевым командиром, собирающимся обставить свой блиндаж. Приобрёл я там лишь самое необходимое. Самыми необходимыми мне предметами для жизни оказались книжные полки, стол кухонный (80 сантиметров на 80 сантиметров), стол для работы (80 сантиметров на 120), пара деревянных стульев для кухни и два офисных стула. На этом меблировка квартиры закончилась. (Через пару лет в наследство от одной обанкротившейся политической организации мне достались пара кресел и столы). Бывавшие у меня в Сырах гости восторгались аскетизмом квартиры, на самом деле я всего лишь не выношу мебель.
Квартира, оттого что с 1924 года там жили бедные люди, затхло воняла бедностью. Летом запах трагически усиливался, зимою квартира воняла скромнее. Я полагаю, что запах не исчез бы даже после капитального ремонта, ибо его источали кирпичи и потолки, и полы, запах въелся в них.
Вставая, я напрочь отдергивал нехитрые шторы, оставшиеся от прежних владельцев. И оставлял окна незашторенными до самых сумерек. Небольшая площадь прямо под моими окнами вмещала детскую площадку, окрашенную в яркие детские цвета, а также множество довольно высоких тенистых деревьев. Из-за деревьев этих, к моей досаде, в квартире было всегда несколько сумрачно. Впрочем зимой, без листьев, деревья были не так опасны. Я делал себе кофе, на кухне. Пытаясь не обращать внимания на мою крысу: она в это время неистовствовала, сотрясая свою тюрьму. Я совал ей сквозь прутья какую-либо пищу и убегал с кофе в кабинет. Я намеревался приняться за свой old business, за моё писательство, а Крыс — ей бы только вырваться, бегать и отвлекать меня. Иногда ей, впрочем, удавалось, этой бестии, оказать на меня столь сильное психологическое давление, что я выпускал её утром. Она, например, начинала со страшным скрежетом грызть железные прутья клетки, и мне становилось жалко её зубов.
Усевшись за стол в кабинете, я зевал, пил кофе и втягивал себя в работу. В те годы я писал до десятка текстов в месяц, четыре политических текста для сайтов, два для глянцевых журналов, два для англоязычного Exile по-английски, плюс всегда образовывалась незапланированная работа.
На детской площадке появлялись дети. Каждый год они подрастали, однажды я с трудом узнал в куривших сигареты на скамейке трёх здоровых девках, подростков — девочек прошлой весны. Волей-неволей я наблюдал за карабкающейся по лестницам, качающейся на карусели детской ордой. У меня были среди детей фавориты, и были особи, которых я недолюбливал.
Кроме детей на площадку всегда норовили вторгнуться, и вторгались, взрослые. Эти обыкновенно пили пиво, а несколько раз происходила на детской площадке и повальная пьянка. Это когда ремонтировавший только что купленную квартиру пожилой мужик, мой сосед слева, вдруг напоил бригаду украинских гастарбайтеров из десятка человек. Пили они у меня под окнами несколько суток. Я в эти сутки отлично понял американских старичков с винчестерами, в подобных ситуациях у них не выдерживали нервы.
Иной раз летом, иногда осенью, на цветных лавках детской площадки ночевали неспокойные бомжи на газетах, и тогда мне приходилось закрывать наглухо мои многострадальные искорёженные временем форточки. Но и это не помогало. Ночью бомжи бредили и кричали во сне и наяву.
Когда года через два после моего переезда в Сыры район стал оживать, на детскую площадку стали высыпать из офисов секретарши и другие мелкие служащие. Держа на коленях и в руках бумажные тарелки, девки всех мастей дружно чавкали свой lunch. О, я там насмотрелся на эту публику из отремонтированных под офисы домов! Офисный планктон состоял из особого рода девок и особого сорта молодых людей: безгрудых долгоносиков с огромными ладонями. То есть сама собой вывелась порода мальчиков, обслуживающих компьютеры. Грудь была им не нужна, нужны были кисти рук. Их шеи выносили их головы вперед так, чтобы придвинуть головы к компьютеру, отсюда возникало впечатление, что они долгоносики.
С повышением количества отремонтированных офисов (завод «Манометр», конечно, уже давно не выпускал никаких манометров, да и зачем?) увеличилось количество автомобилей в Сырах. Арендуя помещения своих цехов под офисы, завод стал наверняка выручать больше денег, чем если бы он производил манометры от рассвета до заката. Зато в Сырах не стало свободной площади на улицах. Бампер к бамперу стояли тачки всех мировых марок. Выехать из Нижней Сыромятнической теперь занимало добрые полчаса. Два туннеля вели in и out наших Сыров с Большой Сыромятнической улицы. Один туннель был, правда, специализирован, там лежали рельсы трамвая № 24, что сближало меня с моим детством. Ведь по Салтовскому посёлку на окраине Харькова ходил трамвай № 24. По эстакадам над туннелями вовсю сновали во всех направлениях поезда Курского вокзала. Ночами и сырыми утрами поезда гудели страшными голосами и пахли углём, угольным паром, хотя были электровозами, а никакими не паровозами, разумеется. Но ей-богу, пахли! Обогревали ведь их по-старому, углем.
Городок в огромном городе,— жили Сыры своей жизнью. Вряд ли у них был ещё наблюдатель, помимо меня.
*
А потом ко мне пришёл Ален в афганской шапке. Открыв ему дверь, я расхохотался. Потому что более странно выглядевшего американского журналиста я никогда не встречал. Афганская шапка ещё чёрт с ней, хотя, конечно, в Москве афганские шапки носят, может быть, ну ещё пять человек, допустим! Афганцы, торгующие на Черкизовском рынке. Помимо экзотической шапки на Алене было рыжее пальто, вполне, видимо, европейского происхождения. Однако пальто Ален носил как халат, затянув его немыслимым русским ремешком. Мятое бесформенное пальто и служило Алену халатом. В руке у него был полусундук-полупортфель такой, настежь открытый. И Ален помахивал небрежно своим сундуком. Сундук выглядел так, будто из него уже вывалились половина содержавшихся в нём вещей, и вот-вот будут на глазах у меня вываливаться остальные.
— В первый раз вижу американского журналиста, выглядящего таким экстравагантным образом,— сказал я.
На самом деле Ален мне сразу понравился.
— Что удивительного?— смутился Ален.— Афганский шапка, и только.
Он пришёл интервьюировать меня по внутренней политике России. Но мы быстро свернули в Афганистан. В Афгане я не был. Но я был в Таджикистане и на границе с Афганом был. Видел, как горит Мазари-Шариф, родной город Гульбеддина Хекматияра. Это был 1997 год, талибы штурмовали Мазари-Шариф. Я знаю Среднюю Азию, побывал в четырёх её странах и знаю персонажей афганской политики. Мы в неё и влезли. Он знал Ахмад Шах Масуда. Я попросил деталей. Ахмад Шах Масуд, французски образованный полевой командир был, может быть, самым экзотическим героем Афганистана, хотя соперниками его были в те годы люди не слабые: узбекский генерал Дустум, вождь талибов одноглазый мулла Омар, или тот же Гульбеддин Хекматияр. Французски образованным Масуда я назвал потому, что он учился в Кабуле во французском лицее, выучил язык и получил такие хорошие отметки, что выиграл, как сейчас говорят, «грант» для учёбы в колледже во Франции. Но он не захотел туда ехать, он стал членом Мусульманской юношеской организации. С этого и началась его карьера романтического полевого командира. Убили его позировавшие под арабских тележурналистов наёмники: двое. У них были бельгийские паспорта, и они заявляли себя выходцами из Марокко. Масуд долго не допускал их до себя, а когда допустил 9 сентября 2001 года, и они задали ему вопросы, раздался взрыв. Масуд был убит, разворочена вся грудь. Рано утром своего последнего дня таджик Масуд «лев Панджшерской долины», как его называли, читал персидские стихи. Шикарно! Разве нет?
Было о ком поговорить. Ален встречался с Масудом два раза. Я очень сожалел, что с ним не встречался. Зато я встречался в Таджикистане в 1997 году с полковником Махмудом Худойбердыевым, тоже полевым командиром. Ален Худойбердыева не встречал. Я рассказал ему о Худойбердыеве. Мы сидели и беседовали. У Киплинга есть выражение «old colonial hands», употребляемое в отношении тех, кто долго прожил в колониях Британской империи. Это особые люди, они другие, чем обитатели сырых бледных городов метрополии, они навеки обожжены южным солнцем диких гор и степей и заражены страстями экзотических стран. Так и мы с Аленом. Хотя и прожили каждый в тех местах Азии сравнительно недолго.
И конечно, мы осторожно хвастались друг перед другом подвигами «наших» полевых командиров.
— Однажды, Ален, душманы ворвались в его дом и взяли в заложники жену и детей. Знаешь, что сделал Махмуд? Он пригнал к месту трагедии танк, сел к прицелу танковой пушки, навёл на свой дом и предъявил душманам ультиматум: или они оставляют его жену и детей в покое и уходят, и тогда он сохранит им жизнь. Либо он разрушит дом и положит всех.
— And what happened?
— А то happened, что душманы ему не поверили. Как, в здравом уме человек может расстрелять из танка своих жену и детей?! Тогда Махмуд прицелился и выстрелил. Когда улеглась пыль, стало ясно, что есть два душманских трупа, дети и жена Махмуда остались невредимы, а те душманы, кто остался в живых, сбежали в горы, Махмуд разумно оставил им свободный проход.
— That is not a white mentality, Edward. You and I cannot do such things. [Это не менталитет белого человека, Эдуард. Ни ты, ни я так не поступили бы (англ.)]
— Махмуд такой же белый, как мы с тобой, не смуглый. Бывший советский офицер. Жена украинка. Готовит ему борщи. Он до сих пор носит советскую форму, правда, выгоревшую добела. Ну да, это не европейская ментальность.
— I’will tell you, Edward. Once… [Я расскажу тебе, Эдуард. Однажды… (англ.)] — французский образованный Ахмад Шах поиздевался над ЦРУ. В 1990 году люди ЦРУ обратились к нему с просьбой закрыть перевал Саланг на зиму. Выплатили ему за это пятьсот тысяч долларов. Деньги он взял, но ничего не сделал. Устроил пару мелких набегов на дорогу, и всё. Люди ЦРУ обиделись. Однако через шесть лет он им опять понадобился. Они напомнили ему о взятых деньгах.
— How much?— спросил хитрый «лев Панджшера».
— Half a million [Полмиллиона (англ.)],— сказал человек ЦРУ.
— A!— промычал Масуд и обратился к своим советникам на дари: родном языке. Некоторое время они без эмоций что-то обсуждали.
«Мы не получали пятьсот тысяч»,— сказал один из помощников спокойно. А Масуд также спокойно сообщил, что погода зимой 1990 года была ужасной. Его люди не могли передвигаться так, как хотелось бы. На том и закончили. Погода подвела.
— That is not a white mentality, Alan! [Это не менталитет белого человека, Ален! (англ.)]
Мы смеёмся. Я знал в Москве афганцев: сыновей Бабрака Кармаля. В последующие годы Ален будет приезжать ко мне в Сыры время от времени, то один, то в компании Марка Эймса, огромного американца, редактора газеты Exile, они подружились через меня.
*
А потом из Кёльна приехала красноволосая Галина Дурстхофф и предложила мне стать моим литературным агентом в Германии. Я сказал, что я всегда «за любой кипеш, кроме голодовки». Я буду рад иметь агента.
— Что, кроме голодовки?— переспросила фрау Дурстхофф.
— Это такая тюремная поговорка, обычно она в ходу у малолеток. За любое, ну хулиганство, можно сказать. Я за любое хулиганство, кроме голодовки.
— Я тоже,— сказала фрау Дурстхофф.— Детей я вырастила, они взрослые, мы с мужем остались вдвоём, заботиться не о ком. Теперь я все силы буду отдавать работе.
Мы выпили дешёвого вина за то, что мы за любой кипеш, кроме голодовки. Дешёвое вино было у меня дома. Потому что денег у меня никогда не бывает много, а вино я люблю.
— В следующий раз я привезу вам хорошего вина,— сказала фрау Дурстхофф.
Я сказал, что я буду рад.
Когда я её провожал, она уже в дверях вздохнула и сказала:
— У вас такая оригинальная квартира…
— Вам правда нравится? Идёмте, я покажу вам мою ванну на львиных лапах.
И я показал ей ванну на львиных лапах.
— Видите, внутри, вот остатки лап и хвоста, был нарисован зелёный дракон. Часть его стёрлась от времени, а остатки пытался уничтожить я, потом мне эта работа наскучила. Дракон был намалёван жившими тут некогда музыкантами. Кажется, они были наркоманы…
Фрау Дурстхофф вглядывалась в тело ванны, как турист в чудом сохранившиеся фрески Помпей, ей-богу с благоговением.
Когда она ушла, я сел за стол в кабинете и стал наблюдать, как темнеет за окном. Окна в моей квартире в Сырах необычайно широки: каждое — как сведённые вместе два окна, на самом деле. К сожалению, разросшиеся неуместно деревья под окнами сводят на нет преимущества столь широких окон. Я стал раздумывать, а не поручить ли мне моим охранникам как-нибудь ночью спилить деревья к чёртовой матери. Поразмыслив, я решил отказаться всё же от этой затеи. Деревья, падая, могли повредить и детскую площадку и побить стёкла в нашем доме. Жильцы бы меня возненавидели… Так я и жил в Сырах, мечтая об усекновении нескольких деревьев, до тех пор, пока мечтам моим вдруг суждено было исполниться. А когда деревья спилили, то… впрочем об этом дальше…
*
А потом ко мне приехал французский художник, персонаж нескольких моих книг (он есть в моей книге «Укрощение тигра в Париже») Игорь. Когда я жил в Париже, мы с ним немало покуролесили, что называется. С непьющим приятелем (а он не пьёт вовсе) тоже можно покуролесить. Мы с ним познакомились не то в 1981-м, не то в 1982-м, и вот четверть века спустя, как старые мушкетёры, встретились опять. Из рыжего мужика, похожего на Ван Гога, он превратился в плотного такого пожилого типа, достаточно безумно одетого. Достаточно безумно одет он, впрочем, был всегда, но когда ты молод, то все видят: этот безумно одетый — художник. А сейчас было непонятно, кто этот тип с седой беспорядочной растительностью и на лице, и на крупной башке. Безумный дантист, ушедший на пенсию? Певец, ушедший на пенсию? Во всяком случае, судите сами: на нём были розовые брюки, жёлтые туфли с загнутыми вверх носками, краснополосая тельняшка из Венеции и обтягивающий его пиджак, сшитый из гобелена (!), на шею наворочен платок, как полотенце.
Я сказал ему, что он выглядит безумно, дал ему постельное белье и полотенце и отвёл его жить в мою большую комнату. Он был счастлив. Потому что бывший питерский фарцовщик, затем матрос на траулере, беженец, любовник баронесс и банкирских жён, некоторое время муж рыжей внучки французского военачальника, именем которого названа авеню в Париже, он никогда не потерял вкус к жизни. Ему нравится бросать свои вещи где бог позволит, и разнообразие жизни его умиляет так же, как и меня. Вполне нормально, думаю, вписался бы он и в тюрьму, верю в это. Его первое появление у меня было таково.
— Как тут хорошо, Эдик, ты даже не представляешь!— Вкатив свою тележку с сумками (там был и разобранный деревянный подрамник, и какие-то рулоны — должно быть, картины), безумный мужик стоял в коридоре и вынимал из шуршащего пакета надкусанную булку.— Вот, я купил булочку с творогом, какой творог, во Франции нет такого творога! Там еда безжизненная, без-жиз-ненная, Эдик. Какой ты умный, что ты давно сюда уехал,— и он вгрызся в булочку.
Он привёз мне бутылку вина, и я её откупорил. Я сделал ему чай. Мы сели на кухне. Крыса, вся в буйном восторге, висела на клетке в страннейшей позе.
— Не кусается?— спросил он.
— Кусает только художников. Рассказывай, как жил.
Дела его были запутаны, как его жизнь, а жизнь его спуталась колтуном в волосах. С женой они разбежались. Внучка маршала всё же в конечном счёте не смогла жить с матросом. Их общая дочка, рыжая Антонина, осталась с матерью, но он видит дочку часто. Сейчас он приехал сюда, потому что хочет здесь продавать картины.
— Французы ничего, понимаешь, Эдик, ничего не покупают. Мода на приобретение живописи прошла. Про-шла.
Он живёт в мастерской («Ты ведь у меня там останавливался, Эдик!») в центре Парижа, в двух шагах от метро «Одеон», от памятника Дантону, в мастерской, принадлежащей семье жены. Несколько лет назад у семьи были плохие финансовые дела, и они намеревались его выселить, а мастерскую продать. Но с тех пор дела поправились, и его оставили в покое. Семья его жены имеет пять мест на правительственной трибуне под тентом во время парадов 14 июля. Вот как! Это вам не простенькая семья. Маршал, дедушка его жены, погиб в 1947-м, кажется, году в авиакатастрофе, злые языки уже шестьдесят лет утверждают, что маршала убрал генерал де Голль, они якобы были соперниками.
— Я у тебя немного побуду, до четверга, а потом поеду в Екатеринбург.
— Что ты там забыл?
Выясняется, что у него там русская жена. Выясняется, что она бизнесменша. Дополнительную пикантность этой жене придаёт её возраст. Выясняется, что она чуть старше его. Шестьдесят лет.
— Ты всегда был геронтофилом, но чтоб до такой степени? Что можно испытывать к женщине такого возраста? Псих ты ненормальный…
Он отшучивается, понимая, что защититься у него нет шансов. Как и в юности, он пьёт чай и ест много хлебобулочных изделий. Я пью моё вино и разглядываю его. Как его исказило время! А исказило его время так: почти вся растительность на куполе черепа исчезла. Растительность на затылке и по бокам черепа существует, но она в неприбранном виде, растёт, как седые сорные травы во дворе плохого хозяина. Лицо у него теперь массивное и бледно-розовое. На лбу несколько резких горизонтальных морщин. Шея толстая, грудь и живот, то есть торс художника, беспорядочно надутые и массивные. Время беспорядочно увеличило его, как, впрочем, и большинство мужчин его возраста, чурающихся спорта и правильного питания.
— Разжирел!— говорю я.
— Какой разжирел, ты чего, Эдик, я худенький,— смеётся он.
— Меньше булок нужно жрать.
— Ой, но они такие вкусные здесь.
— Бороду бы отпустил, ты же носил бороду. А то лицо у тебя голое какое-то…
— Ну не нападай, не нападай на меня… Я больше не буду. Я хороший. Я вот что, я тебе кассету привёз, видео, помнишь, я тебя снимал, когда себе видео купил, ты ещё не верил, что что-нибудь получится. У тебя видео и телевизор есть?
— Есть. Сохранились во время отсидки.
— Идём посмотрим?
— Может, потом?
— Идём, ты там такой молодой, матом ругаешься. Там и Наташка есть. Я её в тот же день снимал. Вы тогда раздельно поселились.
Наташка перевешивает чашу весов в пользу просмотра. Через некоторое время, необходимое для того, чтобы он разрыл и разбросал свои вещи прямо в коридоре, дабы найти кассету, и для того, чтобы я вспомнил, как эта проклятая штука функционирует, методом тыка, проб и ошибок, мы, наконец, видим первые кадры.
Моя улица: рю де Тюренн, пересечение её с улицей Pont-aux-Chou, я иду молодой, в плаще прямо на объектив. «Бля, Игорь, чё ты тут делаешь?» Это моя первая фраза. Мы взбираемся затем по витой лестнице в мою мансарду, он за мною. Я снимаю пиджак и раскрываю пакет, а там несброшюрованные гранки моей книги Memoires of russian punk, присланные мне из Нью-Йорка… Я ругаюсь страшно, любовно глажу гранки, восклицаю: «Вот она, моя книжечка!» Я без очков, у меня нет седых волос, я наглый, энергичный, циничный,— точно такой, каким я себя изобразил в рассказах и книгах того времени. Я удовлетворён собой и удовлетворён как художник тоже, как artist, всё правильно сделал.
— Это какой год, Игорь?
— Это, Эдик, по-моему, 1986 год.
— Двадцать лет прошло, Игорь!
Мы сидим — два седых мужика, и я разглядываю себя с дистанции в двадцать лет спустя. И он рассматривает. Я там, в том времени, разогреваю ему суп, а сам пью белое вино Blanc de blanc и рассказываю о своей драке с наркоманом у Центра Помпиду. Впоследствии я напишу об этом эпизоде рассказ «Обыкновенная драка».
— Ты понимаешь, Игорь, всё величие современной техники, а? Запечатлённая вечность. Мы сидим, я вот убеждаюсь, что я именно такой и был, каким себе представляю…
— Ты вот над Игорем смеялся тогда, а Игорь умный был, и вот ты теперь можешь про вечность тут. Ты сопротивлялся прогрессу, а я нет. Я купил и стал снимать. Давай Наташку ещё посмотрим.
Из небытия, из глуби вечности объектив в руках бывшего матроса лижет лакированные ступени крутой винтообразной лестницы, ведущей к студио русской девушки, тогда она носила фамилию Мариньяк, Наташи Медведевой. Девушка, простая и опухшая ещё от ночного клуба, открывает дверь, вначале просунув нос в щель. Впускает гостя. Расхаживает в ночной рубашке…
Из будущего через двадцать лет, из квартала «Сыры» я гляжу на улицу Сент-Совер (Святого Спасителя), а там круглолицая, чуть опухшая, смешливая собирается в парижские улицы большая русская девка.
— Ты её, Эдик, очень любил. И она тебя,— вдруг говорит Игорь.
— Дура она была,— слышу я свой голос.— Ничего не понимала в законах жизни.
— Может, и так. А зачем женщине быть умной, Эдик? Она должна быть привле-ка-тельной,— нравоучительно тянет Игорь.
Я думаю. Я думаю, косясь на старого приятеля. Он как с того света приехал. Был долго-долго на том свете, и вот возник. А я не удивился даже. Приехал — приехал, на тебе постельное бельё, полотенце. Как в отеле. Надо ему ключи дать.
Я встаю.
— Хватит! Пойдём, дам тебе ключи и покажу, как двери закрывать. Будешь автономным. Только закрывай на все замки.
Я выключаю видео одним нажатием кнопки.
— Хорошо, слушаюсь, гражданин начальник, я больше не буду…
Он встаёт. Я понимаю, я привык командовать, а он свободный художник…
*
Впоследствии он приезжал очень часто. Либо из Парижа, либо из Екатеринбурга, либо из Санкт-Петербурга, где у него есть брат. Улетая в Париж, он там не сидел, но тотчас улетал в какую-нибудь Барселону, где у него был приятель — владелец отелей, заводов, пароходов,— либо в Италию, а то даже собрался в Колумбию, где у него должна была быть выставка, вот не помню, была ли.
С ним постоянно случались и случаются всякие немыслимые происшествия. Например, его не пустили в Литву, высадили на автобусной остановке в мороз минус двадцать, где-то в чистом поле, и он пошёл пешком в Беларусь. Одет он был в плащ, ковбойскую шляпу, очки в толстенной оправе, и тащил за собой тележку, навьюченную, помимо обычного его багажа, ещё двадцатью килограммами красок, которые он взялся передать некоему неизвестному художнику в Петербурге. Белорусские пограничники только крякнули, увидев в морозной степи столь странного персонажа.
Даже на московских улицах с ним случались экстраординарные происшествия. Так, однажды он невольно попал в эпицентр драки. За неизвестным мужчиной гнались несколько преследователей. Пробегая мимо Игоря, неизвестный схватил его и использовал его как живой щит, прикрываясь им от преследователей. Над художником взлетали кулаки, и рядом свистели ножи.
Однажды он решил отдохнуть и тайком от меня купил путёвку в подмосковный санаторий. Довольно задорого. Вернулся он оттуда уже через два дня. И сам поведал мне свою печальную историю. Оказалось, все места в санатории были скуплены некоей кавказской бандой. Он оказался там единственным белым человеком. Его не обижали, но то, что творилось вокруг него, вынудило его сбежать.
— Ой, Эдик, это было страшно. Я боялся за свою жизнь, понимаешь. Ночами они там стреляли в друг друга, и всё такое. Я ошибся, признаю, я думал, там будут сосны и красивые девушки.
Он вздохнул, и не притворно.
В Париже с ним тоже случается всё, что только может случиться с таким безумным, как он, человеком. Во время президентских выборов, убеждённый правый Игорь предложил свои услуги избирательному штабу Жан-Мари Ле Пена. И был отправлен на расклейку листовок. Как-то ночью бригаду расклейщиков из трёх человек, куда входил Игорь, вычислили «пятнадцать арабов». «Пятнадцать арабов, Эдик, страшные такие!». Французы сбежали в автомобиле, а Игорь остался разбираться с разъярённой толпой. Выручил его русский акцент. Его даже не побили, только отобрали плакаты. А Ле Пен проиграл всё равно. «Франция будет принадлежать иностранцам, наверное, арабам, Эдик. Это очень печально»,— говорит мой анекдотический друг.
Моим охранникам он предлагал идти на Красную площадь клеить девок. Он им нравится, хотя, казалось бы, так далёк от их мачо-идеалов, этот смешно одетый старый дядька.
— Почему он вам нравится?
— Он прикольный, понимаете, Эдуард, весёлый. Я отказываю ему в пристанище, только когда у меня появляется новая девка.
Варенька
Когда они сходят с питерского утреннего поезда, эти девочки, чуть качаясь от долгого состояния вынужденной неподвижности, они все кажутся дегенераточками. А тут ещё ночные тени, если это зима. Выглядят они гротескно. И ты в первые минуты жалеешь, какого чёрта ты влип в эту историю… Но ты идёшь, охранники спереди, охранники сзади, идёшь перекидываясь с ней самыми незначительными словами: «Как доехала? Не холодно ли было в поезде? Что у тебя за семья?» Идти, правда, недолго, только до «Волги».
Когда мы сели в «Волгу», дремавшую на стоянке Ленинградского вокзала, охранник впереди, водитель над рулём, и стали выезжать, то выяснилось, что доехала нормально, было не холодно, из семьи одна мать. Мамка у неё оказалась поэтессой, и она быстро набросала её и себя, два портрета. Я домыслил недосказанное и понял, что она выросла, прислуживая жрице искусства и её питерским спутникам. В результате у поэтессы сформировалась такая скептическая рабочая дочка, кривящаяся при слове «искусство» и слове «поэзия». Видимо, у дочки «поэты» и «поэзия» навечно теперь ассоциировались с грязными тарелками и стопками, переплетённо лежащими в кухонной раковине. Трудно винить её в отвращении к поэзии после тысячи таких натюрмортов в раковине.
Ей двадцать лет, она — жилистый худенький маленький ребёнок, с сиськами размером с кофейные чашки. Большие серые глаза старше двадцати лет. Смелая. Большой лоб. Под джинсами не угадывается попы.
— Какая ты тощая, Варька!..
Ей говорили, что она похожа на тощую Ванессу Паради.
Я рассказываю ей, что в середине восьмидесятых увидел эту Ванессу-подростка, всю состоящую из острых углов колен и локтей, сидящей тощей попой на стойке бара в ночном клубе «Бандюж». Тогда она ещё не была знаменита. Именно в эту ночь состоялась телепремьера клипа хита Ванессы «Джо, ле такси», после чего пошла её карьера. Что делал там я? Телеведущий Тьерри Ардисон пригласил меня и посадил за один стол с мсье Шабан-Дельмасом, тогда он был председателем Национального собрания Франции. Я пришёл с забинтованной головой, потому что накануне мне проломили голову трубой в рабочем пригороде Парижа, Обервилльерс…
Серые глаза слушают. Рука поправляет беленькую, подкрашенную чёлку. Париж, ночной клуб «Бандюж», пробитая трубой голова в рабочем пригороде. Им это интересно. Чужая моя жизнь, которую они никогда не проживут…
Если отец у тебя мясник, ты должен возненавидеть мясо? Видимо, так. Если мама поэт, ты ненавидишь поэзию.
Как я с ней познакомился? Она написала мне в лагерь и прислала фотографию. Старый греховодник, я определил её как «юную маргаритку» и написал ей ответ. Завязалась переписка. Пока со мной пребывала бультерьерочка, переписка тлела, когда я убедился, что бультерьерочка полностью бесчувственна ко мне, я поинтересовался у Вареньки: не собирается ли она в Москву? Я бы охотно встретился с ней, если денег нет, я оплачу билет.
И вот мы едем в «Волге» в мои Сыры. Сыры не производят на неё должного впечатления, хотя у въезда в туннель я показываю ей толпу бомжей, собравшихся в ожидании полевой кухни с едой. Благотворительные организации пользуются этой территорией для кормления бомжей. Оказывается, у неё в Питере, на её окраине, бомжи спят в её подъезде, так что она и ухом не ведёт.
Мы въезжаем в 4-й Сыромятнический переулок. Я показываю ей на площадку, ровно то место, где сейчас находится вход в центр современного искусства «Винзавод».
— Здесь с вечера стоят проститутки. Сутенёры привозят их на двух газелях.
Проститутки также не производят на неё никакого впечатления. Она простенько кивает: «Угу!», с таким скучающим видом, как будто сама проработала долгую жизнь проституткой. Между тем ей ровно двадцать лет, и она работает в книжном магазине.
У меня в квартире мы усаживаемся на кухне и начинаем пить вино. Впрочем, после того, как она познакомилась с моей крысой. Крыс отнеслась к ней дружелюбно, она привечает всех, кого приводит хозяин, её вождь, вожак, хотя стая у нас состоит всего из двух: я и она. Крыс доверяет мне безоговорочно. Побегала по Вареньке, нюф-нюф, понюхала, спустилась и занялась своими делами. А мы пьём вино. Вино ей нравится. Пьёт она с удовольствием. Как выяснилось позднее, все девушки из Петербурга пьют вино с удовольствием. Те, что не из Петербурга, также пьют с удовольствием. Обычно вначале они сдерживают своё удовольствие. Множественное количество девушек из Петербурга побывало в моей квартире в Сырах, потому я и начал моё повествование о Вареньке во множественном числе: «когда они сходят с питерского утреннего поезда, эти девочки…» Но Варенька была первой.
Существует моя литературная жизнь, существует моя политическая жизнь, существует даже моя мистическая жизнь, и уж тем более существует личная. Случилось так, судьба яростно поспособствовала этому, что моя личная жизнь не была уложена судьбою в бетонные, облицованные плиткой берега раз и навсегда. Я пытался построить несколько семей, но все они рухнули. Потому вот и живу я так, как я живу. Приезжаю на Ленинградский вокзал и встречаю девушек. Или месяцами сижу с крысой.
Варенька пьёт, глаза её теперь блестят, она раскраснелась, губы увеличились, разбухли, мочки ушей покраснели. Она даже начала есть, начала с салата и чуть отъела от свиной отбивной, хотя уверяла, что не ест мяса. Мясо ей отвратительно. Вот уже и не совсем отвратительно.
Заметив мой взгляд, она пытается оправдываться:
— Ты так вкусно заразительно ешь, что поневоле заражаешь своим здоровым энтузиазмом. Вообще-то я против убийства и пожирания трупов животных.
— Я тоже, но есть хочется.
— Вот вино, это хорошо,— она пригубила бокал.
Тогда я только купил бокалы, и они у меня были, роскошные, на высоких ножках все целы. Сейчас остался один. Пусть на убитой кухне, но я предпочитаю пить мои напитки из достойной посуды. У меня даже есть узкие фужеры для шампанского.
— Я нахожу, что я пью слишком много вина. И оправдываю себя тем, что много вина пил и великий Гете. И он тоже терзался тем, что выпивает одну-две бутылки красного ежедневно. Существует его восклицание: «Ах, если бы я мог обходиться без вина!» В восклицании звучит одновременно и смирение перед собственной слабостью, и огорчение по поводу её.
— А что, он вправду великий?
— Гёте? Несомненно великий. Правда, я понял его величие лишь совсем недавно, когда мой возраст жёстко поставил передо мной проблему Фауста. «Фауста» Гёте я прочитал ещё в ранней юности и был скорее скандализирован старомодностью изложения истории. Сейчас я перечитываю «Фауста» как притчу о человеке, пожелавшем продлить свою жизнь и наполнить её высшим смыслом. И как притча,— «Фауст» изумителен. Там уже есть всё — и ницшеанство, и можно заметить тень Гитлера в перспективе кулис. А ещё в конце жизни мне, конечно, близки мотивы страстей пожилого джентльмена к юным девицам. Грэтхен в «Фаусте» четырнадцать лет, вы знаете об этом, Варя?
Варя делает круглейшие глаза и очень улыбается.
— Тебя, наверное, соблазнил давным-давно какой-нибудь старый поэт, приятель или бывший любовник матери, предварительно влив в тебя водки. Да, Варя?
— Называйте меня прочно на «ты», Эдуард. Вы скачете с «вы» на «ты», но я буду называть вас на «вы», потому что «ты» у меня не будет получаться. Да, меня банально соблазнил поэт, приятель матери, не такой уж старый. Но он был вторым, потому что первым был парень из нашей школы. Тот парень меня, впрочем, не соблазнял, дал в живот кулаком, и пока я охала, он успел совершить весь процесс своего чёрного дела. А с поэтом было хорошо. Некоторое время. Ну и что, Фауст, Эдуард?
У неё развесёлый вид. Она нравится себе такой: прямой, циничной, резкой, «крутой», как говорят сейчас, прямо говорящей о вещах интимных. У неё такой вид, что ясно, она приехала с уже готовым решением «дать» мне и посмотреть, что из этого получится.
— Фауст, Варя, стремился убежать от судьбы обычных смертных, и, как и Гете, преуспел в этом. В последних сценах второй части «Фауста», его герой совершает колоссальные по тем временам строительные подвиги. Он строит дамбу и таким образом отвоёвывает у моря территорию. Правда, попутно он, как подобает герою наступающей эры капитализма, уничтожает буколическую жизнь любящей пары стариков: Филимона и Бавкиды. Эту часть «Фауста» Гёте спортретировал с самого себя. В веймарском правительстве на службе у герцога тайный советник Гете как раз занимал пост министра копей и путей сообщения и занимался строительством дорог и полезных общественных сооружений.
— А как же продление жизни и молодости?
— Есть чёткая сцена у ведьмы на кухне, где прибывший с Мефистофелем Фауст пьёт изготовленный ведьмой отвар: благодаря отвару к нему возвращается молодость и потенция…
— Где тут у тебя туалет?
— Туалет у меня самый старый в городе. Такие можно увидеть только в фильмах о жизни рабочих в период их наибольшего угнетения капиталистами. Пойдём, я открою тебе дверь, потому что дверь перекособочена и сама ты не сможешь её открыть.
Я помещаю её в туалет и возвращаюсь в кухню. От кухни туалет отгорожен всего-навсего полугнилой фанерной перегородкой, часть её высоко вверху выломана. Потому мне очень хорошо слышно как она писает, сильной мощной струёй рабочей злой девочки. Я отмечаю, что звук её струи меня волнует. А также вспоминаю, что, спрашивая, где туалет, она назвала меня на «ты».
Она выходит.
— Справилась? Не испугалась.
— Нормально. Бывает и хуже.
— Я слышал, как ты писала… сильной струёй…
Ей-богу, она смущается.
— Зачем подслушивали?
— Да тут конструкция такая, видите, Варя?
— А не подглядывали?
Тут я беру её за плечи и веду, подталкивая, в большую комнату.
— Идём, я посмотрю на тебя, Варя…
Я говорю, понизив голос.
— Куда вы меня тащите?..— Варя шепчет эти слова. Идёт.
— Нам нужно кое-что выяснить…
— Что выяснить?— шепчет она.
Мы уже в большой комнате, и я пригибаю её сесть на кровать.
— Некоторые соответствия или несоответствия между нами…
Дальнейшее состоит из невнятных звуков и небольшой схватки, заканчивающихся соприкосновением её и моего тел в нужном месте.
*
Через некоторое время мы опять в кухне и опять пьём вино.
— Вот вы какой?— она улыбается.
— И ты такая,— улыбаюсь я.
Мы целуемся. Она уже превратилась для меня в худенького, горящего изнутри ребёнка. В Библии есть выражение «познать» девушку. Вот и познал. Воистину познаёшь только так. И настоящий темперамент, и присутствие или отсутствие страсти.
— Ты интересно говорил о Гёте и Фаусте. Может, знаешь о них ещё что?
— Гете начинал, как и я, с суицидального, протестного романа. «Страдания молодого Вертера» понравились всей Европе, потому что таких Вертеров уже жили в Европе, ну если не толпы, это был распространённый тип.
— У тебя не суицидальный роман, Эдуард.
— «Это я, Эдичка» начинается с суицидальной ситуации, и герой еле удерживается, чтобы не соскользнуть в суицид. Как и за двести лет до меня Гёте, мне повезло создать популярного героя. Такой герой никогда не умрёт, всегда останется юн и свеж и достоин сострадания. Кстати, сам Гете был долгое время эмоционально неустойчивым. Последний по времени жизненный кризис, выход из которого он искал в мыслях о самоубийстве, случился у него в возрасте тридцати семи лет, когда его оставила после долгого романа его дама фон Штейн.
— Я хотела бы иметь фамилию фон Штейн.
— Тебе подойдёт, ты бледная немочь. Все «фоны», которых я встречал в жизни, все были бледными и худыми. У меня была в Мюнхене девушка Ренат фон Гриндер в 1982 году. Я дал её имя тогда же одной из женщин в «Палаче». Ренат была высокая и очень худая, с матовой кожей, прусская аристократка.
— Я очень даже крепкая.
— Не сомневаюсь. У тебя крепкие ягодицы. Видимо, мама поэтесса порола тебя часто…
— Не порола никогда…
*
Я вёл себя как голодный из голодного края. Я эксплуатировал её сутки. Это оттого, что жизнь моя с бультерьерочкой была очень постной. На следующий день мы всё же пошли гулять на Красную площадь. По улице Воронцова Поля дошли до Покровского бульвара, добрались до Китай-города, а оттуда по Варварке пошли к Кремлю. С нами были охранники.
— Это твоя улица. Варварка!
Она была в курточке и с фотоаппаратом. Милиционеры на Красной площади, опознав меня, было задёргались, однако присутствие рядом со мной девушки их, видимо, успокоило. Она снялась у мавзолея и у собора Василия Блаженного. Фотоаппаратом манипулировал я, хотя я фотограф нулевого класса. Я разве что способен управлять мыльницей. Что я и делал на войнах. Современные цифровые аппараты, правда, рассчитаны на владельцев-идиотов, там все операции автоматизированы. Меня удивило, что она не изъявляет желания сфотографироваться со мной. Подумав, я однако пришёл к выводу, что фотографии со мной будут ей неудобны. Нужно будет прятать их от матери. Впоследствии выяснилось, что я был не прав, она поставила мать в известность, что едет ко мне. Однако я был и прав. Впоследствии выяснилось, что у неё есть некий «немец», на самом деле уехавший из России и живущий в Германии то ли русский, то ли еврей, то ли полуеврей. Из её рассказов о нём он представал как плотный, если не сказать упитанный мужчина лет тридцати пяти. Нерешительного характера, поскольку он и звал Вареньку к себе, и не решался на ней жениться. А она жила бы с ним, если бы он женился. Двадцатилетняя, она трезво смотрела на вещи, предполагая, что ей с ним жить будет скушно. Однако, воспитание её, то есть безотцовская жизнь с матерью-поэтессой, подсказывало ей, что следует упорядочить жизнь и иметь мужчину. Она колебалась, а когда появился я, стала колебаться ещё больше. Например, она не пошла за немецкой визой в консульство Германии.
Такой себе вот упрямый двадцатилетний росток девочки. Я с удовлетворением думал, помню, что она на два года младше бультерьерочки и таким образом я не деградирую, не скатываюсь к пожилым женщинам. Что она обо мне думала? Грубее и проще. Она порой кричала грубости во время наших с нею любовных утех. «Давай, кобель!» было её боевым кличем. «Давай, кобель!». Поскольку кобелю был уже шестьдесят один год, ему нравилось.
Она стала ко мне приезжать. Мне нравилось, что она неизвестна, что работает в магазине, что у неё нет маникюра и ногти просто острижены, и даже есть заусенцы. Мне нравились её красноватые кисти рук, тощие ножки и ручки. Обезжиренная попа. Вот такой я человек. Мне всё это нравилось. Представьте.
Всё было обычно более или менее одинаково, каждый её приезд. Встреча на полутёмном Ленинградском (я в кепке на глазах, чтобы не узнали), проход по перрону до «Волги», охранники вокруг, уселись в машину, ride через тёмный ещё город, и мы у меня. Вино и еда на кухне, затем переход в большую комнату в кровать. Сотрясение кровати… Я целомудренно не стану предавать гласности то, что является личными воспоминаниями, а тогда было личными ощущениями. Скажу только, что худое, жилистое тело подростка было твёрдым, но упоительно было её подчинять.
*
В один из приездов был мороз, я помню, а она всё в той же курточке, только платок на шее намотан, мы поехали в Третьяковку. Доехали на «Волге», однако не вплотную, запарковались чуть поодаль. Даже в те пять-семь минут, что мы шли до Третьяковки: она, я и охранники,— мы успели отчаянно замёрзнуть. Несмотря на то, что мой бушлат был много теплее, чем её курточка. Она, по-видимому, обладала ещё незаурядной нервной силой.
В Третьяковке было тепло и людно. Я купил всем билеты, и мы пошли раздеваться. Нам выдали синие бахилы из пластика на резиночках, которые нужно было одевать на обувь. Такие бахилы обычно выдают в больницах и клиниках. Мы сели на скамейки и натянули бахилы.
— Какое странное русское слово «больница»,— сказала она, выпрямившись — строгая, как маленькая щепка в бахилах.
— Это место, где люди претерпевают боль и где другие люди пытаются избавить их от боли. В больнице всё устроено вокруг боли. Ты тоже, как и я, наткнулась на слово «больница», натягивая эти синие бахилы?
— Ну да…
Тётушки-смотрительницы музея, пошептавшись, прислали ко мне делегацию с просьбой дать им автографы. На музейных программках. Я учтиво дал. Музейные тётушки никогда не меняются, сколько я их помню, с шестидесятых годов прошлого века они всегда одеты и причёсаны так консервативно, как английская королева, застыв навеки в стандарте.
Она очень старательно, картину за картиной, стала осматривать экспозицию. В тот день не было специальных выставок, а если были, мы на них не пошли, мы прошли дорогой обычных экскурсантов по залам художественного музея, дорогой народа, который поздно пришёл к живописи. Во времена, когда у нас появились первые светские живописцы, весь мир уже успел создать за столетия десятки тысяч картин и набить ими свои музеи. Она стояла, подростком, в сереньких застиранных джинсах и кофточке, сероглазая, совершенно мне чужая… Перед полотном Брюллова…
Тут я остановил свою мысль. А кто мне не чужой? Бультерьерочка была мне когда-то не чужой, потому что мы разделяли вместе некие ритуалы, общепрожитые моменты. Пока я был в тюрьме, эти ритуалы разрушились, воспоминания о моментах поблекли, прервалась живая связь… Варя обернулась. Я подошёл к ней и незаметно для охранников погладил её по попе. Но охранники, работающие со мной годами, заметили мою скупую ласку. «Поедем домой?» — поняла она. Экспозицию мы всё же досмотрели. Зал Врубеля тогда только ещё учредили и оборудовали, но главный «Демон» уже висел под потолком и глядел на нас вниз дерзкими глазами…
Стремление к телу юной женщины не порочно, ну никак! Порочным и противоестественным является как раз стремление к телу пожилой женщины. В мои парижские годы, помню, был особый отрезок улицы Сент-Дени (тот, который совсем близок к rue de Rivoli), где торговали своим телом «тётки». Несколько раз я сам, своими глазами наблюдал, как к коренастым упитанным тёткам в шерстистых пальто подходили юные мальчики и тридцатилетние мужчины, и поторговавшись, уходили вместе. Можно было только головой покачать…
Мы сидели с Варенькой на заднем сиденье «Волги», и я ей рассказывал про окрестности. Яуза тянулась холодной канавой вдоль. Водитель Стас и охранник Михаил на передних сиденьях безучастно перекидывались скупыми словами о чём-то своём. Вероятнее всего, обсуждали диапазон действия раций, которые мы только что купили. «Волга» свернула с набережной и теперь взбиралась вдоль монастыря к суду.
— Налево средневековый Спасо-Андрониковский монастырь, основан в XIV веке, когда-то здесь были фрески Андрея Рублёва, однако они были сбиты при первых Романовых по невыясненным причинам. Впереди — Лефортовский суд, место моих мук. Вот сюда, смотри,— заезжает автозак, вот в эту ограду.
— Тебя здесь судили?— серые глаза любопытно впиваются в застеколье.
— Меня привозили сюда дважды, чтобы рассмотреть ходатайство моего адвоката о смене меры пресечения. Мы были уверены, что не сменят, какая там может быть подписка о невыезде, когда у меня были обвинения по статьям 205-й, терроризм, и 208-й, создание незаконных вооружённых формирований, это только две, но нам с адвокатом нужно было привлечь внимание к моему делу. Потому я ехал сюда без надежды. Первый раз меня ожидала здесь толпа нацболов, кричавших: «Наше имя — Эдуард Лимонов!» Потому второй раз конвойные привезли меня сюда рано-рано, первым, и даже не въехали в ограду. Сержант приковал меня к себе наручниками, ещё один сопровождал нас с автоматом, и по зелёной траве, был август, меня повлекли в подземелье суда.
— Почему в подземелье?
— Потому что так называемые «боксы», где обвиняемые ждут, когда их вызовут на процесс, находятся в подвальном помещении. Там только что сделали тогда ремонт, заляпали стены цементной «шубой», и я просидел там целый день в эротических галлюцинациях, один. Ко мне нельзя было никого сажать с моими статьями.
— Эротических?
— Сейчас объясню. Подвал суда, казалось бы, неподходящее место для эротических галлюцинаций, но обстоятельства сложились так. Я был один в подземелье. Внезапно дверь открыл майор милиции. Он сказал, что если я хочу повидаться с близкими, то он может это устроить.
«Вы понимаете?» — сказал майор и потёр двумя пальцами правой руки третий палец. Я сказал, что да, хочу, вот только появится мой адвокат, он решит этот вопрос, я хочу повидаться с моей гражданской женой.
— И что, повидался?
— Она не пришла, её сбила машина. Она потом ходила на костылях. Она не пришла, а я сидел, вдыхая свежие молекулы цемента и фантазировал о ней, о том, как я её «познаю» в этом боксе, на вонючей лавке. С ума можно было сойти!
— С ума можно сойти!— прошептала Варенька, всё поняв и по-девичьи прочувствовав.
*
А потом ей позвонил её «немец» и устроил ей мужскую истерику.
— Чего он от тебя хочет?— осведомился я после того, как они попрепирались по телефону.
— Хочет, чтобы я приехала…— сказала она внезапно на басовой ноте.— А я не пошла за визой, потому что поехала к тебе.
— Если ты ему так нужна, пусть он женится на тебе, и тогда ты будешь сидеть с ним бок о бок всю свою жизнь…
Она вздохнула.
Я знал, почему она вздыхает. Я ей ничего не предлагал, а если бы предложил, то ещё большой вопрос, согласилась ли бы она. Мне было уже столько лет, что предлагать девчушке в двадцать лет руку и сердце пошло. Впереди у меня не было такого длительного коридора будущего, как у неё. Даже если бы в нас вдруг пылала бы дикая любовь друг к другу, что я мог ей предложить? Несколько лет вместе. Думаю, она бы не согласилась.
*
В следующий раз она привезла мне в подарок монографию Эдварда Мунка, издательства Taschen, картины о жизни и смерти. Это был символический и остроумный подарок, потому что сама Варенька была вылитой девочкой с картины Мунка «Созревание», недооформившейся, несмотря на двадцать лет. Не знаю, осознанным ли был её выбор. Как раз в то время украли из музея знаменитое полотно Мунка «Крик». Может быть, всё дело в этой краже. Всё же я хочу думать, что она ориентировалась на «Созревание».
Вместе с Мунком она привезла мне подарки от мамы-папы. Блёклый рисунок в рамочке и длинное стихотворение, которое меня утомило. Я их куда-то засунул, подарки её мамы, и с тех пор не видел. А Мунка держу рядом.
Наши биологические отношения оформились во вполне прочную связь. Я был этими отношениями вполне удовлетворён до такой степени, что не стал искать себе московскую девушку, ждал всё учащавшихся визитов Вареньки. Как-то, выпив вина более положенного, она призналась мне, что Петербург сидит у неё «вот где», она энергично полоснула ребром ладони себе по горлу, она хотела бы сбежать, ей надоело обслуживать мать, она устала от нажитых за двадцать лет связей. Она и её подруга (Варенька быстро нашла в своём цифровом фотоаппарате нужное фото и показала мне рослую, скорее полную, грудастую девку), еврейка, мы с ней не разлей-вода, и в школе сидели на одной парте…
— Мы давно планировали сбежать в Москву, потом появился этот «немец»,— она досадливо поморщилась…
— Бери подругу, приезжайте, будете жить со мной.
Варя изменила лицо, «остановив» все его черты и недоверчиво поглядела на меня:
— Чего? Ты же одиночка, что ты будешь делать с двумя тёлками?
— У твоей подруги действительно такие большие сиськи, как на фотографии?
— Огромные.
— Хм. Я бы хотел время от времени их трогать.
— Негодяй! Старый развратник! Ты рассчитываешь натягивать двух молодых тёлок сразу?!
Мы расхохотались.
Когда я отвозил её на вокзал, она сказала мне в последний момент (проводник уже заявил: «Провожающие, покиньте вагон, поезд отправляется»,— ну вы знаете эти голоса), я обнимал её в это время:
— Твоё предложение принято на рассмотрение. Я поговорю с подругой,— она хитро улыбалась.
*
Однако нашим богунеугодным планам не суждено было реализоваться.
Это был март, а в апреле я познакомился с актрисой, которая стала матерью моих детей. И вот теперь посылаю Вареньке привет из глубины прожитых годов.
— Варенька, привет! Everything is good. Всё хорошо.
Брызги обжигали и соседние страны, прежде чем стали обжигать Россию
Выйдя на свободу, я старался не думать о политике. Я взял таймаут до конца лета. Но нацболы не дали мне никакого таймаута. Уже через день я расхаживал по подмосковному пустырю с бородатым активистом моей организации. Бородатый был взволнован, в моё отсутствие он руководил организацией. Но не один, а вместе с небольшой группой товарищей. Сейчас бородатого беспокоил один из них, интеллектуал, которого он не называл соперником, но было ясно, что бородатый его так воспринимает. «Удивительно стремление вида человека к лидерству. Даже лидерство в преследуемой организации желанно сердцу бородатого»,— думал я. Бородатый явно хотел, чтоб я принял его сторону. Я же не хотел принимать сторон. Для такого человека, как я, личные симпатии и антипатии не имеют никакого веса. Для меня существует одна ценность: это благо организации. На основании этого критерия я уже принял сторону интеллектуала, у него были парадоксальные, интересные идеи. У него не было предрассудков, не было табу. К тому же оба участвовали в моём процессе: интеллектуал дал блестящие показания, снявшие с меня обвинение в терроризме, а бородатый проявил слабость при следствии. И мой адвокат Беляк едва вытянул его показания на тройку, ну может быть, с плюсом, на судебном процессе…
Красная «пятёрка», привезшая нас на пустырь, краснела в пыльных кустарниках, а мы расхаживали по тропинке, заросшей репейником и немыслимо огромными подорожниками. Мне нужно было, чтобы они все работали на благо организации, а они всё норовили искусать друг друга. Справедливости ради, следует сказать, что интеллектуал не стремился сцепиться с бородатым. Он был старше, был разумным человеком, без видимых погрешностей либо недостатков. В то же лето на него напали в питерском дворе, где он поджидал девушку, ударили сзади и бешено избили так, что у него была сломана в нескольких местах челюсть и пробита голова. Но это случилось позже.
Бородатый пытался доказать мне ни много ни мало, что человек, выступивший на моем процессе, взявший на себя вину, как это говорят в России, перефразируя Гоголя,— «засланный казачок». В качестве единственного доказательства бородатый приводил тот факт, что дав показания в Саратове, интеллектуал не отправился сразу домой, в соседнее государство, бывшую республику СССР, но сдал билет, а там, в соседнем государстве вдруг арестовали членов нашей организации. Не то через день, не то через два. Если поверить бородатому то, говорил бородатый про интеллектуала, «он знал, что будут аресты».
Я знал другое, но не мог сказать это бородатому. Я знал причину, по которой интеллектуалу нужно было задержаться в Москве. Это была важная и нужная причина. Что до арестованных, то они некоторое время посидели в СИЗО соседнего государства, а затем были выпущены на свободу, а вскоре следствие отказалось от обвинений. На самом деле их арест был просто местью ФСБ Российской Федерации господину интеллектуалу и его группе за то, что по его вине самые тяжелые обвинения с меня были сняты и я отделался четырьмя годами, а планировалось «окончательное решение» «моей» проблемы.
— Интеллектуал сдал билеты,— твердил бородатый.— Он знал!
Я ходил с ним по надоевшей тропинке, охранники скучали в отдалении, я думал о том, что вот она, оборотная сторона свободы, в тюрьме я себе сидел, и распри их если и проникали ко мне, то очень урезанной силы, их редуцировали тюремные стены. Я посоветовал бородатому выбросить из головы бредни. Но он, как показало ближайшее будущее, не выбросил.
*
Так что никакого таймаута не получилось. Помимо того, что утихомиривать страсти, нужно было еще придумать, куда их вести. Им нужен был смысл жизни, они нашли его в организации. Но нужно было их вести, иначе они умрут, организация атрофируется телом и духом, как не бегающая квартирная собака, и подохнет от ожирения сердца. Курс! Где курс? Мы стали искать курс вдвоем с интеллектуалом. Он для этого подходил как никто: опыт, энергия, скепсис, хитрость, таланты, романтическое восприятие мира при трезвом расчёте, он писал оригинальные стихи. Пора уже назвать его его настоящим именем, назовем его его отчеством: Ильич.
Мы думали с Ильичём: куда? Куда вести организацию? Мы понимали, как мало свободы политического манёвра осталось у нас в России. Потому наши планы устремились во вне, в страны СНГ, Содружества Независимых Государств. Может быть, увести партию в Крым, где велики были раздоры между украинской государственностью, татарами, тянущими Крым к Турции или к татарскому государству, и русским населением, то есть большинством крымчан. В таких городах, как Севастополь, русские были в подавляющем большинстве, до 84 %. Может быть, в Крым? Помочь русским в Крыму? Ещё в 1994 году я ездил в Крым с той же целью, был депортирован, хотя успел завязать связи. В 1999-м мы продолжили, партия мирно захватила башню Клуба моряков в Севастополе, ребята тогда, пятнадцать человек, отсидели в украинских тюрьмах полгода, пока их не выдали в Россию в начале 2000 года. Здесь их приняли чуть ли не как героев, времена были ещё другие, я встречал их в пересыльной тюрьме на Силикатной улице, сам начальник пожал мне руку. А женщина, майор милиции, проинтервьюированная каналом НТВ, сказала, что если бы у неё был такой сын, как эти ребята, она бы гордилась таким сыном.
Башню собора Святого Петра в Риге, Латвия, пытались захватить несколько отрядов нацболов один за другим. Один отряд пробивался в Латвию через белорусские болота. Не дошли, были задержаны пограничниками. Отряд из семи человек выбросился из окон поезда, идущего через Латвию на скорости 75 километров в час. Нацбол Шамазов при падении сломал ногу. Ловили нацболов все спецслужбы, полиция и армия Латвии. И всё же трое добрались до Риги и захватили собор. Их судили, дали 15, 15 и 5 лет, однако затем снизили срока до 6, 5 и 1 года. Их фамилии: Соловей, Журкин, Гафаров.
Эти две акции в бывших советских республиках принесли партии первую всероссийскую славу и безоговорочное дружелюбие населения России.
Продолжить линию на жёсткие акции прямого действия в странах СНГ? А может быть, помочь туркменам в Туркмении? Там же такой неприятный режим, что выступив против него, партия заслужит уважение и в России, и в самой Туркмении?..
Тогда как раз случилось так, что у нас образовались связи с туркменской оппозицией. У власти там был сказочный персонаж Туркмен-баши. Человек, написавший поэму-сказку «Рухнамэ». Человек… нет, Золотой Бог, бывший первый секретарь республиканского ЦК КПСС, воплощенный в золочёных и бронзовых статуях. Чья немыслимо многоэтажная фигура в Ашхабаде поворачивалась всеми шестнадцатью килограммами золота флюгером в направлении ветров. Человек, превративший горную тропу близ Ашхабада длиной в сорок девять километров, где он когда-то бродил, прогуливая уроки, школьником, в забетонированный, заасфальтированный, освещенный тысячами лампадеров, оснащенный скамейками для отдыха Великий Путь. Безумие и экзотичность Туркмен-баши превосходили отца и сына Кимов: Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, в северокорейском экзотическом государстве. Я из первых рук знал о грандиозности безумия Туркмен-баши, я пару раз проехался в Саратовский областной суд из Саратовской центральной тюрьмы в компании пожилого зэка-туркмена. Туркмен рассказал мне, как круглый год мерцает лампадерами сорокадевятикилометровый Великий Путь в горах близ Ашхабада. Никто там не ходит, пустынно, лишь милицейские патрули проедут иногда… (В городе Нефтекумск, близ границы с Дагестаном, я помню, видел в пустыне две головы: русская и калмыцкая, бетонные гигантские головы на пьедестале меня впечатлили и возбудили во мне историческое воображение. Тираны пустынных стран грандиозно мыслят…) Так в Туркмению?
Помню, я и Ильич несколько раз встретились в кафе в районе станции метро «Полянка» с туркменскими оппозиционерами. Вокруг оба раза суетились типы, похожие на оперов до степени смешения. Несколько «оперов» «носили», что называется, азиатские терракотовые лица. Нас сфотографировали, не очень стесняясь.
После первой встречи я приобрёл себе в «Доме книги» карты Туркмении, а оппозиционеры принесли мне литературу. Оппозиционную. Помню несколько названий: книгу «Нация племён», сборник «Туркменская трагедия». Экзотическая пустынная земля далёкой Туркмении волновала наше с Ильичём воображение ещё и потому, что совсем недавно, в ноябре 2002 года в Ашхабаде произошла неудачная попытка государственного переворота. Во главе заговора против Туркмен-баши стоял бывший премьер-министр Борис Шихмурадов. Покупая карты Туркмении в «Доме книги» на Арбате, я вспомнил, как покупал здесь же карты Казахстана и Республики Алтай в 1999-м и всё это кончилось арестом, приключениями и тюрьмой. Я сдержанно улыбнулся.
Однако уже после второй встречи мы с Ильичём остановили наше сближение с туркменской оппозицией. Нас остановило её качество. Не стану осуждать этих людей, но их качество нас не удовлетворило. Ведь если ты собираешься подставлять свою башку, то следует как минимум выбрать надёжную компанию. В результате, уже к осени 2003 года мы вынужденно обратились к России…
Мы думали, анализировали, прикидывали…
И вот к чему мы пришли: было ясно как божий день, что после 1993 года, вот уже десяток лет, массовая активность в стране неуклонно спадает. Что если в 95-м и 96-м, и 97 годах мы ещё могли с анпиловскими радикальными коммунистами собирать на митинги 5–7 тысяч человек, то самый массовый митинг наш, отдельно от Анпилова, только наш, национал-большевиков, собрал 5 апреля 1998 года 1.300 человек.
Причин для спада массовой активности было множество. И страшная бойня 3 и 4 октября 1993 года повлияла, ведь в самом центре столицы стреляли из танковых орудий по парламенту, и убитых было 173 трупа. Подумать только, в конце XX века в столице европейского государства сукин сын, алкоголик, строитель беспалый, положил столько людей! 4 октября там, у Белого дома была убита российская демократия. Патриоты напугались. Последовали аресты, хотя и лимитированные, и пусть быстро последовала амнистия, гражданам стало страшно. Массовое сопротивление было сломлено.
Второй спад массовой активности произошёл, когда Ельцин посадил на трон Путина. Тут уже не страх имел место, но чуть ли не ликование. Патриотам вначале показалось, что подполковник КГБ — патриот. Когда 23 февраля 2000 года партия собралась на Пушкинской площади и развернула свои пятнадцатиметровые лозунги: «Путин, мы тебя не звали, уходи!» и «Долой самодержавие и престолонаследие!», от нас подальше отодвинулись собравшиеся там же коммунисты и патриоты. Сейчас у них иная позиция, а тогда они обидчиво поджали задницы, демонстрируя их нам, противникам их кумира.
Либералы были тогда ещё с Путиным, потому что его привёл Ельцин, демократы не соображали, что Ельцин расстрелял в 1993 году не только Верховный Совет России, но и саму её Величество Русскую Демократию. Потому некому было выходить на митинги. Только КПРФ — анемичная наследница Маркса, Ленина, Сталина и КПСС — уныло и бесполезно собирала на юбилейные 1-е мая и 7-е ноября своих растрепанных пенсионеров. Но если ранее они выводили пятнадцать или даже двадцать тысяч, то теперь в их колонне плелись едва ли пять.
Мы с Ильичём решили, что пойдём другим путём. Что если мы не можем выводить на митинги впечатляющее количество сторонников, то мы станем устраивать политические акции, не требующие большого количества людей. Акции, шокирующие своей необычностью, привлекающие своей дерзостью и одновременно не наносящие ущерба жизни и здоровью людей. Само собой родилось название — Акции прямого действия, сокращённо АПЦ.
В сущности, мы ориентировались на наш же собственный опыт. Мирный захват символически значимых зданий мы уже совершали в Севастополе и Риге, но теперь мы решили действовать на территории России.
Первый опыт продуктового терроризма у нас тоже уже был. Весной 1999 года Дмитрий Бахур и Егор Горшков швырнули несколько куриных яиц в господина Никиту Михалкова, кинорежиссёра. Произошло это на мастер-классе Михалкова в помещении Дома кино. Это был спонтанный, даже не подготовленный жест, политический протест против проститутского поведения знаменитого кинорежиссёра. Михалков поддержал на президентских выборах в Казахстане Нурсултана Назарбаева в обмен на спонсорство Назарбаева в производстве фильма «Сибирский цирюльник». Мы имели сведения, что в казахских тюрьмах убивают и насилуют русскую оппозицию, мы сделали листовку «Друг палача» и разбросали её на премьере фильма для журналистов. Видимо, мы попали в больное место г-на Михалкова. Он отомстил нам тотчас же, вероятно, использовав возможности своего друга г-на Степашина, тот был как раз в описываемое время министром внутренних дел. Местью за листовку послужил ящик с «коктейлями Молотова», подброшенный к двери нашего «бункера» (штаба), а через двадцать минут в штаб нагрянули с обыском объединенные силы различных родов милиции. Ответом на этот рейд и явилась атака куриными яйцами. Бахура и Горшкова бросили в Бутырку, откуда Бахур вышел с туберкулёзом и долго потом лечился.
Мы с Ильичём вспомнили этот опыт. Акции прямого действия — «бархатный», или «продуктовый» терроризм и мирный захват офисов чиновников — прокатились по всей стране. Одним из первых, помню, историю в Манеже, когда председатель Центральной избирательной комиссии г-н Вешняков был обстрелян жирной струёй майонеза. Просто залит майонезом в районе паха. Он стоял в это время у микрофона, а сзади, как смиренные обкакавшиеся школьники, стояли лидеры партий-сателлитов, они пришли заключить союз добрых намерений, благородного поведения на выборах. Там были Зюганов, Жириновский… И теперь стояли, открыв рты. Двое наших парней, Манжос и Медведев, стали внезапно знаменитыми, так же как и партия, осмелившаяся выступить против обмана и ханжества.
Вслед за историей с Вешняковым нацболы захватили вагон железной дороги. Купив билеты до Калининграда, они устроили бунт на границе с Литвой, закрыли и забаррикадировали двери изнутри, приковались цепями друг к другу, общим числом 28 активистов. Это был знак протеста против введения обязательных транзитных виз для российских граждан, пересекающих Литву, едущих в Калининградскую область и г. Калининград. Вагон штурмовали, ребят арестовали, судили, и они отбывали наказание в старом Вильнюсском централе, где в начале прошлого века сидел некто Феликс Дзержинский.
АПД в Большом театре в день инаугурации второго президентства Владимира Путина 7 мая 2004 года была, пожалуй, самой выразительной, значительной и яркой акцией нацболов. В тот вечер в Большом театре ожидали самого Путина. Нацболы захватили сцену и президентскую ложу. На сцене они зажгли файеры и дымовые шашки, выкрикивая лозунги: «Долой царя!», «Россия без Путина!», с балконов в зал летели листовки. Если учесть, что захват Большого театра произошел через год с небольшим после «Норд-Оста», можно представить, на какие риски шли нацболы. Но по какой-то, ведомой только власти, причине сурово судить участников захвата Большого театра не стали. Их легко наказали по административным статьям.
Самыми знаменитыми АПД стали: «захват» Министерства здравоохранения 2 августа 2004 года и «захват» приёмной Администрации президента 14 декабря 2004 года. Вот что писал «исследователь» нацболов Павел Данилин об акции 2 августа: «Группа из 20 нацболов ворвалась в Минздрав, захватила кабинет Зурабова и ещё несколько кабинетов, а затем Максим Громов выбросил из окна портрет президента. Члены НБП кричали: «Путин — враг народа!», «Зурабов — враг народа», «За наших стариков уши отрежем» ⟨…⟩ Семерых участников захвата осудили 20 декабря к пяти годам тюремного заключения…» «В журналистской среде это вызвало взрыв возмущения»,— пишет Данилин. И заключает: «Прокуратура действительно, не должна была делать из нацболов героев и мучеников, фактически политзаключенных,— а направить все силы на то, чтобы посадить Эдуарда Лимонова».
14 декабря 40 нацболов захватили приёмную Администрации президента. Судили нацболов целый год и приговорили к срокам от одного (уже как раз отсиженного) года до 4,5 лет. Однако эти АПД были только вершины огромного айсберга АПД. «Всего нацболами за рассматриваемый период с осени 2003 года по июнь 2005 года совершено около 870 акций. Это по меньшей мере в 20 раз больше, чем у любой иной политической организации»,— констатирует «исследователь», предлагающий меня посадить. И заключает: «В России существует одно-единственное массовое молодёжное движение,— это НБП».
Посадить меня российские власти не решились. Однако после серии успешных акций прямого действия вдруг пропал Ильич. Пошёл на встречу и пропал. Сказать, что мы были не готовы к подобному, я не могу. Партия не по своей вине, но по воле руководящих страной довольно злых и дремучих людей была объектом преследований. Партия всего лишь хотела, согласно Конституции, участвовать в политической жизни страны, но именно поэтому дремучая власть расценивала партию как врага, потому что партия была молодой, энергичной и хотела участвовать в выборах. Дремучие, формации XIX века люди посчитали (и продолжают считать), что партия должна быть уничтожена. Партию было бы лучше уничтожить физически, считали в Кремле, но так как нравы во всем остальном мире господствуют более современные, потому стали вытаптывать партию. Несправедливый суд и тюрьма — вот что нам было уготовано.
Слуги государевы, архаичные прокуратура, милиция, служба государственной безопасности,— добавляли к старомодному насилию власти ещё свою диковатую старательность. Бывало, перестаравшись на тайных допросах, эти гунны убивали наших людей. К описываемому времени убитых было уже шестеро. Чтобы замаскировать следы, уже убитых бросали на рельсы, одного, моего проводника по Алтаю, выбросили из окна. Так что к пропажам людей мы были готовы. Мы сказали себе: «Ильича взяли, возможно, убили». Мы стали искать следы Ильича.
Вдруг на нас вышел наш давнишний союзник, депутат Госдумы, бывший советский полковник. Ему удалось узнать, что Ильич жив и содержится в «Лефортово». Депутат был уверен, что его не допустят в Государственную думу на следующий срок, и потому, видимо, написал запрос в Генеральную прокуратуру о судьбе Ильича. Запрос поддержали ещё двое таких же депутатов без будущего, либо с добрыми сердцами. Одновременно на адреса двух наших людей пришли письма из «Лефортово»! Многих наших товарищей эти письма повергли в состояние шока, но не меня, я знал как устроена тюрьма «Лефортово». Я же просидел там в 2001–2002 годах пятнадцать месяцев.
Дело в том, что, кинув нашего Ильича в «Лефортово», чекисты не потрудились оговорить запрет на переписку. Потому администрация тюрьмы сама никак не ограничила Ильича, он, как и все заключённые, мог использовать своё право отправлять и получать письма. И он воспользовался своим правом.
Администрация же не обязана была знать подробности истории Ильича. Это прокуратура опростоволосилась. Администрация в лице дежурного офицера прочла письма Ильича и, не найдя в них ничего необычного (Ильич-то умный мужик), равнодушно поставила на них штампы, а дальше письма попали на почту. И к адресатам.
Вооруженные теперь дополнительно письмами Ильича, депутаты (главным в этом деле был полковник-депутат Виктор Алкснис) вызвали в Госдуму на Охотный Ряд самого Генерального прокурора Устинова. Толстяк почувствовал, что попал. Идти и унижаться перед депутатами за некрасивую историю, когда жителя иностранного государства выкрали с улицы и тайно держат в Следственном изоляторе ФСБ, Устинову ой как не захотелось! Ведь Ильич не совершил ничего такого, чем можно было оправдать такие манеры поведения спецслужб. Устинов позвонил Алкснису. И попросил прийти в Генпрокуратуру, где предложил to make a deal.
— Вы, Виктор Имантович, отзываете ваш вызов Генерального прокурора на позорище злым депутатам,— а они станут унижать Генпрокурора по полной,— а я, Генеральный прокурор, в обмен, взамен, в компенсацию, освобождаю вашего Ильича из застенка.
Прямо от Генпрокурора депутат Алкснис позвонил мне и адвокату Беляку, спрашивая: «Как поступить?» Я был за то, чтобы не отменять сцену в Государственной думе, а Ильича и так и так выпустят из «Лефортово». Теперь-то, когда известно, где он находится, и ясно, что его в России не обвиняют, собственно ни в чём, а лишь хотят по-тихому передать Латвии.
— Не факт, что выпустят,— сказал Беляк и предложил брать предложение Генпрокурора. В Латвии на Ильича заведено уголовное дело, ясно, что дело не выдержит суда и развалится, но посидеть Ильичу некоторое время придётся. Озлобленный же после экзекуции в Государственной думе Генпрокурор, сделает всё, чтобы экстрадировать Ильича.
Мне пришлось согласиться с Беляком. Тем более, что Алкснис был на его стороне. Алкснис сообщил Генеральному прокурору, что нацболы приняли его предложение.
В четверг мы поехали в тюрьму забирать Ильича. Поехали порознь: я с ребятами на «Волге», а Беляк должен был прибыть в тюрьму на своём чёрном «Лексусе». Светило октябрьское солнышко, дул тёплый ветерок, срывая и унося слабые осенние листья. Мы, я и трое нацболов-охранников, вышли из машины и ждали Беляка в полсотне метров от входа в тюремный двор. Беляк запаздывал. Мы разговаривали.
Мы были горды собой. Нас просто распирало от гордости. Мы достигли кой-чего в этой жизни, думали мы, мы на равных ведём переговоры с самим Генеральным прокурором и добились того, что нашего товарища выпустят из тюрьмы ФСБ. Неплохо для простых ребят, начавших свою партию с нуля. Для вчерашних панков, для пацанов с окраин России…
Беляк приехал. Он был обильно надушен терпким парфюмом и был в хорошем расположении духа. И одет он был в кожаный новый пиджак.
Он любовно посмотрел на нас, наши пацаны ему нравились.
— Ну что, отправились?— обратился ко мне Беляк,— внутрь тебя не пустят, но хоть посмотришь, как изолятор «Лефортово» выглядит с вольной стороны.
Нацболы остались на солнышке. Я порекомендовал им вообще уйти в машину, потому что со двора тюрьмы уже стали выглядывать граждане в хаки, и бритоголовые товарищи их смущали, было видно по их взволнованным лицам.
В небольшом помещении унылые родственники кропотливо писали описи продуктов и вещей, которые они намеревались передать своим родным заключённым. Одни согбенные спины. Беляк позвонил в дверь справа, из-за стекла и решёток выглянул дежурный.
— Адвокат Беляк к заключённому…— И адвокат назвал фамилию Ильича. Одновременно он показал своё адвокатское удостоверение и что-то добавил, я не разобрал что.
— Ждите, у нас обед,— сказал адвокату дежурный. Он, я отметил, всё время смотрел при этом на меня.
— Пойдём во двор,— предложил Беляк.
— А услышим, когда позовут?
— Не волнуйся, услышим.
Мы стали расхаживать по двору, при этом Беляк рассказывал мне обстоятельства дела, если не ошибаюсь, сенатора Изместьева, впоследствии Беляк вышел из этого дела. В любом случае, даже если это не было дело Изместьева, Беляк всегда говорит о своих делах как поэт, увлекательно, взволнованно и многословно. Он говорил где-то час, я уже стал замерзать, как вдруг к нам подошёл во дворе усатый пожилой лейтенант в хаки и объявил, что сегодня встречи с заключённым не будет.
— Какой встречи!— воскликнул адвокат Беляк,— я приехал забирать моего подзащитного! У меня есть письмо, подписанное Генеральным прокурором!
Беляк полез во внутренний карман пиджака.
— Верю!— сказал лейтенант и взял Беляка за руку, препятствуя его намерению вынуть документ.— У нас есть такой же. Верю. Но завтра. Сегодня уже поздно. Сегодня у нас БАНЯ. Вы же у нас так часто бываете, господин адвокат, что же вы забыли, что в четверг у нас БАНЯ! БА-А-НЯ!
Он произнёс своё «баня», как имя бога, Ваала какого-нибудь.
— Завтра с утра, милости просим! А вы!— воскликнул он, обращаясь ко мне.— А вы, вы же у нас сидели!— воскликнул он укоризненно.
*
Беляк был раздосадован, но мы смеялись, когда шли к машинам. «Вы же у нас сидели!» — повторил Беляк несколько раз. И то верно, я у них сидел. И долго.
На следующий день Беляк поехал один и забрал Ильича из тюрьмы. Ильич, как оказалось, сидел там, в той же камере, № 24, где сидел и я первые месяцы. Он написал там несколько неплохих стихотворений.
На некоторое время Ильича оставили в покое. Впоследствии его ещё раз выкрали прямо с улицы, но менты дали ему сбежать, и около двух лет он жил в, что называется, «подполье». Однако это время находится уже за пределами моей, ограниченной временем и местом, книги.
Гладиатор
Там ещё был «Гладиатор».
Если ехать с Садового кольца и повернуть на Большую Сыромятническую, огибая когда-то известный в советском социуме магазин «Людмила» (сейчас в нём разместились несколько магазинов), то метров через двести по левой стороне появляется 1-й туннель. Дыра въезда и дыра выезда из Сыров. Именно туда сейчас устремляются автомобили буржуинов, приезжающих в выставочный комплекс «Винзавод». А в ночь открытых музеев туда же течёт река посетителей. Над туннелем по эстакаде, часто лязгая, идут поезда на юг и с юга России. Вот как раз перед 1-м туннелем располагался частокол «Гладиатора». Частокол, по мысли его создателей, имитировал, быть может, римский военный лагерь или гладиаторскую школу. Тут и там из него торчали заострённые брёвна, окрученные непонятного назначения канатами, на нём висели якобы римские щиты, топоры и копья, а сквозь просветы были видны деревянные домишки. Каждый домик вмещал несколько столов, там могла разместиться в каждом либо среднего размера компания, либо несколько индивидуальных посетителей. В зимнее время домики отапливались обогревателями. В вечернее время суток «Гладиатор» загадочно мерцал красными лампочками, издали притягивая к себе внимание. Когда я впервые увидел «Гладиатор», это был летний вечер, вдоль тротуара стояли довольно дорогие автомобили, широкие двери римского лагеря были гостеприимно открыты, я тотчас же нашёл «Гладиатору» литературный прототип. В романе Steppenwolf Германа Гессе герой романа Гарри Галлер пытается попасть в заведение с горящими плохо, исчезающими буквами: «Магический театр. Вход не для всех». Прежде всего, ему трудно даже прочесть исчезающие буквы. Наконец он дочитывает: «Только для сумасшедших!»
«Таинственное место!» — помню, подумал я, впервые столкнувшись с «Гладиатором». Мерцающие лампочки обыкновенно ассоциируются у меня с Новым годом, с ёлками, на которых, собственно, эти лампочки и мерцают. Обещая в Новый год новую судьбу, ту или иную, или неопределённую сказку. Поскольку я передвигался и передвигаюсь после тюрьмы лишь на автомобиле, то мне пришлось проезжать мимо «Гладиатора» по меньшей мере один раз в день, если я покидал Сыры. Почему один? Выезжал я обычно мимо завода «Манометр» на набережную Яузы, а вот въезжать домой с набережной было неудобно, въезжали мы всегда через 1-й туннель, мимо «Гладиатора».
Однажды у меня был в гостях бывший нацбол Андрей, сделавший в конце концов неплохую карьеру как юрист. Он ушёл от нас спокойно, просто отдалился, никогда после не выступил против нас, я его уважал. Явился он с коньяком. Выпив его коньяк, мы выпили моё вино и стали думать, что делать дальше. Бультерьерочки в тот вечер не было, она находилась в спальном районе у родителей. Сыры, надо сказать, чрезвычайно бедны продовольственными магазинами, есть лишь один продмаг,— убогий, советского образца, где до сих пор нужно «выбивать чек» в каждый отдел, а ассортимент там постнее советского. Закрывается магазин в восемь вечера. Была полночь.
— Пойдёмте в «Гладиатор», Эдуард!— предложил Андрей.— Вы там были?
Я сказал, что не был. Он сказал, что он тоже там не был и вообще плохо знает эту часть города.
— А выпить хочется, Эдуард! Вам не хочется?
Я сказал, что и мне хочется. А ещё хочется есть. Но я не имею права покидать квартиру без охранников.
— Эдуард, посмотрите на меня. Я здоровый парень. И вы здоровый ещё мужик. Кто нас тронет? Что они у вас круглые сутки сидят во дворе?
Я сказал, что сейчас не сидят круглые сутки, но есть правила безопасности.
— Ну как хотите…— Было видно, что он обиделся.
— Пойдёмте,— сказал я,— только я надену кепку.
Мы отправились, осторожно оценивая темноту Сыров перед нами.
*
— Мы закрыты,— сказал нам мрачный мужчина в чёрном костюме с белой рубашкой и в галстуке. Мы нашли его во внутреннем дворике «Гладиатора». Там, оказалось, есть внутренний дворик с фонтаном. Между тем, в нескольких домиках был свет, и оттуда шёл дым и был слышен говор и хохот. И даже женский визг. Но во внутреннем дворике было темно, и только этот, в костюме.
— Для них вы не закрыты,— заметил Андрей.— Для нас закрыты.
— Они пришли часов в шесть. Сейчас разойдутся. После одиннадцати мы уже не принимаем заказы.
Я обычно не пререкаюсь с персоналом заведений, предоставляя это удовольствие другим. Впрочем, своих охранников я удерживаю от пререканий. Андрей ещё попререкался, и мы ушли, пытаясь вслух понять нравы этого заведения.
— Может, у них тут наркопритон?— предположил он.— Что вообще за люди?
— Не знаю. Может, чеченцы. Может, азербайджанцы. Может, дагестанцы.
Он проводил меня в квартиру и уехал.
*
Ещё одна попытка попасть в таинственное заведение произошла при подобных же обстоятельствах, только компания была более многочисленная, нас было четверо. Степень опьянения, видимо, была большая, потому что воспоминания об этом случае у меня остались более глубокие, символические, с оттенком мистицизма. В воспоминаниях как во сне был тёмный внутренний двор, был человек в чёрном костюме, белой рубашке и галстуке, слова его «Мы закрыты!» в этот раз звучали гулко и как бы доносились с высоты неба, этаким роковым приговором звучали свыше и раскатывались на гласных: М-ы-з-а-к-к-р-р-ы-ты!— ыты! Ыты! На следующий день этот человек вспомнился мне как египетский бог Анубис с головой шакала, хозяин царства мёртвых. Как бы там ни было, мне во второй раз не удалось попасть в «Гладиатор», и как человек, склонный к метафизическому объяснению предметов и явлений, я начал подумывать, что мне не дают попасть туда некие высшие силы. Как Гарри Галлер, я, проезжая ежедневно мимо «Гладиатора», вглядывался бессильно в частокол, в ступени, ведущие ко входу, в таинственную глубь его. Несколько раз я увидел там самого Анубиса, он или бесстрастно стоял на ступенях один, либо высокомерно разговаривал с какими-то vis-a-vis.
Заклятие сумел преодолеть мой адвокат Сергей Беляк. Приехав ко мне однажды в Сыры, он предложил мне пойти поужинать.
— Тут у тебя есть интересное заведение, содержат азербайджанцы, «Гладиатор» называется. Ты ещё не был?
Я поведал ему о своих попытках проникнуть в заведение и предположил (в первый раз), что меня не хотят обслуживать только потому что это я.
— Глупости, Эдуард,— поморщился Сергей.— Они действительно рано закрываются, потому заказ блюд у них кончается в одиннадцать. Только и всего. Там собираются авторитеты диаспоры. Люди серьёзные. Чего им засиживаться как сявкам после полуночи.
Мы подъехали к «Гладиатору» на его «Лексусе».
— Добрый вечер,— сказал Сергей. Нас встретил Анубис.— Нас двое. Усадите нас, пожалуйста, но без шумных соседей!
Анубис с приветливой улыбкой отвёл нас в один из домиков, спросил: «Подходит?»
Мы заверили его, что подходит. Потому что в домике было уютно и не было других клиентов.
— Я вам пришлю русского официанта, Диму,— сказал Анубис и вышел.
Телевизор на стене демонстрировал азербайджанский канал из Баку. Мелкие, сладкие помидоры равно прибыли из их родины. Бараний шашлык, видимо, недавно ещё щипал траву на горных пастбищах родины. Кинза, свежая, я уверен, тоже росла там же, между камнями или где она растёт? Цены были низкие. Чисто.
Русский Дима говорил с чуть слышным акцентом их Родины. Я заказал двести водки и пива. Сергей Б. только пиво. Стали говорить о делах и о личной жизни. 23 октября Сергей сделал самую мою, как оказалось, финальную фотографию с бультерьерочкой. Вот о ней мы и стали говорить, о бультерьерочке.
Мистика «Гладиатора», однако, ничуть не рассасывалась. Всё там выглядело чрезвычайно странно. Обыкновенно такие заведения напоминают базар. Официанты в таких заведениях запанибрата с клиентами, клиенты громко разговаривают, есть пьяные… женщины пошло хохочут… В «Гладиаторе» было скудно с женщинами, предметы все как бы ушли в себя, разыгрывалась некая мистерия. Даже шашлычный жир не вонял, но строго пахло подгорелым мясом. Неужели только потому, что здесь собирались авторитетные люди диаспоры? Ну не каждый же день они приезжали? А когда не приезжали, как им удавалось держать весь этот ансамбль, весь персонал и домики, и частокол, и предметы в строгом соответствии с заданным регистром?
«Гладиатор» никогда не вышел за пределы этого заданного («кем»? либо «чем»?) регистра. Он никогда не нарушил первого впечатления: места загадочного, непостижимого, у него всегда оставалась тайна. Теперь уже навсегда, потому что он стоит закрытый и холодный, мерцание лампочек остановили, и к тому времени, когда эта книга попадёт к читателю, «Гладиатор», видимо, уничтожат. Он останется лишь в том измерении, что и таинственное место «только для сумасшедших», куда рвался Гарри Галлер, в середине книги он всё же находит его: «Чёрный орёл», где ждёт его Термина, его спасительница.
Меня не спасла в «Гладиаторе» моя Термина, я её там не нашёл, в те годы мне встретились elsewhere несколько девушек. Призраки их остались там, в квартире в Сырах, я полагаю, они мешают спать своими воплями квартирной хозяйке и её сыну. С книгой же Steppenwolf у меня связана целая цепь воспоминаний. Сейчас я о ней расскажу.
В 1977 году в апреле я впервые попал в brown-stone мультимиллионера Питера Спрэга в Нью-Йорк Сити, дом впоследствии стал героем моих двух крупных произведений, а именно «Дневника неудачника» и «Истории его слуги». Там дом самостоятельно фигурирует как «миллионерский домик». Я попал туда, в дом, посредством знакомства с девушкой Джулией Карпентер, работавшей тогда экономкой (house-keeper) у Peter Sprague. Детали моей жизни, связанной с домом, есть в книгах, которые я назвал. Суть не в этом. Ещё весной и летом 1977 года, в период моего… как бы по-старому назвать это состояние, определим его как «жениховство», в период жениховства с Джули, она познакомила меня где-то у входной двери с темноволосой женщиной, отрекомендовав её как актрису Карлу Романелли. Актриса торопилась куда-то, потому, стандартно улыбнувшись мне, она покинула дом. А Джули пояснила, что Романелли снялась в фильме, продюсером которого был Питер Спрэг.
— Ещё там снимались актриса Доминик Санда и германский актёр…— Джули задумалась, поскольку как и большинство американцев имела проблемы с идентификацией неамериканских celebrities,— очень известный… Макс…
— Макс фон Зюдов,— подсказала Джули вышедшая в это время в кухню, где мы сидели, секретарша Питера Карла Фельтман.— Я тебе дам книгу, Эдвард, у меня есть книга…
Через несколько дней я получил, да, первого своего Steppenwolf'а, издание «Пингвина» с парой фотографий на обложке и силуэтом Макса фон Зюдов. На обложке же было помечено: «Сейчас снят фильм со звёздами Макс фон Зюдов и Доминик Санда». На обороте было сказано: «Обложка показывает Макс фон Зюдов и Доминик Санда в Steppenwolf Германа Гессе, с Пьером Климента, Карлой Романелли, Гельмутом Фоернбахером и Роем Босьер. Фильм отснят Фредом Хайнес. Исполнительный продюсер Питер Спрэг».
Я тогда же попытался читать книгу, однако история стареющего буржуазного интеллектуала не вызвала у меня большого интереса. Прочитав первые страниц пятьдесят, я перелистал остальные, и, каюсь, намеренно пропустил «Трактат о степном волке», а далее уже просто перелистал страницы, прочитывая здесь и там куски. Видимо, время для интереса к стареющим буржуа для меня не настало. Эрмин (или Гермин, если угодно) в моей жизни той поры было предостаточно. Они просто гроздьями висели тогда на мне, злом, честолюбивом парне-эмигранте, часть этих девушек остались запечатлены на страницах «Дневника неудачника» и «Истории его слуги». Однако уже в первом моём Steppenwolf'е я отметил пульсирующую на стене надпись: «Магический театр. Вход не для всех», «Только для сумасшедших», чтобы через годы связать магический театр из Steppenwolf'а с «Гладиатором».
Следующий Steppenwolf был подброшен мне судьбою в 1985 году, в июле, когда я поселился в мансарде на rue de Turenne в Париже. Среди книг квартирной хозяйки Франсин Руссель я без труда нашел Steppenwolf по-французски. Этот экземпляр оказался мне много ближе, 1985-й был годом первого моего разрыва с Натальей Медведевой, и весь год я прожил в состоянии… ну не полного одиночества, однако проблемы Гарри Галлера оказались мне вдруг куда ближе, чем за девять лет до этого, в Нью-Йорке. По-новому прочитал я и первые десятки страниц, в особенности эпизод с араукарией в предисловии (предисловие написано от лица племянника хозяйки отеля/меблированных комнат): «Я живу в другом мире, абсолютно не в этом, и вероятнее всего, я не смог бы жить ни одного дня в моём собственном доме с араукариями. Однако я неаккуратный старый Steppenwolf, всё же сын матери, и моя мать также была женой буржуа, выращивала растения и заботилась держать её дом и домашнюю жизнь такими чистыми и прибранными, и аккуратными, как только она могла. Всё это вернулось обратно ко мне через единый вдох паркетной ваксы и араукарии, и потому я сижу здесь время от времени и смотрю на этот маленький сад порядка и радуюсь, что такие вещи ещё существуют!»
Правда, уже на следующей странице Гарри Steppenwolf цитирует поэта Новалиса: «Человек должен быть горд страданием. Все страдания есть напоминание о нашем высоком состоянии».
Своего третьего Steppenwolf а я обнаружил в квартире 66 в доме № 6 по Калошину переулку в Москве, когда переселился туда весной 1995 года. И этого Steppenwolf'а (это опять пингвиновское издание, прославляющее заодно фильм и Питера Спрэга) я уже не отпускал. Он лежит сейчас на моём столе, потому что, выйдя из-за решётки, я нашёл его опять. Он сохранялся у девочки-бультерьерочки. В лагере я помнил его и начал писать эссе Steppenwolf об араукарии. Но у меня украли тетрадь.
В 2003-м заново прочитанный умудрённым мною, Steppenwolf навёл меня на таинственный (да, да, все равно таинственный) «Гладиатор», на таинственный квартал Сыры. В довольно банальной Москве — и Сыры! И «Гладиатор». И фигура Анубиса в чёрном костюме в глубине входа сияет белым воротничком…
У большинства историй есть реальное объяснение. Квартиру 66 в доме 6 я унаследовал от американского художника Роберта Филлипини, уехавшего в Америку. Он оставил мне свои книги. Этим рационально объясняется появление третьего Steppenwolf'а в моей жизни. А иррациональное состоит в непонятном упорстве, с каким судьба подбрасывает мне эту книгу: 1977, 1985, 1995. Иные книги не появлялись в моей жизни так часто.
В Сырах я поселился в квартире, нисколько не напоминающей мне ни семейный буржуазный отель, где нашёл себе пристанище Гарри Галлер — Steppenwolf, ни квартиру моей матери, всегда чистенькую, но всё же мещанскую, а не буржуазную. Чувство общности возникало от более или менее общего возраста моего со Steppenwolf'ом и от его и моего одиночества, без сомнения. А меланхоличный, безлюдный пейзаж промзоны только физически подчеркнул моё всё усиливавшееся одиночество. Попытки выйти из физического одиночества воплотились в попытки найти волшебную дверь. В «Гладиаторе» мне почудилась волшебная, только моя дверь. То, что там круглый год мерцали лампочки, заманивало туда выпить и пообедать неизощрённые умы. А меня лампочки заманивали дверью в иной мир. То, что я так никогда и не смог убедиться в банальной, может быть, сущности «Гладиатора»,— свидетельство того, что я очень сильно не хотел убеждаться. У меня так же было с тюрьмой. Некоторые мои сторонники, побывавшие в тюрьме позже меня, нашли тюрьму населённой жестокими, скушными и враждебными людьми. Я нашёл тюрьму мистической столицей Боли и Страданий, в которой я очищался и мудрым воспарил над Болью и Страданиями. Те мои сторонники, кто не увидел «моей» тюрьмы, не обладают мистическим видением, им недоступен экстаз, состояние, в которое впадают великие грешники и святые. Ну что ж, это кто как родится. «Я нашёл в тюрьме отвратительных существ, Эдуард Вениаминович,— таких, о каких вы писали, не обнаружил»,— сказал мне укоризненно худой, бледный, освободившийся после двух с лишним лет в Бутырской тюрьме, парень. И я с сожалением вдруг понял, что он не такой, как я. Ему недоступно мистическое измерение. Его можно пожалеть, потому что те, кому недоступно мистическое измерение, живут в тюрьме погружённые в перебранки из-за чая или каши, ссорятся по поводу распределения телевизионного времени, яростно зачёркивают квадратики дней в календаре, с ненавистью затирая шариком ручки свои несчастные сутки. Их мир — передачки, тараканы, носки, чай, сигареты, они, я же говорю, их можно пожалеть…
Дверь в иной мир, тут Герман Гессе бесконечно прав, часто сторожит привратник-женщина. Гермина — джазовая богемная девушка — сумела расслабить и вернуть к жизни чувственными удовольствиями сходившего с ума старого интеллектуала. Мне доводилось возвращать к жизни несколько сходивших с ума от неуверенности юных дев. Однако чаще всего женщина является, да, да, привратницей в иные миры.
Недавно проезжая через Сыры случайно, я увидел, что расширенный (им отошло соседнее здание) «Гладиатор» снова открыли. Но это уже не таинственный ресторан.
Смерть Крыс
От неё пахло, хотите верьте, хотите нет, как от вещей, только что выстиранных в стиральной машине и недостаточно выполосканных. Откуда у крысы, которая должна бы разить подвалом, либо, на худой конец, её местом обитания,— клеткой, запах стирального порошка? В конце концов я нашёл приемлемый ответ, объясняющий её запах. Крыс любила мыло, и каждый раз, когда я, бывало, переставал следить за её поведением и перемещением по квартире, мыло вдруг исчезало неизвестно куда. Она пахла мылом, поскольку ела мыло, видимо, для неё мыло было деликатесом!
Хитрая, она не тащила его в клетку, это, может быть, сделали бы глупые крысы. Она прятала краденое добро в недрах квартиры: как правило, под пуританскую койку в моём кабинете, Я видел некое количество раз, как она выходила из-под койки. Однако ни в чём её не заподозрил, так как вид у неё был самый невинный. На её физиономии был обычный деловой оскал: животное прогуливается, имеет право, и отстаньте все.
Позднее я обнаружил всё же под койкой несколько кусков с деликатными бороздками от её зубов. Она не позволяла себе вульгарно объедаться мылом, она его деликатно дегустировала, так сомелье, дегустаторы вина, наполняют палату рта своим излюбленным продуктом, действуя вином на все рецепторы. Ах! Ах!— возможно, думала она, чувствуя, что жизнь прекрасна.
Благодаря покинувшей меня бультерьерочке я не только значительным образом пополнил свои знания в зоологии, но и приобрёл друга, точнее подругу, поскольку это была she-крыса. Подругу остроумную, с чувством юмора, любившую игры и развлечения. Про игры и развлечения можно и потом. Вначале о знаниях в зоологии.
Больше всего меня потрясли ногти моей Крыс. У нее, оказалось, были не какие-то там вульгарные костяные когти, как у кошек или медведей в зоопарке, но именно умилительные, миниатюрные ноготочки, как у детей или старушек! Бультерьерочка давным-давно, ещё когда мы познакомились, рассказывала мне о ноготках своих крыс (их у неё перебывало множество), тем не менее я испытал шок, увидев ноготки впервые. Если бы всем детям в школах показывали крыс с ноготками, думаю, дети вырастали бы куда менее жестокие.
Шерсть у Крыс была изначально белой, но постепенно пожелтела к старости. Старость увы, навалилась на мою подругу довольно быстро. Когда она попала ко мне, ей было уже два с лишним года, а живут крысы всего-ничего: три-четыре года, и только. Дальше я расскажу о мучительном процессе её старения, а сейчас общие положения.
Она была потомком лабораторных крыс, и потому белая, а глазки, как у всех альбиносов — у неё были розово-красные. В темноте и при вспышках фотоаппарата они горели дьявольским огнём. А по характеру Крыс была ангел с хвостом.
Хвост. Знаменитый хвост, якобы омерзительный, оказался таким же нормальным и полезным органом её тела, каким у нас являются ноги и руки. Однажды она, хитро озираясь на меня, показала мне фигуру высшего пилотажа. Порыскав по столу, она подкатила сырое куриное яйцо под мордочку и, взяв его передними лапами, перевернулась на спину. Поёрзала в таком положении по краю стола и вдруг упала вниз, на пол, хвостом вперёд. Хвост смягчил её полёт, яйцо не разбилось (!), и она, победоносно донеся его до своей клетки, положила яйцо у порога. Вот так! И гордо оглянулась на меня. Я ей зааплодировал… Когда мы с ней бегали в большой комнате, я — впереди, она — за мной, она держала хвост строго параллельно полу, над полом, так высоко как ей позволял её небольшой росточек. Она смешно следовала моим всем поворотам и повторяла их. В этом, я вспомнил, она была похожа на сокамерников моих в третьем корпусе Саратовского централа. На прогулке в его обширных двориках (да остаются они неизменно обширными для следующих поколений заключённых) я первые дни бегал трусцой один, следуя периметру дворика, вдоль стен. Впоследствии ко мне присоединялись мои молодые сокамерники, а иногда, о чудо, даже наш старший по хате Игорь. Оглядываясь, я видел пыхтевших зэков, их старые тапочки старательно повторяли стук моих старых тапочек.
Хвост для крысы — пружинистый крючок, как хобот у слона, она им вытворяла неимоверные вещи. А то, что он покрыт ороговевшей шкурой, к этому быстро привыкаешь, не вызывает же омерзения клешня краба.
Однажды, довольно-таки нетрезвый, когда мы с ней бесились в большой комнате и я догонял её, а она трусцой летела от меня, я не рассчитал и своей большой лапищей в ботинке наступил ей на её хвостик. Она подпрыгнула на полметра, ей-богу, издав такой душераздирающий звук, что испугался бы и сам чёрт. Она подпрыгнула стоя горизонтально! Как ей это удалось, попирая все законы физики! Приземлившись на пол, она стала дыбом на задних, злая-презлая, представляю, как ей было больно, ведь я в сравнении с нею был, как сейф, как слон. Пасть у неё была оскалена, глаза горели, она, видимо, собиралась кусануть меня что есть мочи, но вовремя вспомнила, что это я, её Вожак, её босс. Она опустилась, отбежала в угол, села ко мне спиной и стала зализывать свой болезный хвост. Целые сутки после этого она дулась на меня и отказывалась есть. Только к вечеру следующего дня мы помирились.
В начале моего повествования о моей жизни в Сырах я уже рассказал о некоторых повадках моей Крыс, здесь я лишь упорядочу сведения о ней, как того требует некролог, ведь я пишу ей некролог, моей зверушке, она скончалась 10 марта 2005 года, в марте — как оба моих родителя, через год после отца и за три года до смерти мамы моей.
Досталась она мне во взрослом возрасте полутора либо двух лет, а когда умерла, ей было года четыре. Первые признаки её старения я увидел внезапно, однажды вечером заметив, что ритуал влезания по моей штанине она выполняет не так резво, как прежде. Приглядевшись, я заметил, что при залезании по джинсовой ткани она более всего налегает на передние лапки, а задними только помогает. Впрочем, я не был уверен, что это так, но встревожившись, продолжил наблюдение. Оказалось да, мой зверь подволакивал правую заднюю лапу за собой. Я, ради такого серьёзного случая отправился в «Зоомагазин» в сопровождении охранников, это было на Старом Арбате. В «Зоомагазине» густо пахло зверьми. Мне, очень неожиданному клиенту, объяснили (длинноносая девушка в очках меня узнала), что у крыс к старости паралич задних ног является обычным заболеванием. Да, так вот! Девушка сочувственно чмокнула.
— Может быть, вы хотите купить новую крысу? У нас богатый выбор.
— Нет, спасибо,— отказался я. Моя крыса уже раздирает моё сердце, только новой мне и не хватает.— А нельзя ли её вылечить?
— Бесполезно.— Это уже была реплика взрослой, старой скорее, продавщицы. Она появилась из подсобного помещения.— Так у крыс выражается старение, это уже ведь не болезнь, но признак старческого ослабления организма. Вы заметили, что ваша крыса движется в десятки раз больше вас? У них уходит масса энергии на процесс жизнедеятельности, потому они и живут так недолго. Смотрите, как они активны.
У наших ног, в клетках бегали, метались, дрожали крысята. Не только белые, но и пятнистые, белобурые.
— Ну и что теперь, ждать пока она умрёт?
— К сожалению, другого выхода нет,— вздохнула продавщица животных.— Против смерти нет лекарств.
Мы вышли из магазина. Смеркалось. Сели в машину, оставленную в Калошином переулке. «Волга» заурчала и поехала.
— Ну что?— спросил водитель Стас.
— Ноги у нее отнялись от старости. Скоро умрёт.
*
Дома я выпустил Крыс из клетки. Она, как безногий инвалид, оперируя только короткими передними лапками, выбралась из клетки. Побежала, волоча за собой заднюю часть тела, коготки скрипели по линолеуму, к моим ботинкам. Стала взбираться по джинсам, но не удержалась, упала. Я поднял её, смущённую своей новой немощью. Ей-богу, у неё был извиняющийся вид, выражающий что-то вроде: «Прости, босс, я не пойму, что со мной, видимо, я больна или состарилась». Я поднял её и посадил на плечо. Она даже не заскрипела зубами, бедная моя, до того она была деморализована. Я попытался накормить её кусочком котлеты, дал ей сладкий сухарик, обычно я держал для неё неприкосновенный запас, но и сладкий сухарик не поднял её настроения. Она сидела на столе, у моего прибора, и даже не имела сил понарошку куснуть меня за руку, когда я потянулся к бокалу с вином. Обычно она всегда так поступала.
Далее я несколько месяцев наблюдал её неуклонную деградацию. В один из дней она перестала висеть на прутьях клетки, так как, видимо, даже передние лапки её ослабели. Правда, она умудрялась вытаскивать себя из клетки каждое утро, когда я открывал дверцу, но чего ей это стоило. Она неуклюже падала меж прутьев лесенки, ведущей на пол, падала боком, скатывалась кубарем, попадала лапами и хвостом меж прутьев, так что мне приходилось измышлять, как же её вынуть. Шерсть её стремительно желтела, безжизненные задние лапы сделались ощутимо синими под шерстью. Я несколько раз заплакал, наблюдая её мучительно везущей тело по полу кухни. Она уже не могла посещать другие комнаты, увы, жизнь её ограничивалась клеткой и кухней.
Там, за её клеткой была большая чугунная советская батарея, в целых десять секций, окрашенная в чёрный цвет. Я заметил, что если раньше она держалась подальше от батареи, спала в удалённом от неё углу, то сейчас она спит в ближнем к батарее углу, видимо, ей стало холодно. Я пододвинул клетку ближе к батарее и, вычистив клетку, насыпал ей помягче свежих сосновых стружек. И она там лежала, бедняжка.
Вечером я боялся вернуться домой и найти её мёртвой. Она не всегда находила в себе силы поприветствовать меня. В то время как когда она была здоровой, от каждого моего шороха она повисала на прутьях. Сейчас хорошо если она подымала голову, чтобы с виноватым выражением опустить её опять на подстилку из стружек.
Умерла она ночью. И я ничего не слышал. Рано утром я обнаружил её вытянутый, уже холодный трупик в углу клетки. Это было 10 марта 2005 года. В тот день мне некогда было её хоронить, у меня была деловая встреча. Я отыскал большую серебристого цвета коробку, положил в неё ваты, уложил туда мою подругу Крыс, под голову побольше ваты, как подушку, украсил её по бокам ёлочной старой гирляндой, разрезав её, закрыл коробку. Хотел было положить её в холодильник, но подумал, что это оскорбит её достоинство. На улице был сильнейший мороз,— 15, потому я открыл дряхлое широкое окно на кухне и положил коробку на внешний подоконник.
Там она пролежала двое суток. Потому что я и мои охранники — мы были заняты неотложными партийными делами. На третьи сутки утром я снарядил охранников хоронить крысу. По моей идее нужно было закопать её на том берегу Яузы, на пустыре. «Ну не можем же мы существо, с которым я прожил в дружбе чуть ли не два года, швырнуть в мусорный бак?!» — сказал я охранникам.
Я дал им с собой топор, лопату и даже зачем-то отвёртку. Сам я не отправился на захоронение, так как мы все опасались, что моё участие в копании могилы на пустыре может быть интерпретировано спецслужбами (наружным наблюдением) как попытка создать «схрон». Они ушли без меня.
Через некоторое время позвонили.
— Эдуард Вениаминович,— сказал Димка-белорус.— Земля такая ледяная, мы разожгли костёр, на месте могилки, но её всё равно, эту землю, ничем не пробьёшь. Мы тут нашли сухое большое дупло в дереве. Предлагаем захоронить её в дупле. Правда, в коробке она в дупло не входит. Просим разрешения вынуть её из коробки и похоронить её в дупле без коробки. Дупло хорошее такое, биологически чистое. Ей там будет хорошо.
Я дал согласие. Они её похоронили. И вернулись и сдали инвентарь: топор, лопату, отвёртку. И долго ещё удивлялись, что так промёрзла земля за Яузой.
Анализ «Фауста»
А потом я был поглощён «Фаустом».
Я читал «Фауста» Гёте и подростком в Харькове, и голодным юношей-поэтом в Москве. Я тщился тогда понять книгу, но не понимал. Я обратился к «Фаусту» опять после тюрьмы, уже шестидесятилетним, не имея в этот раз цели понять, но попросту потому, что этот персонаж сделался мне абсолютно необходимым.
Замечать в себе Фауста я начал, впрочем, где-то в 1998 году, когда волею судеб стал жить с шестнадцатилетней миниатюрной блондинкой Настей, она же бультерьерочка. Моя Грэтхен отличалась удивительной для нашего времени чистотой, наивностью и страдала аутизмом. Собственно, аутизм был её достоинством. Ещё она была простенькая и ангелоподобная. Мне было пятьдесят пять, а ей — шестнадцать, когда мы встретились. Но это были лишь первые биения Фауста во мне, в основном я оставался сильным нахальным воином. Фауст — религиозный «деятель», пророк, ересиарх. Фигура более крупная, чем воин-завоеватель. Фауст понадобился мне, когда я сам оказался на пути превращения в ересиарха, в пророка. В провидца. Летом 2003-го я вышел из лагеря готовым к новой роли. Новый 2004-й мы встретили с моим ангелом вдвоём.
Что случилось дальше, те кто взял себе за труд начать мою книгу сначала, уже знают. Мы расстались. Почему?
Эмоционально она за эти два с лишним года без меня застыла, как бетон. Я уверен, что она мне не изменяла, пока я был за решёткой, но лучше б уж она изменяла, потому что я нашёл её равнодушной и бесстрастной. Моя накопленная в тюрьме похоть разбивалась о её бетон.
Вещи её находились у меня, но сама она, вместе с угрожающей собакой, всё чаще оставалась жить у матери с отцом. Мы отодвигались, отодвигались, никто не ушёл, однако 2005-й мы уже встретили отдельно. Я — с охранниками, она с родителями. То есть моя Грэтхен ушла со сцены: out.
И тут я встретил актрису, самую красивую в моей стране. Если определять её в терминологии фаустианы, то встретил Елену Троянскую. Я воспринял её появление как должное совершиться событие, ничуть не удивился, а лишь взял её за руку и стал её мужчиной. Грэтхен out, Елена Троянская, персонаж античных трагедий,— in.
Ну конечно, я примеряю миф на себя. Но Гёте сделал то же самое, примерил Фауста на себя. Иоганн Георг Фауст существовал в Тюрингии, его годы жизни определяются приблизительно с 1480 по 1540. Известно, что Фауст учился в университете города Виттенберга. Там же преподавал с 1513 года великий реформатор Мартин Лютер (Martin Luter). И его годы жизни почти совпадают с годами жизни Фауста — 1483–1546. Напомню, что именно в Виттенберге доктор Лютер вывесил свои знаменитые «95 тезисов», положившие начало движению Реформации в 1517 году. А также выскажу мнение, что доктор Фауст, из народной легенды о нём — явная реакция на наступавший пуританизм лютеранства. Вероятнее всего, исторический Фауст, чернокнижник, прелюбодей, прожигатель жизни, маг и чародей также был (хотел быть и был) полным намеренным антиподом доктора Лютера. Два противоположных доктора из Виттенберга чрезвычайно интересны.
С самой красивой в моей стране женщиной, актрисой, мы родили двух детей. Однако ещё до рождения второго ребёнка,— дочери, её, как говорят, «бес попутал». В далёкой Индии она, ей исполнилось тридцать три года, пережила возрастной и мировоззренческий кризис. Вернулась из Индии чужим и враждебным мне человеком. Всё произошло мгновенно, в течение одного месяца. Магически, без видимых причин. И тем более демонстративно магически: посудите сами — тут и магическая Индия, и число «33», и особенный чудесный ребёнок Богдан, соответствующий характеристике ребёнка Фауста и Елены: «плодом их связи является ребёнок», вовсе не похожий на ребёнка Маргариты. «Это особенное, чудесное существо».
Я дальше попытаюсь распутать чуть-чуть иррациональное, сейчас же хочу вернуться к Гёте. Ну понятно, что Фауст и его история — это путь немногих храбрых и избранных. Это путь тех, кто выжил, дожил, имеет высочайший уровень мудрости, какой только может достичь человек сам. И только перед таким появляется дилемма: неужели это всё, что есть? Как же пробиться дальше, за человека?
Что немедленно бросается в глаза во время чтения и после прочтения трагедии Гёте — это её старомодность. Одно то, что она написана в стихах, уже делает её старомодной. Так как немецким я овладеть в жизни не успел, то неспособен оценить всю красоту и мощь этих лучших, как уверяют нас исследователи, стихов во всей немецкой литературе. Переводы, однако, способны донести смысл, я предпочёл перевод Н. Холодковского конца XIX века изыскам перевода Пастернака, уводящего от смысла.
Образность, машинерия сцен выглядят нарочито старомодными, но тут с автора взятки гладки — перед ним был средневековый сюжет. Надо было его решать адекватными средствами. Гёте бился над «Фаустом» всю свою жизнь, первые наброски сделаны, когда ему ещё не было двадцати пяти лет, последние, в восемьдесят два года, за год до смерти. Он оттачивал свой труд и перетасовывал. Средневековый «Пролог на небе», когда Мефистофель появляется у Господа и просит разрешения искусить Фауста, и получает его,— замечательно наивен, однако понятно, что в символической трагедии эта сцена, как в философском трактате, иллюстрирует категории теологии и философии. Так же, как путешествие Фауста и Мефистофеля на гору Брокен, на шабаш ведьм в Вальпургиеву ночь. Так же, как сцена «Кухня ведьмы», где Фауста поят чудесным зельем, сообщающим ему молодость и, как сейчас говорят, «сексуальную потенцию». Кстати говоря, упрямое человечество среди других нужных ему вещей изобрело ведь в конце концов «Виагру», и сцена из «Фауста», если её немного осовременить, будет сегодня более прозаической, лишённой демонизма, и называться будет «Визит старика в аптеку».
Гете попытался написать и написал универсальную историю о мытарствах человека высшего типа, позже другой немец, Ницше, прочно приклеит для такого человека определение, взятое им из «Фауста»: сверхчеловек. На самом деле этот немецкий путь прямиком вёл через немецких романтиков к Гитлеру. Это я замечаю не для того, чтобы разразиться нравоучительным осуждением, но лишь правды ради.
Гёте написал архетипическую историю блужданий («кто ищет — вынужден блуждать…») сверхчеловека. Фауст уже вначале изображён в виде старого учёного, успевшего воспринять все знания эпохи. И тут Фауст упёрся в невидимую стену, ограничивающую возможности человека. Острым умом исследователя и учёного Фауст ищет способ расширить территорию, покорённую его разумом. Он готов и к сверхъестественным способам познания. Если к дальнейшему познанию мира (оно же покорение его разумом) возможно прийти только через чёрные книги и связаться для этого с чёрными силами, пусть будет так. В первой сцене трагедии (Старинная комната с высокими готическими сводами. Фауст, исполненный тревоги, сидит у своего стола в высоком кресле.) Фауст произносит знаменитый монолог, начинающийся словами:
Я философию постиг,
Я стал юристом, стал врачом,
Увы: с усердьем и трудом
И в богословье я проник,—
И не умней я стал в конце концов,
Чем прежде был… Глупец я из глупцов!
⟨…⟩
Вот почему я магии решил
Предаться: жду от духа слов и сил… ⟨…⟩
Фауст оглядывает свою комнату:
Ещё ль в тюрьме останусь я?
Нора проклятая моя!
Здесь солнца луч в цветном окне
Едва-едва заметен мне.
На полках книги по стенам
До сводов комнаты моей —
Они лежат и здесь и там,
Добыча пыли и червей,—
И полок ряд, убог и сир,
Хранит реторт и банок хлам
И инструменты по стенам.
Таков твой мир! И это мир!
(Оглядывая свою комнату, вижу то же самое. Пыльные книги до потолка, древности на полках. Некая тревога во мне поселилась года два тому назад, тревога и такое впечатление, что мне известно всё, а дальше? Дальше меня сдерживает моё человеческое. В 2007 году у меня случилось озарение о создании человека. Я написал «Ереси».)
Листая чёрные книги, Фауст вызывает Духа Земли. (Существует мнение, что реальный Фауст имел в собственности «Седьмую книгу Моисея» с нужными заклинаниями.)
Явись, явись мне — я всем сердцем твой!
Пусть я умру — явись передо мной!
Закрывает книгу и таинственно произносит заклинание. Вспыхивает красноватое пламя, в котором является Дух: «Ты звал меня?» Однако выясняется, что Дух Земли не тот, кто нужен Фаусту.
Ты близок лишь тому, кого ты постигаешь —
Не мне. (Дух исчезает.)
В дверь стучат. Появляется помощник Фауста — Вагнер в спальном колпаке и халате, с лампой в руках. Вагнер задуман как антипод Фауста — старательный тупица. Вероятно, прототипом послужил Лютер. Когда он уходит, Фауст предаётся отчаянью, следует второй прилив его отвращения к книгам, к жизни. Отчаяние тем более велико, что Дух Земли отверг его. Фауст размышляет о самоубийстве, и подносит к губам «кристальный фиал» с ядом.
Хмелён напиток мой, и тёмен зелья цвет:
Его сготовил я своей рукою,
Его избрал всем сердцем, всей душою.
В последний раз я пью и с чашей роковою
Приветствую тебя, невидимый рассвет!
(Подносит к губам бокал.)
Звон колоколов и хоровое пение.
Хор ангелов
Христос воскрес!
Тьмой окружённые.
Злом заражённые.
Мир вам, прощённые
Люди, с небес!
Фауст отказывается от своего намерения:
О нет! Не сделаю я рокового шага:
Воспоминанием все муки смягчены!
О звуки дивные, плывите надо мною!
Я слёзы лью, мирюсь я с жизнию земною!
(Звучат хоры учеников и ангелов.)
Я намеренно пересказал здесь, хотя и в телеграфном стиле, всю первую сцену трагедии. Первая сцена на самом деле установочная, она задаёт тон, она написана Гёте ранее других. «Пролог на небесах», связавший воедино основные темы трагедии, написан много позже. Внимательный читатель, наверное, улыбнётся тому, что старый учёный так легко склоняется к самоубийству и так же легко отказывается от него. Старые люди довольно редко кончают с собой, зато молодые вовсю, многие из вас хоть раз да предполагали своё самоубийство. Сцена объясняется просто. Гёте написал её в 1774 году, когда ему было двадцать пять лет. Он ненамеренно, но спроектировал на старого учёного себя самого, автора автобиографичной во многом книги «Страдания молодого Вертера», где главный герой кончает с собой. Над страданиями Вертера плакала вся Европа. Впоследствии старый Гёте, если и увидел погрешность и неправдоподобие нервной сцены, исправлять её не стал. Пожалел «лучших немецких стихов», или другие мотивы им руководили, мы никогда не узнаем.
Заинтересовавшись «Фаустом» и его отцом Гёте в возрасте Фауста, я нахожу в себе и своей творческой и личной биографии немало схожих черт, событий и книг. Гёте написал свой слезливый шедевр о самоубийстве от любви «Страдания молодого Вертера» в 1774 году, в возрасте двадцати пяти лет, я написал свой трогательный, мелодраматический шедевр «Это я, Эдичка» (заметьте, что оба названия включают необходимым элементом имена собственные антигероев) в 1976 году, через две сотни лет, точнее двести два года, и было мне лишь чуть больше чем Гёте: тридцать три года от роду. Вертер — свершившийся самоубийца, просто потому, что роман Гёте более роман, чем моя книга. Гёте выжил, но Вертер покончил с собой. Мой шедевр «Это я, Эдичка» менее роман, чем гётевский, посему выжил мой антигерой, так же как и автор.
Первый том «Фауста» создан к 1808 году и тогда же издан, Гёте было пятьдесят девять лет. Ничего удивительного нет в том, что по выходе из тюрьмы, мне было шестьдесят лет, я увяз в «Фаусте», почувствовал для себя необходимыми те категории, в которых Фауст появляется в первой части одноимённого труда. В 2007-м я создал «Ереси» — труд фаустианского характера. То есть тут я не отстал намного от Гёте, «Ереси» были изданы в 2008 году, ровно через двести лет после «Фауста».
Наши творческие порывы, Гёте и мои, бьются в унисон, таким образом, с дистанцией в двести лет.
Есть у нас и кардинальные различия. Гёте прожил жизнь министром и другом герцога Саксон-Веймарского, он (так же как и Гегель) смирился с политическим строем своей эпохи. Тут я противоположен Гёте, я не смирился, я не пошёл на службу к государству. Из чувства эстетической брезгливости, признаюсь. Королю бы, я бы, пожалуй, подумал, служить или не служить. Меня бы, как Гёте, возможно, соблазнил бы Бонапарт. Даже, кто знает, может быть, герцог Саксон-Веймарский. Но скушные тираны моей эпохи?! Немыслимо. Эстетически невозможно для меня работать с мелкими офицериками и адвокатишками моей эпохи. Это значит отказаться добровольно от своего величия. А для них немыслимо работать со мной.
Быть неталантливыми, банальными пучеглазыми тиранами, а именно такие сейчас у власти в моей стране,— это преступление против России. Неталантливый президент обрекает на скуку и тоску сто сорок миллионов людей. Талантливый и тем более гениальный президент придаёт яркий смысл жизням миллионов. Вождь задаёт смысл жизням, именно в этом его роль.
Я всегда обладал огромной творческой силой. Её хватало и на литературу, и на организацию политической партии, и на изложение моих социальных идей. Банальность, тупость и насилие встали на моём пути к завоеванию политической власти. К тому, чтобы из гениального провидца я превратился в делателя. Фаустовские деяния, подобные представленным Гёте во второй части гениальной книги, могут быть совершены, если будет когда-либо принят мой проект основания новой столицы России в Южной Сибири.
*
Сегодня никто не осмелится на такое наивное предприятие,— поставить на сцене борьбу человека с самим собой. Борьбу за преодоление человека. Во времена Гёте желающих взяться за такое дело было тоже немного, но больше. Только Гёте преуспел. Он нанизал слова за словами на свой сюжет (изложенный в «Прологе на небесах») монологи, смешивал с диалогами, песни с хорами, жанровые сцены с фантастическими. Он сумел метафизический сюжет воплотить в сценах мира физического.
Вторая сцена трагедии,— это пасхальные гулянья за городом, у городских ворот. Действующие лица, подающие реплики: подмастерья, служанки, студенты, горожане и горожанки, крестьяне, нищий, старуха-гадалка, солдаты. И Фауст с Вагнером. Беседуют меж собой и с крестьянами.
Фауст: Ты видишь — черный пёс по ниве рыщет?
Фауст (псу): Иди сюда! Ступай за нами вслед!
Сцена третья:
Кабинет Фауста. (Фауст входит с пуделем.)
Напиши сейчас такое даже самый известный писатель или философ, произведение будет подвергнуто осмеянию. Да и при жизни Гёте сюжет выглядел архаичным. Он закончил трагедию в 1831 году, а в 1859-м для сравнения, всего через двадцать восемь лет появилось «Происхождение видов» Дарвина, а через тридцать шесть в Гамбурге в 1867-м — первый том «Капитала». А тут сцена у городских ворот, простолюдины, изрекающие банальности о пиве, девушках и драках, и Фауст с Вагнером, два преподавателя с… пуделем. Пудель, подумать только, чёрный пудель! Пудель!
Вопреки неуклюжим сценам, наивным персонажам, вопреки всему — трагедия «Фауст»,— величайшее произведение, когда-либо написанное о высшем типе человека, о сверхчеловеке. То, что Гёте оперировал такими наивными условными моделями, позволяет запросто переводить их в зрительный ряд любой эпохи. «Фауст» — это притча.
Необычный сюжет позволил Гёте взять и необычный ракурс вИдения на человека и человечество, а именно — сверху, а именно — свысока. В этом взгляде сверху и свысока — одно из величайших достоинств трагедии. Уже в «Прологе на небесах» Мефистофель безапелляционно утверждает, обращаясь к Господу:
Мне нечего сказать о солнцах и мирах:
Я вижу лишь одни мученья человека.
Смешной божок земли, всегда во всех веках
Чудак такой же он, как был в начале века!
Ему немножко лучше бы жилось,
Когда б ему владеть не довелось
Тем отблеском божественного света,
Что разумом зовёт он, свойство это
Он на одно лишь смог употребить —
Чтоб из скотов — скотиной быть…
На что Господь, не оспаривая его утверждение, задаёт ему вопрос:
— Ты знаешь Фауста?
В данном случае Господь использует свой вопрос как аргумент. Дескать, да, человек смешной божок земли, но ты знаешь, мы с тобой знаем, есть вот Фауст, сверхчеловек. То есть все параметры заданы заранее. Да, смешное, жалкое человечество, но есть вот Фауст. Трагедия «Фауст» — кастовая книга, иерархическая книга. Она — не для всех. Потому большинству первых читателей «Фауста» нравилась первая часть, в неё Гёте включил отдельной темой душещипательную, вполне бюргерскую историю о соблазнённой и покинутой четырнадцатилетней Маргарите, Грэтхен, трудолюбивой и набожной. Убившей ребёнка и казнённой за это. (Нет, совсем не придумана была Гёте жестокая казнь Грэтхен. В годы детства Гёте в Германии женщинам ещё отрубали головы за детоубийство.) Вторая часть «Фауста» была принята холоднее, в ней нет бюргерской Истории и возлюбленной Фауста становится античная Елена Троянская. Да и вообще там происходят малопонятные даже просвещённому бюргеру события.
*
Следует сказать, что в юности Гёте бросил свою Грэтхен, дочь пастора Фредерику. Девушка очень его любила. Она не погибла, однако молодой Иоганн-Вольфгант доставил ей немало несчастий. У Гёте вообще был любвеобильный темперамент, и он страдал от любви в юности. В двадцать четыре года он расстаётся со своей Фредерикой (известной как Лотта в «Страданиях молодого Вертера»), хочет покончить с собой, но не делает этого. Затем у него долгий роман с фон Штейн. С этой дамой он расстаётся, когда ему тридцать семь лет. Это 1786 год. Он переживает, но уже думает о самоубийстве недолго. Оставив на время свои министерские обязанности в Веймаре, он отправляется в путешествие в Италию, на два года. Там у него историей зафиксированы несколько любовниц. Некая Фаустина, среди прочих. В возрасте семидесяти четырех лет Гёте влюбляется в девятнадцатилетнюю Ульрику фон Леветцов. Хочет на ней жениться, его друг и работодатель герцог Саксон-Веймарский отправляется в семью Леветцов просить для Гёте руки дочери. Ему не отказывают сразу, неудобно, ведь правящий герцог, но затем всё-таки отказывают. Близкие Гёте тоже против. В последний раз он видится с Ульрикой в Мариенбаде. Уже в экипаже он сочиняет стихи, отличающиеся необыкновенной для старика мощью и страстью.
«Художественные склонности, по всей видимости, не что иное, как вторичные половые признаки»,— предполагает некто Мёбиус, современник Гёте. Позднее эту догадку разовьёт Фрейд.
Одной из последних связных фраз, произнесённых Гете на смертном одре была следующая: «Посмотрите, какая прелестная женская головка в чёрных локонах на чёрном фоне». Через несколько вздохов Великий старец скончался. Вероятнее всего, он увидел перед последним вздохом Троянскую Елену, Грэтхен, ведь по традиции — German blond. А может быть, ему предстала такою смерть? Ведь она тоже дама.
В значительной степени «Фауст» — это метафизическая автобиография Гёте. Правда, плюс ещё многие неосуществившиеся желания и стремления. В последних сценах второй части Фауст возглавляет огромные работы по отвоёвыванию у океана болотистой затопляемой низменности. Министру копей и путей сообщения Веймарского правительства было не сложно писать о больших работах. Кто, как не сам Гёте в Германии его времени, заслуживал звания Сверхчеловека! Это общепризнанно великий человек, авторитет своего времени, «олимпиец». Он, выпутавшись из своих страстей, после путешествия в Италию, приближаясь к сорока годам, обрёл олимпийское спокойствие, невозмутимую детскую радость жизни. Одновременно с мудрым пониманием её ограничений приобрёл взгляд на человечество сверху, присущий только очень Великим людям. Обрёл высшую ментальность смертного Бога, Сверхчеловека. Само это слово, кстати, впервые употребляется в его современном смысле именно в «Фаусте» в 1-й сцене.
Дух Земли, после того как Фауст в страхе отпрянул от него, закричав: «Уйди, твой вид невыносим!» — отвечает Фаусту так
Дух:
Не ты ли сам желал с тоской упорной
Увидеть лик, услышать голос мой?
Склонился я на зов отважный твой —
И вот я здесь! Но что за страх позорный,
Сверхчеловек, тобою овладел?
. . . .
Фридрих Ницше лишь через полстолетия напишет «Так говорил Заратустра».
*
В начале XXI века я бродил по старым красным (!) полам, в них щели, и вата из щелей, рабочего дома в Сырах на Нижней Сыромятнической улице, построенного для социалистических пролетариев завода «Манометр» в 1924-м далёком году, и с наслаждением думал, думал, думал об Иоганне-Вольфганге Гёте. И о себе. Я — связанный лилипутами, бумажными офицеришками; Гёте — гигант, напрягающийся, чтобы разорвать путы. Так видел я себя.
Шаман и Венера
«И тут я встретил актрису, самую красивую в моей стране». Случилось это спокойным апрельским вечером,— было тепло, зелени ещё не было, но снег стаял, потому город выглядел голым. И выжидающим.
«Волгу» мы оставили на бульваре. Пересекли посыпанный песком голый двор. (Здание буквой «П», с большими окнами. Просторно. Пусто. Струйкой через двор текут ко входной двери гости.) Внутри также просторно, обширные помещения, стены увешаны картинами. Картины моего… другом назвать Вильяма было бы несправедливо, он один из действующих лиц моей жизни. И я его «описал», либо «изобразил» в одной из моих книг, а именно: «Укрощение тигра в Париже». Помимо картин, запах сигар, и подают коньяк. Поскольку устроители выставки — дистрибьюторы импортного коньяка и сигар в России.
Я нахожу действующее лицо моего парижского периода жизни. С него растут неимоверно крупные седые бакенбарды, на голове причудливая шляпа, бейсбольные полосатые брюки на нижней части тела, фрак на туловище, синий платок на шее.
— Здравствуйте, дорогой Эдуард!
— Здравствуйте, Вилли. Поздравляю с открытием выставки. (В Париже я с ним вначале дружил, потом не очень ладил.)
— Я думал, вы не придёте,— говорит он.
— Отчего же нет?
— Ну, у нас же были трения по Наташе…
— Причина трений уже два года как развеяна в виде золы — то есть первоэлемента в четырёх городах мира, смысла нет дуться.
— Вы правы, вы правы. Потому я и просил, чтоб вам переслали приглашение.
Охранники невозмутимо лицезреют экзотического художника. «Как скажете, босс!» — скажет Михаил, если задать ему вопрос, нравится ли им художник и его работы. А работы абстрактные.
Я оставляю Вилли исполнять его обязанности: пожимать руки пришедшим поздравить его с выставкой, а сам обхожу стены, вглядываясь в работы. Работы всё же менее экстравагантны, нежели их автор, рационалистичны, напоминают некие графики, либо амплитуды активностей.
Меня отвлекает от рассмотрения работ пухлый молодой человек, говорящий по-русски с акцентом. Я не успеваю понять, что ему надо от меня и кто он такой, потому что прямо на меня выходит Она. Она в хрупких очках с минимальной проволочной оправой, хрупкое личико красавицы собравшейся читать умную книгу, хрупкий торс-стебелёк во французском лёгком платье. На голове у неё шляпка.
— Здравствуйте,— говорю я, потому что ясно, что это Она и нужно поздороваться.— Я вас ждал.
— Здравствуйте!— Она улыбается самой ласковой, как потом выясняется, из всех её улыбок.
— Дайте мне руку,— говорю я, и она даёт мне руку, и я беру её.
Она улыбается.
— Я Катя,— говорит она.
— Я не могу вас отпустить теперь, а то вы уйдёте, Катя. Идёмте сядем куда-нибудь, мне нужно многое вам сказать.
Мы идём с ней в соседнее помещение. Там курят и пьют, сидя на кожаных лавках. Мы садимся.
— Что вы делаете в жизни, Катя?
— Я актриса. Я здесь случайно.
— А я пришёл потому, что я друг художника. У нас позади общая юность в Париже.
— А вы кто?— неожиданно спрашивает Она. Называю себя. Я привык, что все знают, кто я такой. Вот хорошо, что она не знает.
— В каких фильмах вы снимались?
— Только что прошёл сериал «КГБ в смокинге».
— КГБ? Так это же моя тема…
*
Так вот начинался наш большой роман с актрисой, приведший к рождению двух живых существ, а ангелы ли они, либо демоны, пока мне неведомо.
Там хорошо пахло, не то свечи горели, не то сигары так элегантно пахли. Там было тепло. Потому от первой встречи моей с ней навсегда теперь пахнет сигарами и коньяком, спонсоры-то выставки этими удовольствиями торговали.
Тоненькая, стебелёк, несколько безумноватая со своей тонкой красотой, она была, безусловно, подброшена мне свыше. Но мне нужно было уходить, у меня была встреча в ресторане, с человеком, через которого я надеялся получать помощь для своей политической организации. Я попросил у неё телефон, и в её сумочке, в ней она близоруко стала копаться, не было, не было ни клочка бумаги, лишь обёртка от прокладки. Смеясь, я предложил, чтобы она написала телефон на прокладке. Смеясь, она написала. Я удалился с охранниками. За нашими спинами началось шоу. Мастера российского перформанса приветствовали своего собрата парижского художника. Мастер перформанса Виноградов зажёг свой член, точнее член той металлической статуи-костюма, которую он надел на себя. Горящий член разбрасывал огонь вокруг. Мы удалились. Потом выяснилось, что был небольшой пожар, выгорел пол. Так что моя встреча с актрисой символически сопровождалась пожаром от огненного члена. Что хотите, то и думайте по этому поводу.
*
Во дворе было тихо и гулко. Собирался, кажется, дождь. Ещё не успело даже стемнеть, только потемнело. Природа притихла, как в экзистенциалистских фильмах в конце одного акта и перед началом следующего. Негромко кричали, укладываясь спать, птицы. Пахло влагой. Охранники молчали. Мы дошли до бульвара. Молча сели в «Волгу». Тронулись.
— Красивая девка,— сказал я.— Стервозная наверное?
— Да,— сказал старший Михаил.— Красивая. Такие вам нравятся…
Было непонятно, нравятся мне красивые или стервозные, либо в ансамбле… Второй охранник и водитель ничего не сказали…
*
Во вторую встречу она приехала в чёрном БМВ, и мы её встречали. Я приехал на огромном «Кадиллаке Девиль». Это происходило на тесной Покровке. И было опять связано с парижским художником Вильямом. Его галерейщик устроил для художника приём. Она приехала в узеньком, прямо-таки узюсеньком чёрном платье и на высоченных каблуках. И без очков. И была совсем не похожа на парижскую учительницу, какой предстала передо мной впервые… Была похожа на девушку-вамп. На связанную каким-то образом с вампирами.
(В этом месте автор остановился, горько вздохнул, во вздохе слышно глубочайшее сожаление. Поднял глаза от листа бумаги, устремил свой взор в окно, за которым осень, похожая ещё на лето, он сожалеет таким образом о тех, первых встречах с актрисой. Ведь таких встреч уже больше никогда не будет. Страшное слово «никогда», не правда ли?)
*
В тот вечер она показала ему свою чёрную, стервозную сторону. Она напилась и накурилась травы и бродила чёрной паутинкой в толпе, нависала над мужчинами и прилипала к ним в полупьяных беседах. А он, уже считавший её своею, ну хотя бы на основании того, что они, встретившись на улице, пришли вместе… Напрасно считал, стала доказывать ему своим поведением она. И блестяще доказала. Время от времени она всё же обнималась и целовалась с ним в разных углах и комнатах квартиры. И позволяла его рукам заползать куда ему хотелось. Он желал убраться вместе с нею с этого приёма, где было уже так много людей, что они затрудняли не только передвижение, но и жизнедеятельность друг другу. В туалет, к примеру, образовалась очередь. Он звал её к себе, но она упорно твердила, что сейчас поедет репетировать.
— Куда репетировать, как репетировать? Вы едва на ногах стоите, Катя!
— Я договорилась. Меня ждут музыканты. Я пою. Вы не знали?
— Но вы едва на ногах стоите и разговариваете нечётко.
— Я договорилась…
Красивой женщине идёт всё. Она была очаровательна в полупьяном состоянии, да и травы она выкурила немало, приложилась ко многим косякам. Но была очаровательна, жаль, что наши дети не смогут никогда увидеть свою маму такой, тогда ещё не маму, и ещё даже не мою девушку. В ней было всё: порок, лошадиная доза харизмы, шарм и грация молодой соблазнительной самки, чулки, ножки, повороты, злодейские и мистические выражения лица. Она превосходила в очаровании всех женщин Джеймса Бонда вместе взятых. В тот вечер я её возненавидел (мне пришлось таскаться за ней через толпу, следуя её капризам, хотя меня она и не звала; она как бы забыла обо мне) и влюбился в неё.
(Вот такая была ваша мама, детки. Ею можно гордиться. Это была её лучшая роль. Спросите её, она играла её для того, чтобы вы родились, Богдан и Александра?)
*
Последний свой удар она нанесла мне под самый занавес. Когда я предложил ей отвезти её (она совсем уже плохо разговаривала) на её репетицию, она сообщила, что она уже вызвала «Франца», он сядет за руль её «БМВ», «Франц» отвезёт её на репетицию. При этом она мило улыбалась, как чёрная кошка, которая только что тебя очень сильно оцарапала, но животное так грациозно, так красиво, что прощаешь царапины на щеке и шее, и только платком промокаешь кровь.
— Франц — это мой директор,— наконец объяснила она после мучительной паузы. Чего директор, кого директор? Она не сказала. Так же, как и в какую сторону директор…
Директор оказался типичным юным жиголо, с чёрными глазами, из тех, что всегда находятся на подхвате возле актрис, либо певиц, либо моделей. Высокий, сутуловатый, улыбчивый. Ясно, что такой человек беден, но жадно хочет денег и удовольствий. Когда мы сообща, я, мои охранники и Франц, стали спускать актрису по широкой лестнице, чтобы выйти на Покровку, оказалось, что она потеряла способность поворачивать. Два раза она едва не грохнулась, её спас Михаил.
На Покровке, я, очень злой, просто свирепый, силой запихал актрису в БМВ, «Франц» сел за руль. Но они ещё стояли. Наш грузный «jewish canoe», как называют кадиллак в Америке, уже тихо посапывал мотором, Стас уже вывел его из переулка. Я бросился на заднее сиденье.
— Езжай!— сказал я Стасу сквозь зубы. Я же, повторяю, был вне себя от ярости.
— Вы с ней не попрощались, босс! С девушкой.
— Обойдётся!
И мы отъехали.
Дома, у себя в Сырах я содрал с себя одежду, налил себе стакан вина, выпил, и лёг спать. Дав себе слово никогда больше не звонить этой стерве. Хватит в моей жизни стерв…
Разбудил меня звонок телефона.
— Мы репетируем,— прошептала она. Там, фоном к её шёпоту звучала нестройная хриплая музыка.
— Очень хорошо,— сказал я.— Отлично, репетируйте, репетируйте, ребята.— И выключил телефон.
*
А потом, мои детки, мои ангелы, мои демоны, я и ваша чудесная мама-кошка, мама-волк пошли в ресторан. Точнее это был private-club, и в нём ресторан. Кто кому позвонил? Кажется, это был я. Ваш отец. Я вспомнил её наутро и разволновался. А впрочем, это могла быть и ваша мама, если ей было нужно, она не раздумывала звонить первой.
*
Он сообщил, что ему сложно… я сообщил ей, что мне сложно выходить «out», моя широкая известность сплошь и рядом угрожает моей безопасности. Она сказала, что понимает мою ситуацию, есть одно место, private-club в центре Москвы, там бывают только свои, у неё есть клубная карта. Она сказала, что будет ждать меня там, назвала улицу, но не знала номер дома.
Мы несколько раз проехали мимо, по Леонтьевскому переулку, и нашли место, только руководствуясь её указаниями, данными по мобильному. В старом московском дворе за рулём чёрного BMW сидела девушка в чёрных очках и курила. Мы поздоровались, и она вышла из машины, и мы прошли в дверь, ведущую вниз. Обеспокоенные, но послушные охранники остались в кадиллаке.
В небольшом зале, куда нас провели, горел камин, и сидела ещё только одна пара. Едой не пахло, зато отлично пахло дымом сухих дров. Мы сели за ближайший к камину стол. Заведение называлось «Реставрация» и было вызывающе несовременным. Мне там понравилось, однако я испытывал лёгкое беспокойство, бросив взгляд на загадочные коридоры, куда удалилась официантка, приняв наш заказ. Дело в том, что в то самое время партия, мною возглавляемая, активизировалась в России до такой степени, что я заведомо стал врагом номер один в глазах государства. Сидеть в безлюдных катакомбах одному, такому человеку, как я, было и непривычно, и опрометчиво.
Но ваша мама, мои ангелы, конечно, стоила, не только простого страха, но и ужаса бы стоила. Красивая, тонкая и загадочная, она смотрела на меня и, видимо, уже выбрала меня. Возможно, она уже видела и вас, о, мои ангелы, обоих. Рождённых. И возможно, больше ничего она не видела.
Я ел свой стейк-тартар, каковой в этом безлюдном заведении на удивление имелся. Затем я заказал, из чувства хулиганства, устриц, каковые тоже там имелись (хотя, когда их подали, оказалось, что их мантия по краям чуть присохла, ну всего на миллиметр, но присохла к раковинам. Впрочем, я не отравился). Ваша мама заказала, кажется, салат-авокадо и какое-то простое мясо, и я было подумал о её предполагаемом здравомыслии. В соседней зале заиграли живую музыку, можно было различить пианино, и я предложил вашей маме союз. Нет, не руку и сердце, как в старые времена, но союз красивой женщины и прославленного мужчины. Она поглядела на меня своими крупными глазами над модным костюмом (впоследствии выяснилось, что вещи ей давали поносить из модного магазина) и лишь сказала вопросительно:
— Ну как же, мы ведь друг друга не знаем?
В этот момент в камине вспыхнуло яркое бревно.
Вероятнее всего, сердце вашей мамы было в тот вечер свободным, и она захотела попробовать, что у него, у её сердца, получится с этим нестандартным человеком. Немаловажной движущей пружиной поведения вашей мамы-актрисы, я в этом не сомневаюсь, служила также забота о её, актрисы, public image. Она ведь только что рассталась с мужем-кинопродюсером, находилась с ним в состоянии развода, и «свет» (общество, СМИ) должен был непременно узнать о её связи с мужчиной известным. Она не могла спуститься по иерархической лестнице вместе с каким-нибудь третьестепенным актёром. Вообще-то она, когда пришла на выставку парижского художника, где встретила меня, она пришла на ту выставку с целью познакомиться с неким олигархом, её обещала познакомить подруга. Олигарх не явился, но судьбою был подброшен я. Ваша мама, мои ангелы, обладала хорошими инстинктами, но ей никогда не хватало достаточно терпения в упорстве следовать своим инстинктам долго. Она резко останавливалась недалеко от результата, чтобы всё испортить. Потому она несчастлива в жизни…
Потом, мои ангелы, ваши папа и мама совершили то, что совершают мужчины и женщины, поскольку к этому их влечёт сама природа их существ. Её тонкое тело… нет, мои ангелы, в вашем возрасте рано читать неизбежно откровенную сцену, записанную смелой рукой вашего смелого отца, а когда вы вырастете, вам будет неловко читать эту же сцену, получится, что вы подглядываете в замочную скважину в спальню родителей. Потому я воздержусь от живописания.
*
И мы стали, как говорили когда-то в народе, том народе, которого уже нет в живых, мы стали с вашей мамой «женихаться». Вот передо мною на столе лежат два приглашения на фильм «Че Гевара: Дневники мотоциклиста», я специально их вынул заранее. Премьера состоялась 28 апреля 2005 года, то есть на тринадцатый день нашего с ней знакомства. Оба приглашения почему-то указывают 11 ряд и 4-е место. Как так получилось, навсегда останется загадкой. Довольно прямолинейный фильм режиссёра Уолтера Саллеса, где в главной роли снялся молодой красавчик актёр Берналь. Премьера имела место в кинотеатре «35 миллиметров», помню, что в фойе перед фильмом играл кубинский оркестр и угощали ромом. Юноша Че в фильме обнимался с прокажёнными.
А в другой раз мы с вашей мамой оказались в некоем большом и безвкусном клубе-сарае на Дмитровском шоссе на джазовой сессии, или «сэшэн», так следует, кажется, произносить, были туда приглашены, из известных нам с нею персон там оказался Дмитрий Дибров, телеведущий, вряд ли кто его сейчас помнит. Мы с вашей мамой очень напились, и вначале она, перепрыгнув через ограждение (там была низкая сцена, в форме круглой арены), вырвала у певицы микрофон, т.е. устроила скандал, запела. А затем мы с ней танцевали на этой же сцене и упали. Вставали мы смеясь, и к ужасу моих ребят, охранявших меня в тот вечер.
В довершение всего ваша мама, пьяная так, что плохо ходила, уселась за руль своего BMW, а я уселся с ней рядом. И мы на дикой скорости промчались через Москву и остановились у её дома. Представьте, с нами ничего не случилось, ни царапины! Через некоторое время подъехали мои охранники, очень злые. «Не делайте больше так, Эдуард Вениаминович,— сказал мне на следующий день Михаил.— Вы могли погибнуть, вы же не один, на вас ответственность, на вас партия!»
Я согласился, что Михаил прав. Но как я мог не сесть рядом с вашей мамой на пассажирское сиденье, когда она, глядя на меня снизу вверх с водительского сиденья прошептала: «Садись, поедем ко мне! Или слабо?!» Я сел, безрассудность свойственна мне в решающие моменты жизни. Но я до сих пор жив, видимо, меня любит Господин РОК, Госпожа Удача.
Потом она мне сказала, что лихому вождению её обучил однажды каскадёр, с которым она вместе снималась в фильме.
*
Распробовав друг друга, познав анатомии и физиологии друг друга, мы стали наслаждаться. Летом, в «Волге» («кадиллак» жрал неимоверно много бензина и потому больше стоял в гараже на Земляном Валу) мы поехали в город Ростов-на-Дону к человеку, купившему у меня киноправа на книгу «Последние дни Супермена», к Сергею М. Успешный бизнесмен, ростовский олигарх, как я его за глаза называл, был тогда владельцем сети аптек. Пару дней мы провели в окружении его многочисленной, богатой семьи, сидели за столами, ломящимися от еды, плавали в бассейне, а потом, отделившись, поехали к забетонированному Чёрному морю на территории Краснодарского края. Остановившись в отеле, ходили купаться в море, но ненадолго, основное же время делали то, чем занимаются все только что образовавшиеся пары: предавались making love. Помимо love, мы ещё во множестве употребляли местное вино и чачу. Маленький армянин, таскавший по пляжу чачу (под пирожками) в корзинке, задружил со мной, поскольку я стал его лучшим покупателем. Обедать мы ходили в ресторан отеля с толпой отдыхающих.
Мы неизбежно обгорели. Белокожий водитель Стас не обгорел даже, а сварился, и выглядел как переваренная сарделина, весь в волдырях. Через четверо суток мы убрались от изуродованного бетоном побережья, и «Волга» наша смотрела своим чёрным носом на север.
Непонятно было, понравилось вашей маме, о мои детки, времяпрепровождение на узкой полоске Черноморского побережья, или не понравилось. Меня то, что произошло с побережьем, удручало, мне было жалко мест моей юности, когда-то свирепых, красивых и буйных (это всё к югу от Туапсе), а сейчас разделённых между собственниками, забетонированных и еле дышащих. Но я был в компании любимой женщины, верных партийцев, и потому летний ветер, вдувавший в окна «Волги», мчавшейся на север, вдувал в меня бодрость, и жизнь была открыта, как только что начатая книга.
*
Наши встречи некоторое время происходили в Сырах, чтобы затем, уже летом, переместиться в богатую буржуазную квартиру на Космодамианской набережной (две спальни, два туалета, гостиная, зеркала, видеонаблюдение за входной дверью и лифтом). Сыры она восприняла романтически и таинственно появлялась на BMW ночами, после спектаклей, с цветами, в тёмных очках, с бутылкой вина и травой. Квартиру на Космодамианской она восприняла как должное, с удовлетворением. Постепенно определился характер наших отношений. Она, по-видимому, восприняла их как отношения странного мудреца и красавицы. Найдя у меня в Сырах солидный том Хлебникова, она попросила меня почитать ей. Я открыл любимую мною поэму «Шаман и Венера»:
Шамана встреча и Венеры
Была прекрасна и ясна,
Она вошла во глубь пещеры
Порывом радости. Весна…
— Напрасно вы сели на обрубок,
Он колок и исцарапает вас,
Берёт со стола красивый кубок,
И пьёт, задумчив, русский квас…
Она забрала том себе, и он до сих пор стоит у неё на книжной полке в коридоре. Когда вы, маленькие демоны, вырастете, прочтите обязательно, эту великолепную, лёгкую, остроумную поэму, и вы получите полное представление о том, как ваша мама видела нас тогда, когда она меня любила. (И не называла ещё пренебрежительно «донором», хотя и «отличным».) Она не раз просила меня впоследствии читать ей строки из «Шамана и Венеры». Ваша мама не литературный человек вовсе, книги и стихи для неё мало что значат, видимо, она прочла поэму как сценарий, и как близкий ей, объясняющий наши отношения сценарий, он ей подошёл.
Как я, Шаман, видел наши отношения? Как сеансы идолопоклонничества, иначе назвать мои встречи с ней не могу. В ту пору она писала песни и пела, иногда я помогал ей с её текстами. Встречи происходили так. Я встречал её со спектаклей в театре им. Станиславского, что на Тверской. «Волга» наша обыкновенно таинственно ждала её в ближайшем переулке. И мы перезванивались. В конце концов она появлялась с букетами цветов, и мы ехали ко мне на Космодамианскую, иногда к ней, там она жила с тринадцатилетней дочкой Валерией. Мы открывали бутылку вина, она вставляла в компьютер диск со своими, находящимися в работе песнями, и слушала. И подпевала, и курила траву, и вновь слушала. Я в это время готовил салат и мясо, привычно и просто. У неё места в кухне было немного, мы туда прятались от её дочери. В квартире на Космодамианской места было довольно, однако она начинала вечер, нависая над открытым чемоданчиком со светящейся фотографией «Битлз» (модный радиоприёмник и диско-плеер), и по окончании обеда вновь нависала, слушая свою музыку десятки раз. Так мы и оставались на кухне. Я почтительно мирился с этими сеансами самообожания. В том, что это были сеансы самообожания, я не сомневался тогда, не сомневаюсь и сейчас, невзирая на то, что она уверяла меня, что таким образом она «работает» над музыкой. Десятки раз! Она прерывалась лишь на то, чтобы изготовить, смешав траву с табаком, очередной, как говорят в Москве, «косяк». Один лишь раз, в самом начале знакомства, ещё в Сырах, я было почитал ей свои новые стихи, но встретив её чистосердечное равнодушие, больше я ей стихов не читал. Уверен, что вашей маме недоступно наслаждение поэзией, поэзия её никак не задевает. Да и вообще литература — не её чашка чая. Если она и прочла (в чём я не уверен) когда-либо пару модных книг, то только потому, что они модные, а не потому, что книги. К моменту знакомства со мной она была знакома с писателем Сорокиным, её познакомил с ним её режиссёр. Я полагаю, что модный Сорокин был назван ею мне в доказательство её, актрисы, модности, то есть современности.
Итак, типичный вечер. Она курит траву, слушает, нависая над «Битлз»-чемоданчиком, свои песни, мы едим, разговариваем и слушаем её песни, пьём вино. После этого я, наконец, о мои демоны, хочу уже дорваться до тела ещё не вашей мамы, но моей девушки…
— Пойдём, пойдём в постель!— бормочу я.
Она любит меня, она называет меня «дьявол», я занимаюсь с ней любовью долго и сильно (признаюсь вам, мои демоны, нескромно признаюсь), но ей хочется продлить сеанс самообожания.
— Подожди немного,— шепчет она и в пятнадцатый или двадцатый раз прослушивает свои новые песни, а потом прослушивает и те, что записаны месяц назад и два. Когда я всё же утаскиваю её в постель, все окна в домах напротив уже черны. Все угомонились. И только тогда я наконец получаю то, что хотел,— её тело. Засыпаем мы часто под утро. Спать долго ни я, ни она не умеем. К тому же она страстно желает забеременеть. По странному капризу моего организма утро для меня наилучшее время для… сейчас подыщу приличное слово… семяизвержения. В феврале 2006 года там, в квартире на Космодамианской, в дальней спальне мы сделали тебя, Богдан. И мы узнали об этом в марте. Я был счастлив.
Далее её организм начал перестраиваться на ребёнка. Уже с мая месяца я был нужен ей менее всего как любовник, но всё более как объект либо приязни, либо неприязни беременной женщины. Опыта общения с беременными женщинами у меня не было, и я неизбежно огорчался там, где всего лишь следовало понимать.
— Я хочу селёдки, селёдки! Что ты сидишь?!
Я бежал за селёдкой, и перед моим изумлённым взором самка человека проглатывала, громко жуя и урча, целые тушки сельди одну за другой. Если мы везли её в «Волге», я и мои мужики-охранники, она обвиняла нас в отвратительном запахе и рвалась открыть окно, хотя мы источали не более чем обычный мужской дух, табака, сапожного гуталина, одеколонов, дезодорантов и, может быть, перегара.
Тогда же, в мае, мой бенефактор (т. е. благодетель) взялся продавать квартиру на Космодамианской, и я перевёз накопившиеся книги, рукописи и личные вещи в Сыры (среди прочего — несколько глав книги «Ереси»), вытеснив оттуда живших там в моё отсутствие охранников. Однако большую часть времени мне пришлось всё же проводить теперь у беременной моей подруги. Я с изумлением приглядывался к её новому, куда более обширному телу, старался не раздражаться и не обижаться. О чём меня иногда просила и она — женщина, носившая в себе мой плод. В её квартире места было неизмеримо меньше, чем на Космодамианской, отсутствовала гостиная с зеркалами и присутствовала дочь актрисы уже четырнадцати лет. В квартире был небольшой стол, у дочери, и кухонный стол. Писать писателю было негде. Политик же уезжал в автомобиле с охранниками по своим политическим делам, сидел в пробках и в судах, ругался, спешил. В августе я настоял на заключении брака. С уже обильно животастой актрисой мы пошли в ЗАГС и оформили брак. У меня осталось от того дня совершенно чёткое ощущение, что она не очень-то и хотела брака. Впоследствии, о, мои ангелы, детки мои, я вынужден был убедиться, что я не ошибся в ЗАГСе, бросая на неё косые взоры. Она не очень-то хотела мужа, мужчину в доме. И ещё я понял там, в ЗАГСе, что мы перестали быть Шаманом и Венерой…
*
В те месяцы её беременности, размышляя о ней, о себе и о наших отношениях, я написал вот такую статью для одного, ныне уже не существующего журнала.
Теория преодоления космического одиночества
Учителя в старших классах школ объясняли нам необходимость физической близости между мужчиной и женщиной исключительно инстинктом продолжения рода.
Инстинкт продолжения рода существует, я не отрицаю его, однако я утверждаю, что этот инстинкт просто пристроился к другому, куда более мощному. А именно — к инстинкту преодоления космического одиночества человека. Удовольствие от love making, от «секса», как сейчас вульгарно называют мистический процесс соединения мужчины и женщины, происходит от акта преодоления космического одиночества, от соединения с другим существом. Для простого размножения чудовищно интенсивное удовольствие от love making вовсе не необходимо.
Удовольствие — следствие преодоления космического одиночества. Переводя совокупление в план бытовой, мы, как мужчины, так и женщины, вовсе не обязаны быть очарованы партнёром, вовсе не обязательно, чтобы он нам нравился. Чтобы подходил интеллектуально или физически, был бы одного с нами уровня культуры или физического развития.
Космическое одиночество преодолевается и с неприятным партнёром. И в случае насилия, преодолевается. Преодолевать космическое одиночество необходимо довольно часто, без этого человек вянет и хворает. Соединяясь с другим существом, он (она) заряжает свой жизненный аккумулятор. Древние китайцы определяли совокупление как обмен энергиями «Инь» и «Янь» — мужской и женской. Но древние китайцы ошибались в определении этих энергий как мужской и женской. Гомосексуальная связь, между тем, гомосексуальный love making, также является преодолением космического одиночества и принципиально не отличается от варианта: женщина-мужчина.
Обыватель,— убогое существо, обыкновенно сально вышучивает соединение двух, love making, даже традиционное «женщина-мужчина», не говоря уже о гомосексуальном. Между тем, это соединение — основная мистерия жизни, преодоление космического одиночества.
Некоторые детали:
И мудрые древние, и современные исследователи давно заметили связь между love making и продолжительностью жизни. Много love making способствует долголетию. Мало love making иссушает человека, поскольку он не заряжает свой жизненный аккумулятор достаточно часто. Не спариваясь, он изолирован, он одинокая капля бытия, и только.
Love making — единственная данная человеку возможность преодолеть свою трагическую заброшенность во Вселенной, предки наши называли его медленно — соитие. Именно «соитие» — встреча двух существ, уничтожающая одиночество, когда они на недолгое время, на мгновения, но сливаются в одно целое. Над ними — Бездна Хаоса, толщи световых лет, отделяющие землю от других планет, над ними,— чужое страшное пространство. Ведь человек мягок, тёпл и беззащитен среди свиста проносящихся железокаменных планет, раскалённых метеоритов, планет из вязкого метана и лавы, и он объят ужасом. И вот они встретились. Даже если интеллектуально оба не понимают, что происходит (интересно, что у посредственных особей после love making наступает опустошение, а у избранных — ликующий подъём и прилив сил). Они испытывают на самом деле ужасающее счастье победы над Космическим проклятьем одиночества.
А размножение — это отдельно. И не суть важно. И если не размножился ты лично, то размножаются и размножатся другие особи.
Ребёнок — мальчик
Она, видимо, судорожно хотела ребёнка. Мне, мужчине, этого не понять, не стану даже и пытаться. Где-то за год до встречи со мной, у неё была беременность от мужа-продюсера, однако беременность сорвалась. Дело в том, что ваша мама, детки, тогда ещё, впрочем, не мама, жена продюсера, актриса, прыгнула на съёмках с большой высоты, и потом слегла в Чехии в больницу. И чуть там не погибла, потому что была уже сильно беременна, когда прыгала, и аборт было делать рискованно. Она лежала в чешской больнице и умирала (так она мне поведала), но не умерла, и плод как-то из неё вытащили, неживой, правда.
Наш с нею общий плод вёл себя молодцом. Я регулярно возил мою жену в женскую консультацию, располагавшуюся за зданием Верховного суда (ехать надо было с Поварской), рядом с «Домом книги» на Арбате. Там её обследовали. В том числе и заглядывали ей в живот с помощью УЗИ. Я поджидал её обыкновенно в машине с охранниками, мы часами скучали, я оставлял все свои дела, это был мой долг, ждать мою жену с моим ребёнком в животе. Было лето. Однажды и меня пригласили поглядеть на моего ребёнка, глубоко в животе у матери. Я увидел на экране личико, закрытые глазки, ушки, и докторша обратила моё внимание на его яички. Мальчик! Это был ты, Богдан! С перепугу я поцеловал докторше руку и поблагодарил за доступ к тебе, Боги! Надо было поцеловать руку твоей маме, Богдан! Я не догадался.
Рожать она решила в обыкновенном советском, российском роддоме у метро «Планерная», куда её направила профессорша из консультации. Я был удивлён вдруг проявившимся у моей жены здравым смыслом. Я был готов к капризному её решению, был готов к рожанию в Берлине и в любой из европейских столиц, на том лишь основании, что ей посоветовала там рожать очередная подруга. Вероятнее всего, её покорила и убедила своим авторитетом профессорша из консультации. Мы съездили в роддом № 1 (советское прямоугольное, с виду неприятное, однако просторное здание, в глубине парка, старомодные, как потом оказалось, с допотопным оборудованием, палаты), там её приняли узнавшие актрису радушные и сердобольные русские тётки, посмотрели доктора, и не вернули её домой, как мы рассчитывали, но оставили под наблюдением. Поскольку ведь у неё год назад был выкидыш.
Мои эти рассказы, могли бы прозвучать и от простого русского мужика, из его пьяного или обкуренного рта, у всех очень часто оказываются перед глазами эти личные истории. Моя история лишь более интересна, может быть, потому, что я взял себе за труд записать её, да ещё потому, что я наблюдательнее простого русского мужика, я,— непростой русский мужик… Так вот её оставили понаблюдать, и уже на следующий день я явился навестить её. Меня пустили, заставив надеть на туфли синие пластиковые пакеты, халат и шапочку. В таком нелепом виде, с большой плиткой шоколада в руке и парой книг ей для чтения я вошёл к ней в палату. Её поместили в двухместную палату одну, из уважения, очевидно, к тому, что она актриса.
— Шоколад мне нельзя,— засмеялась она.— Тебе придётся купить и передать мне еду. Потом,— прибавила она, видимо, на моём лице появилось скушное выражение: — Посиди со мной.
Я посидел. Настроение у неё было хорошее. Мы держали друг друга за руки, мужчина и женщина, у которых вот-вот появится ребёнок — мальчик. В подобной ситуации я находился первый раз в жизни. Меня смущала её деформированная плодом фигура, упростившиеся черты лица, но так нужно, сказал я себе. Говорили мы о каких-то пустяках, о том, что наш ребёнок поворачивается у неё в животе, что он хочет родиться.
— Ему не терпится,— сказала актриса улыбаясь.
— Потому, что не знает, куда торопится,— сказал я с несвойственной мне интонацией пессимизма. Точнее нет, это была холодная струйка реализма, как раз свойственная мне. Она сказала, что вчера у неё взяли все возможные анализы и что чувствует она себя хорошо. Что тут скушно, но она ходит в соседние палаты поболтать к «девкам». Потом мы записали на листке бумаги, что ей нужно купить. Видимо, по ходу составления списка я задавал ей глупые вопросы, и она спросила меня:
— Ты что, никогда не лежал в советской больнице?
Я сказал, что лежал в советской больнице больше сорока лет назад, в психушке на Сабуровой даче в Харькове, но успел забыть всё.
— Ну да, ты бы не пришёл с плиткой шоколада,— прыснула она.
— А что?— не понял я.
— Тут мужья привозят целые тонны продуктов,— пояснила она.
*
Я попрощался, вышел, и мы с охранниками довольно долго ездили по окрестным магазинам, пока не выполнили весь список. Вернулись в роддом. Жареную курицу целиком у нас принимать отказались. Не долго думая, я разорвал её руками на части. В таком виде приняли. И понесли ей. В вестибюле стоял забытый мною за сорок лет запах советской больницы.
Впоследствии, мы уже не жили вместе, она высмеет этот мой визит к ней с плиткой шоколада и прибавит, что «девки из соседней палаты» смеялись: «плиточку шоколада он ей принёс». Высмеет в многочисленных интервью. Защищу себя тем, что скажу: в этой ситуации я повёл себя как солдат, уверенный, что в казарме тебя накормят как-нибудь. Они же, опытные и изощренные, лежавшие в советских больницах, имеют не солдатскую ментальность.
Актриса полежала около недели, и её выписали, найдя, что у неё всё в порядке. Можно было и дальше лежать «на сохранении», как они это называли, но ей было дико скушно. Я приехал на кадиллаке, в ту пору у меня ещё был кадиллак, и мы отвезли мою жену домой, в привычную ей обстановку. Была середина октября, и уже подмораживало.
*
Ближе к родам она успокоилась. Ходила себе по маленькой квартире, поддерживая живот, разговаривала по телефону с подругами, с аппетитом ела. Я считал, что мне разумнее будет находиться с нею рядом, вдруг что… Вдруг её нужно будет немедленно везти в роддом. Она же усылала меня восвояси, в мои Сыры, поскольку я раздражал её своими движениями, издаваемыми звуками и запахом. Беременные, как известно, чувствительны к запахам. Нельзя сказать, что я очень печалился оттого, что был сослан в Сыры, за последние годы я полюбил одиночество пуще прежнего. Это фольклорное выражение «пуще прежнего» как нельзя лучше объясняет мои отношения с одиночеством, я любил одиночество всегда, но после тюрьмы возлюбил его крепче. В тюрьме ведь ты не бываешь один, круглые сутки окружён людьми, только сон и спасает. А секса с беременной у меня уже не было. Ведь я воспылал страстью к женщине-паутинке, а передо мной бродила теперь спелая самка с животом-барабаном…
Мы решили, что я отвезу её в роддом 7 ноября, пусть её посмотрят. Почему вылезло это седьмое ноября, я уже чётко не помню. Кажется, я не мог раньше, или её что-то задерживало. 7 ноября был холодный день, помню замёрзшие лужи. Кадиллак тепло пофыркивал, за рулём сидел парень из Иркутска — Максим Калашников в волчьем пальто и рысьей шапке. Приехали, сели в приёмной. Беременная стала разговаривать с подругой, потому что была очередь, состоящая из таких же, как мы, пар,— мужчина и жена с животом. Ещё мужчина,— и жена с животом. Один будущий отец был кавказец, среднего возраста, а его беременная — рыжая неказистая женщина. Кавказец всё время говорил по телефону. Беременная моя актриса также всё время говорила по телефону сладкой, невыразительной, скорее скушной скороговоркой. Вот что она говорила:
— Я не знаю, зачем я сюда поехала. Я думаю, рожу не раньше, чем через неделю. Муж настоял, говорит, давай тебя посмотрят… Ну сейчас посмотрят, и уедем… Нет, что ты, никаких приступов…
Моя служба безопасности, счастливцы, хотя бы выходили гулять по двору, дышать морозным воздухом, в то время как я вынужден был сидеть и наблюдать беременных. Может быть, я даже вздохнул пару раз, помимо воли, потому что отвлёкшись от телефона, жена сказала мне: «Что, скушно?.. И зачем нас сюда принесло…»
Через часа два только её назвали. Она взяла сумку, где были халат и тапочки, и ушла в дверь приёмной. Через некоторое время вышла в халате и тапочках и передала мне сумку, в которой лежала её одежда. Таков у них там порядок, в роддоме. Она наказала мне быть на телефоне, как только её посмотрят, мы должны были забрать её домой…
*
Освободившись от беременной, облегчённо вздохнув, мы рванули по своим мужским делам. В те годы мы ещё дружили и с коммунистами, хотя уже начали дружить с либералами. Потому мы отправились на митинг у памятника Карлу Марксу. Знамёна, снег, зычный уверенный голос Зюганова, повторяющего из года в год одно и то же.
Вернулись мы в мою квартиру в Сырах около семи вечера. Жена не звонила мне из роддома, я набрал её несколько раз и, не получив ответа, не обеспокоился вовсе. Я разумно предположил, что её обследуют, или она сидит и ждёт, когда её обследуют, чтобы определить, оставить ли её рожать, или же отпустить.
Где-то в половине седьмого старший охранник Михаил признался нам, что у него день рождения. Потому мы купили бутылку водки и сели на кухне. Мы успели выпить по две рюмки, когда раздался звонок телефона.
Моя жена, а это была она, сказала непростым, но весёлым голосом:
— Поздравляю тебя, Эдуард, у тебя сын родился! Ты можешь приехать и увидеть его, я договорилась с персоналом, что они тебя пустят. Обычным мужьям разрешают только через пару суток, а нам сказали можно, из уважения к тебе и ко мне. Так что, приезжай!
Я вышел на кухню и сказал, что у меня сын родился. Охранники вскочили и стали поздравлять меня и кричать. Потом мы влезли в кадиллак и помчались в роддом. Через пробки помчались. По дороге мы купили бутылку коньяка, я выпил всю бутылку один. Я ведь был отец, а парни должны были меня защищать.
Меня, пьяного отца, пустили к жене. Она сидела, весёлая, уменьшившаяся в размерах, одна в палате с двумя койками. Мы поцеловались.
— А где он?— я поискал глазами по палате, словно она его спрятала.
— Сейчас его обмоют и вынесут к тебе.
Вошла сестра или доктор, скорее доктор, чем сестра. Женщина, на мой пьяный взгляд, была внушительнее медсестры.
— Зачем же вы сюда?!— укорила меня доктор.— Сюда нельзя, на вас бактерий полно с улицы, уходите, уходите!
— Нам обещали, что отец сможет посмотреть ребёнка,— сказала жена.
— Нельзя, нельзя!— воскликнула доктор и замахала на меня руками как на собаку, или птицу, явившуюся непрошенной куда нельзя.
Мы встали. Что тут было делать. Но в коридоре мы наткнулись как раз на сестру, несущую мне показать сына.
Сын был упакован в конверт из белья. Было видно лишь его чуть зеленоватенькое личико. На первый взгляд, он выглядел как китаец. Глазки у него были закрыты.
— На Мао Цзэдуна похож,— сказал я.
Сын мой открыл один глаз, посмотрел на меня этим глазом Вселенной и закрыл его. Такая глубокая тайна миров, откуда он пришёл, была в его таинственном оке, где ещё не разделились зрачок и остальное глазное яблоко, что я даже протрезвел на мгновение. Мне стало не по себе. Ибо это бездна Хаоса взглянула на меня в его око.
Даже доктор улыбалась. Впоследствии жена рассказывала, что вид у меня был очень пьяный, одна зелёная бахила полусвалилась с ноги. Но я помню всё.
— А почему он такой зелёненький?— спросил я.
— Немножко воздуху не хватило, когда из мамы вылезал,— улыбнулась доктор.
В это самое время снаружи послышались выстрелы.— Баф! Баф! Баф!— Я понял, что это большой Илюха изводит всю обойму патронов, салютуя рождению моего сына.
Доктор и сестра прореагировали достойно.
— Ваши?— спросила доктор.
— Мои, мои.
— Ну вы идите,— сказала доктор.— Потом насмотритесь.
Моего сына, которому было всего несколько часов от роду, уже уносили от меня по коридору.
*
У нас всё было заранее закуплено. Потому, когда я забрал из роддома (встречали: десяток журналистов, я с цветами, старшая дочь, журнал «Хэлло!» снимает эксклюзивный фоторепортаж) жену и ребёнка в кадиллаке домой, было куда его положить. В уютную кроватку. Поскольку, по семейному преданию, первым моим ложем был ящик для снарядов, я с особенным интересом смотрел, как мой сын лежит там в большом пространстве, мне подумалось, что в этой клетке ему неуютно. Я допустил мысль, что мне в моём ящике было удобнее. В его кроватке повсюду дуло, а в моём ящике были стены из свежих русских досок, в его кроватке вместо стен — деревянные прутья. Финские.
Он много спал и первые недели доставлял хлопоты только матери, поскольку каждые несколько часов его нужно было кормить. Его кроватка стояла рядом с нашей кроватью, и жена быстро вскакивала ночью, из окон комнату освещали уличные фонари, и, бормоча ласковые слова, давала ему грудь. И он там чмокал. Я оставался в постели, хотя и неизменно просыпался от каждого его писка.
Мне, привыкшему описывать необыкновенные истории и стра-а-шные приключения, даже как-то неловко представлять все эти семейные банальности. О том, как вёл себя выброшенный к нам в мир мокрый комочек Вселенной, которому мы в конце концов дали имя — Богдан, о чём в книге записей актов гражданского состояния есть запись.
*
Ну и потянулись ночи, переходившие в дни, и дни, переходившие в ночи. Он сосал молоко из мамки и писал, и какал в подгузники или как они там называются, я уже и забыл. Увидев как-то, что я взял подгузник с дерьмом с полу двумя пальцами, его мать озлилась.
— Это твой сын!— прорычала она,— а ты берёшь с таким отвращением!
Я, если не ошибаюсь, что-то пролепетал, что если можно не хватать дерьмо моего сына всей ладонью, то лучше не хватать его всей ладонью. Но прозвучал я неубедительно. Для себя я отметил, что она рычит на меня впервые, и внутренне признал свою некоторую холодность. В холодности и отдалённости меня не раз упрекала и моя мать, так что это, пожалуй, правда. Я не совсем человек.
По мере крепчания его организма сын мой становился всё более энергичным. Он ел всё больше, и делал это много раз за ночь. Я, выработавший на войнах и в тюрьме чуткий сон, всегда просыпался вместе с ним и с женой. И это было изнурительно. Потому что у меня, как раз невовремя, обострилась астма. Я просыпался от сына и не мог заснуть от астмы. Я так кашлял, что моя жена поверила в то, что у меня туберкулёз. И очень настойчиво убеждала меня отправиться на рентген: «Ты заразишь мне ребёнка!»
Вместе с экипажем ребят-нацболов, охранявших мою жизнь, мы прошли рентген. Доктор-рентгенолог средних лет принял нас пятерых, и мы только отблагодарили его недорогой бутылкой коньяка. Дело происходило в неуютной больнице на окраине. Туберкулёза у меня не обнаружили, и лёгкие мои на снимке выглядели красивыми и воздушными. Я, однако, невзирая на чудесный вид моих лёгких, почти не спал из-за моего ребёнка. Его мать скептически поглядывала на меня, неловко держащего дитя в руках, как маленькую мумию. Ясно было, что опыта общения с младенцами у меня не было, за что же смотреть на меня со скептическим презрением?
Мыть ему задницу я научился легко. Некоторые проблемы были у меня некоторое время с креплением на нём чистых подгузников, но я освоил и это нехитрое искусство. Говорят, сейчас даже пигмеи в лесах Африки пользуются подгузниками, а тут человек с интеллектом высшего типа, так определили мой интеллект в 2001 году в институте имени Сербского.
Я обычно уезжал к середине дня по своим политическим делам. То был год коалиции с Каспаровым и Касьяновым. 14 декабря этого года (2006-го) мы заявили на Триумфальной площади митинг и шествие. Шествия (мы называли его «марш несогласных») нам не разрешили, а вот митинг мы провели. (Провели, впрочем, и часть шествия, уйдя по 1-й Брестской улице, я взял Каспарова и Касьянова под руки, и мы пошли, а за нами повалили граждане, на гражданах висели милиционеры!) С того митинга сохранилась выразительная фотография, получившаяся совершенно случайно: три лидера у микрофона: слева направо: я, Каспаров и Касьянов. Так бы нам и оставаться в союзе, стране такой союз был необходим, но «два Ка», как я их стал называть, успешно рассорились друг с другом уже через полгода. Но тогда, в период с лета 2006-го по лето 2007-го наша совместная политическая жизнь была интенсивной.
Я уезжал, возвращался вечером, заезжал на Православный рынок на Краснопролетарской улице, покупал там мясо, зелень и фрукты, и явившись в дом, готовил ужин, он же и обед. Примерный муж Эдуард, на которого я гляжу из настоящего в прошлое с чувством снисхождения и превосходства. Судьба моя была другая, вот в чем дело, а уж если у тебя есть ярко выраженная судьба, карма, то ты хоть железной волей обладай, невидимый компас всё равно развернёт тебя на твою дорогу.
Домик-флигель, такой уютненький сарайчик, слепленный работниками местного ЖЭКа для себя, стоял, солнечный и тёплый, в зимнем солнце и непогоде. Квартира моей жены, маленькая, но уютная, где раньше жили одинокая актриса и её дочь, теперь была местом обитания четверых, прибавились мужчины: я и мой сын. Возникло «гендерное», как сейчас говорят, равновесие. Я каждый раз, если задумывался о своей жизни в целом, говорил себе, что вот теперь я живу «правильно».
У неё появилась неудобная традиция — брать его перед рассветом к нам в постель. Потому что он просыпался, и уже не для того, чтобы поесть и опять погрузиться в бессознательный сон. Нет, теперь он просыпался от избытка сил, ему хотелось двигаться и жить. А нам хотелось спать. Жена брала его и клала между нами. В темноте он посапывал и вдруг ударял меня головой в висок или в затылок со страшной силой, как будто бы неприемлемой для несколько-килограммового младенца. У меня искры из глаз летели. Но я молчал, зная, что она обидится даже на тембр моего голоса, даже на резкое движение. Впоследствии она всё равно предъявит мне обвинения в том, что я «раздражался», когда сын ударял меня головой и ползал по нам, не давая смежить веки. Видимо, моё раздражение выдавала спина.
Я думаю, она скорее догадывалась о моём «раздражении», ибо скрывать раздражение я научился, пройдя через тюрьмы, там ты не можешь показывать своё раздражение, лучше этого не делать.
Новый год мы встретили красиво, я весь остаток жизни буду помнить тот уют и то правильное, простое человеческое счастье, которое у нас получилось. У армянина Гарика — оптового поставщика продуктов для ресторанов из Франции (с его женой моя жена познакомилась в парке, обе выгуливали младенцев в колясках) — мы закупили недорогого, но хорошего французского шампанского и вина, а также разделили с ними напополам короб устриц. Моя жена нафаршировала яблоками утку, а я зашил утку чёрными нитками.
В доме пахло жареной уткой, младенец попискивал время от времени, я ловко открывал специальным ножом устрицы, преодолевая их сопротивление, шампанское чуть зелёное в зелёных простых бутылках. Я был счастлив, счастлив, счастлив. Настоящая полноценная сказка творилась вокруг. Я написал в тот же вечер чудесное стихотворение, в ту же ночь написал. Необыкновенно счастливое, сейчас-сейчас, вот оно:
Дом
Кричит младенец, снег идёт,
Пирог в печи растёт.
Повидлом пахнет и мукой,
Здесь дом заведомо не мой,
Но я в нём всё же свой…
Глава семьи я сед и прям,
Я прожил много зим…
Мой сын — Давид, жена — Марьям,
Давид — как херувим,
Давиду старшая сестра —
Ты юная Сара!
Так можно довести до слёз!
А за окном — мороз…
Мы Новый год и Старый год
Руками разведём.
Под ёлкой будет хоровод,
Сыграем и споём,
Подарки подберём…
Глинтвейн, портвейн, весёлый шнапс,
Шампанское в соку.
Английский пенс, французский шанс
И Саре и сынку,—
Ребёнку по чулку!
В хлеву жуёт спокойный вол,
Идёт спокойный снег…
Я очень долго к Дому брёл,
И сотни пересёк я рек,
Но я семью обрёл…
31 декабря 2006 года
Смешав библейские и английские мотивы (форма стихотворения,— вы поняли,— баллада), мне удалось, я полагаю, выразить настроение праздничного счастья. Достичь его мне привелось уже в таком возрасте, когда обычные люди увядают или увяли. Суровый и одинокий, прошедший множество жизненных испытаний, я вдруг оказался с семьёй. Помню, что во время моих нью-йоркских бедных скитаний я беспочвенно мечтал, что когда-нибудь разбогатев, стану платить актёрам, чтобы они играли мою семью: у меня будут седые отец и мать, будет красавица жена и дети. По всей вероятности, я и тогда уже не надеялся, что у меня может быть простое человеческое счастье. Даже такой отпетый одиночка, как я, такой застарелый циник и мизантроп, видите, может быть неуместно сентиментальным. На что ты надеялся, седой глупец?— спрашиваю я себя сегодня. Ведь ты же знаешь, ты знаешь… как работают Высшие силы.
*
К февралю она стала говорить мне, что скоро перестанет кормить грудью, что ей нужно возвращаться в норму, восстанавливать фигуру, ведь она актриса, нужно продолжить быть актрисой, готовиться к возвращению в профессию. Однажды, согласно изуверскому некому рецепту восстановления и возвращения в профессию, ей перетянули груди чем-то вроде смирительной рубашки. И она стала ходить и спать со сдавленной грудью. Нужно было добиться, чтобы молоко не образовывалось. Младенца начали кормить голландским сухим молоком, разводя его. Младенец повозмущался и привык. Вместо груди ему теперь совали бутылочку.
В день моего рождения, мне стукнуло шестьдесят четыре года, она полетела на кинофестиваль в Ханты-Мансийск. Мы повезли её в аэропорт. На трассе в Шереметьево были ремонтные работы, и после нервного путешествия часа в четыре длиной, мы подъехали к аэропорту на полчаса позже. Но её ждали! Покойный ныне актёр Абдулов задержал из-за неё самолёт! Я решил, что мы не станем въезжать в аэропорт, потому что это потребует времени. Я распорядился, чтобы она, выскочив из автомобиля, бежала вместе с моим охранником Дмитрием, её вещи у него в руках, бежала бы на посадку. Она побежала, успела, улетела. (Своим дням рождения «он» не придавал ровным счётом никакого значения, даже их не праздновал. Свои 59-е и 60-е дни рождения «он» просидел в тюрьме. И всё же… когда она позвонила, что в самолёте, «он» подумал: в мой день рождения!..)
Она вернулась, чтобы 8-го марта улететь в Гоа. Про Гоа рассказала ей её подруга, блондинка, мать маленькой девочки Маруси. Блондинка утверждала, что отец девочки — испанский граф, но граф не признал ребёнка… Так вот блондинка, родом из Мордовии, то есть мордвинка, такая белобрысая щепка себе, и очаровала мою жену рассказами о земном Рае: Гоа.
Актриса поставила меня в известность об отбытии в Гоа post factum. Оказалось, что у неё уже есть билет и что она вернётся 24 марта.
— Мне нужно восстановиться,— сказала актриса тоном, не терпящим возражений.— Я вызвала маму, она будет с Богданом. Ты же не сможешь с ним управиться.
«Он» был уверен, что сможет управиться с пятимесячным младенцем, но спорить не стал. Восьмого марта «он» и его парни отвезли актрису в аэропорт Домодедово. Они не опоздали, приехали вовремя и сопроводили актрису и её красный спортивный костюм, чемодан и сумку к месту регистрации рейса. Там стояла целая толпа мужчин с отвратительной кожей цвета пепла. Актриса присоединилась к толпе, и они некоторое время постояли в этом пепле, чувствуя себя неуютно, оказалось, что мужчины с кожей цвета пепла излучают опасность. Видимо, дело в цвете пепла. Актриса то ли не чувствовала опасности, то ли её игнорировала.
— Ну ладно,— сказала она по прошествии десятка минут,— идите уже, чего вы будете тут время терять.
— Ты уверена, что это твой рейс?— спросил «он». Однажды «он» поехал из Красноярска в Барнаул на поезде «Иркутск-Ташкент» и испытал неприятные двадцать четыре часа.
— Мой рейс,— уверенно сказала она.— Это индийцы. Ты что, никогда не видел индийцев?
«Он» видел индийцев в Нью-Йорке и побывал однажды на индийской свадьбе. Те индийцы были не пепельные, но приятно шоколадные с молоком.
— Давай!— актриса поцеловала его.— Помогай маме!
И она пошла к турникету с пепельной толпой.
— Мрачноватые ребята,— поделился «он» впечатлением со своими парнями.
— Да, невесёлые. И совсем нет женщин,— отметил старший, Михаил.
Они быстро, широким шагом, четверо мужчин, трое молодых, и один — седой мужчина, ушли из зала аэропорта. По пути их заметили наблюдающие за залом милиционеры, его узнали и передали по рации. По цепочке их передавали друг другу из рации в рацию. Но задержать не решились, в конце концов, ни он, ни парни ничего не нарушали. Под наблюдением они спустились на асфальтовый паркинг, сели в «Волгу» (кадиллак поставили на прикол) и поехали в Москву. Довольно быстро.
Глядя в окно автомобиля на грязный снег по обочинам и в полях, я вдруг вспомнил неловкий эпизод в наших с ней отношениях. Богдан только что родился, шли первые его земные дни только, мы в ЗАГС только собирались идти его записывать в живые. Все сидели на кухне: я, она, её мать. И вдруг с их стороны последовало предложение записать сына на их фамилию. На их фамилию?! Вот я не запомнил, жена это предложила или тёща. Дескать, на писательский псевдоним его не запишут, а его настоящая фамилия… Он не дал им пояснить ему, почему им не нравится его настоящая фамилия. Он сказал:
— Извините, женщины, но таких вещей при живом отце не говорят…
Они тогда не стали настаивать.
Красавица превращается в проблему
Не то за день, не то за два до 24 марта тёща позвонила мне и сообщила, что жена моя потеряла обратный билет и 24-го не прилетит. Тёща не звучала самоуверенно, скорее растерянно, из чего я сделал умозаключение, что в сговоре с дочерью она не состоит. Тёща сказала, что вечером дочь будет звонить, и предложила мне приехать.
— Может быть, вы убедите её?
— В чём?— спросил я,— убедить?— и добавил насмешливо: — В том, чтобы она нашла билет?
Я никогда не терял авиабилетов, однако был уверен, что билет, однажды купленный, существует где-то в электронном виде… и его можно восстановить. Надо сказать, что я уже был готов к чему-то подобному. Она позвонила мне только один раз, на второй день своего прибытия в Гоа. С придыханием воскликнула:
— Здесь Рай, настоящий Рай!
И пропала, я не смог ей дозвониться все эти две недели.
Я влез в интернет и поинтересовался «Настоящим Раем!». Пенное побережье Индийского океана, метёлки пальм, редкие экзотические фрукты, столица наркотиков… очень много русских. Узнал, что Гоа была столицей хиппи, это они её впервые облюбовали в 70-е годы, а теперь она ещё столица down-shfting, down-shifter(ов), решивших отказаться от цивилизации. Тысячи разноплеменных офисных работников, бизнесменов, просто бездельников бросили свои родные бетонные города, сдали внаём квартиры и живут овощами на горячей земле бывшей португальской колонии в Индии. Гоа можно найти на карте индийского субконтинента, на западном побережье, ниже Мумбай (Бомбей), это самый плохонаселённый штат Индии, всего 1 миллион 200 тысяч человек. «Белые» (русские, израильтяне, американские хиппи) курят марихуану, глотают экстази на рейв-вечеринках, открывают рестораны, самые невменяемые пробуют заниматься гимнастикой йоги. Скорее, это аэробика, позы, начисто лишённые духовной начинки. Конечно, изучать позы в тропиках на берегу тёплого океана, гораздо интереснее, чем в грязной снежной Москве, однако йога в Гоа — само по себе довольно курортное занятие. «К «Йога-сутре» и её религиозно-философским принципам гимнастика хатха-йоги, да ещё и в европейской имитации, не имеют никакого отношения»,— писали скептики интернета.
В то время, как белые курят марихуану, стоят в позах йоги, напиваются и неизбежно совокупляются в тёплом климате, аборигены пасут коров на пляже, всячески обманывают белых, иногда насилуют белых девок. Интернациональных дауншифтеров аборигены считают забавными, наивными придурками. Таким мне предстал Гоа из интернета. Деревушка Арамболь, в которой находилась моя жена, оказалась расположена в зоне дикого туризма и характеризовалась как оживлённый центр торговли наркотиками…
Мне стало невесело. Почему я не поинтересовался, что за место это Гоа до её отъезда? Однако даже если бы я возражал против её поездки, она бы уехала, таковы были наши отношения, сложившиеся на основе уважения прав друг друга. Я же ходил на мои «марши несогласных», где мне могли размозжить голову, один такой только что состоялся в Петербурге 3 марта…
Материалов о Гоа в интернете плескалось целое море. В довершение всего где-то в блогах я наткнулся на чей-то короткий текст, путешественник, парень, писал в своём ЖЖ: «…В окрестностях кафе в Арамболе встречаю (следовали имя-фамилия моей жены) — красивую и невменяемую». От таких слов вздрогнет даже самый спокойный муж. Ну разве не так!
Я поехал к тёще, в семью, очень разозлённым, по пути едко и сатирически рассказывал моим парням, что за гадюшник этот Гоа. Парни согласились, что Гоа — это место для «объебосов», так они на своём вполне правом жаргоне называли наркоманов.
Тёща выглядела невесёлой и виноватой. В ожидании звонка из Гоа, все мы,— члены семьи,— собрались на маленькой кухне, вокруг икеевского стола, размалёванного женой однажды в припадке творческого настроения. Богдан, несмышлёный, но тревожный, ползал по полу, настороженные и молчаливые, тёща и я расположились по разные стороны стола, руки на столе. Старшая дочь, ей было в тот год пятнадцать лет, приходила на кухню и уходила с кухни. Мы не разговаривали, лишь перебрасывались короткими односложными фразами, ждали.
Наконец, телефон задребезжал. Сказав блудной дочери лишь пару фраз, тёща перебросила телефон мне. Актриса не ожидала услышать мужа. Ей, видимо, невыносимо не хотелось говорить со мной.
— Что с тобой? Почему ты не прилетаешь завтра?— только и успел сказать я. Она там в Гоа зашипела и перешла в наступление.
— Я сказала маме, что потеряла обратный билет,— почти выкрикнула она с вызовом.— Мне нужно восстановиться, здесь настоящий Рай! Здесь Рай!
Звучала она излишне агрессивно. И сквозь потерянный билет, заглушая его тему, звучала тема тёплого тропического рая, из которого она завтра не улетит. Что вызывало вопрос: «А потерян ли ею билет?»
— Купи билет на другой рейс! Ты летела на две недели. Мы тут переживаем все. Ты не отвечаешь на телефонные звонки, Богдан ползает печальный, бабушке нужно уезжать (тёща, моего возраста, недовольно провела по мне шершавыми глазами). В конце концов, у тебя пятимесячный ребёнок, ему нужна мать, не веди себя как девочка-хиппи, убежавшая из дома. Тебе тридцать три…
— Мне не на что купить билет, деньги у меня кончились. Ты что, дал мне с собой много денег?!— закричала она яростно. Я подумал, что многие женщины кричат и злятся, когда виновны, обычное дело.
— Я вышлю тебе денег на билет. Куда и как? Я, кстати, звоню тебе ежедневно, у тебя отключен телефон. Ты что, влюбилась там? С женщинами это бывает.
— Я ежедневно занимаюсь йогой. Здесь чудесная школа йоги, прямо на берегу океана. Ты хочешь меня контролировать, что ты мне названиваешь! Я не влюбилась ни в кого. Я устала, я была беременна, потом кормила ребёнка, мне нужен отдых! Здесь Рай, настоящий Рай на Земле!— голос её дрожал, и она кричала.— Я должна восстановиться… Я потеряла билет…
— Как же ты потеряла его?
— Я переезжала с одной квартиры на другую… Я перевернулась со скутером. Разбила ногу…— Она теперь звучала плачуще.— Я не влюбилась…
— Куда тебе прислать деньги на билет?
— Я попробую позвонить туроператору в Мумбай. Я поеду туда завтра…
Она прервала связь. Мы стали вздыхать и обмениваться мнениями. Тёща рассказала несколько историй из жизни дочери, из которых следовало, что она всегда была неуправляемая. В конце концов мы составили план действий по вытаскиванию актрисы из Гоа. Приблизительный.
Возвращаясь в машине, я думал, что два года мы прожили с ней без единой ссоры, а теперь вот такое… И чем это ещё закончится?.. Кроме того, я почувствовал своё бессилие перед тысячами километров, отделяющими меня от места, где она бродит «красивая и невменяемая».
Тёща, наделённая практичным умом сильной русской женщины, выставившая мужа за дверь за предполагаемую измену, когда дочери было десять лет, нашла телефон агентства, которое продало нашей актрисе билеты в Гоа. Оказалось, рейс был чартерный, таким же чартерным она должна была прилететь в Москву. В агентстве сказали, что там, на месте, у них есть представитель. «Мы попытаемся узнать, что там произошло, перезвоните завтра».
Назавтра в агентстве тёще сообщили, что её дочь не обращалась по поводу пропажи билета. «Мы считаем, что она улетела сегодня»,— сказали в агентстве.
Ни я, ни тёща дозвониться актрисе в Гоа, Индия, в ближайшие дни так и не смогли. У Богдана случился понос, тёща подозревала, что мы купили ему не то голландское сухое молоко, которым его кормила жена, а спросить, каким точно она его кормила, было не у кого, её телефон молчал. Телефон матери младенца, у которого понос.
— Ну просто преступница…— бормотала тёща.
С поносом Богдана мы, впрочем, быстро справились. Купили другой сорт голландского молока. Этот ему подошёл.
*
— Она будет мне сегодня звонить,— сказала тёща.— Приходите, вы должны с ней решительно поговорить. Напугайте её как-то, ну не может же всё это так дальше продолжаться.
Я приехал. Действительно, пусть там остаётся, пусть восстанавливается, пусть нашла себе мужчину, пусть весь день лежит и курит марихуану, пусть, пусть, пусть… Или возвращается. Он чувствовал запах беды и начинал от беды отодвигаться. Если не можешь ничего сделать… Когда телефон задребезжал, я вышел с ним в комнату её дочери.
— Ты должен меня понять, Эдуард,— начала она рассудительно и спокойно.— Я была беременна, я кормила…
— Я уже слышал от тебя эту историю. Всё верно, ты восстанавливалась… Но когда в Москву? Богдан ползает тут один, тёще уезжать нужно. И я тоже есть, муж твой.
— С каждым днём я чувствую себя лучше и лучше,— прорвалась она сквозь мою реплику, но звучала она уже с долей остервенения,— мышцы подтянулись, я потеряла уже килограмм восемь…
За её речью вдруг стал слышен какой-то нарастающий гул.
— Что там у тебя происходит?
— Самолёт взлетает. Аэропорт здесь. Я опять переехала.
Она вдруг ни к месту захохотала.
— Такое впечатление, что ты накурилась травы либо ещё что. Ты в Мумбай?
— Нет,— сказала она неожиданно кротко,— я не накурилась, и я не в Мумбай.
— Ты собираешься вообще возвращаться?
— Да,— сказала она, как слабоумная. Покорно.
— А что ты для этого сделала? Ты занималась билетами? Куда тебе выслать деньги?
— С деньгами мне помогут. Рейсов нет.
— Как нет рейсов?
— Сезон заканчивается, начинается жара. Все спешат отсюда убраться, потому все билеты проданы до самой середины апреля.— Она опять звучала спокойно.
Я не был готов к концу сезона в Гоа. Всё сказанное ею могло быть и правдой.
— Когда же ты возвращаешься?
— Я же тебе говорю, билетов нет.
— Слушай,— сказал я,— я больше с тобой разговаривать не буду. Ты ведёшь себя как загулявшая девочка-хиппи. И к сыну-младенцу тебя не тянет… Даю тебе несколько дней, после этого иду в ЗАГС и подаю заявление о разводе.
— Ну хорошо,— сказала она без всякого выражения.
А дальше произошло неожиданное. Я положил телефон на письменный стол её дочери и собирался задуматься над своей судьбой. Но мне не дал задуматься телефон. Я услышал оттуда голоса. Я взял телефон и приложил к уху. Она говорила с кем-то по-русски.
Она сказала:
— Представляете, он решил со мной разводиться! Мой муж сказал, что идёт подавать заявление о разводе!
И актриса весело расхохоталась. Вместе с нею расхохотались несколько мужчин. Разговор продолжался по-русски, её собеседников было двое. Через некоторое время, судя по звукам, они встали. Телефон отключился.
Я вышел на кухню.
— Эдуард,— сказала её дочь,— не разводитесь, не уходите от нас. Вы единственный вменяемый человек в нашей семье.
— Она приедет, Эдуард,— сказала тёща неуверенно.— И Богдан на кого останется? Она же ненормальная…
Богдан с полу посмотрел на меня, отца, таким образом, что было ясно, что он хочет, чтоб я его взял на руки. Ещё и руки поднял, и поверещал требовательно. Я взял его на руки.
Она позвонила тёще 7 апреля и сказала, что прилетает завтра. Рейс из Мумбай.
— А Эдуард меня встретит, как ты думаешь?— спросила она у матери.
Я встречал её в аэропорту Домодедово. И что это была за встреча, о! Сейчас глотну воздуха, отхлебну кофе и расскажу. Встреча была в том же стиле, что и всё путешествие в Гоа.
Все уже вышли, а её не было. Телефон её молчал. Я уже решил было, что она не прилетела. Однако она вдруг появилась за стеклом, улыбающаяся, катила тележку, навьюченную красивыми громоздкими вещами из экзотической страны. Даже издалека было видно, как она красива и лучезарна. Она улыбалась. Помахала мне рукой. Однако быстрым шагом из-за её спины подошли таможенники в форме и повернули её и тележку на обратный курс. Группа скрылась из виду.
— Что это они задумали?
— Это же ВАША жена,— ответил водитель Стас, юноша в очках, упирая на ВАША. Их очень интересует, что она привезла.
И мы опять стали ждать. Предчувствия у меня были нехорошие.
Но нет, через два часа она появилась всё такая же лучезарная, красивая, улыбающаяся. Глаза у неё были такие лучистые, и от зелёной блузки,— зелёные, как у тигра или у радиоприёмника. Я подумал, что, вероятнее всего, перед отбытием на родину она проглотила там в Раю на прощание что-нибудь экзотическое и лучезарное для глаз. Но это лишь моя догадка.
Мы поцеловались и покатили тележку к выходу. Водитель впереди, добрались до «Волги» и погрузили её экзотические вещи. Мы сели на заднее сиденье и покатили в Москву.
— Видишь, не просто быть женой такого человека, как я, враг государства,— сказал я.— Два часа тебя обыскивали и шмонали. Извини.
— Это не из-за тебя, Эдуард,— она запустила руку в сумку, нащупала там что-то и вынула небольшой пузырёк.— Вот что они искали! Но не нашли.
На ухо она сказала мне, как называется то, что они искали. Но я вам этого не скажу. Она была очень довольна собой. Её глаза своими искрами могли бы зажечь поля, мимо которых мы проезжали, если бы поля были уже сухими.
— Ты совершенно безумна, у тебя же малолетний ребёнок. Ты о нём думала?
Она ничего не сказала. Помолчала.
— Меня попросил один друг.
«Она безумна,— констатировал я.— И, более того, безответственна».
*
Богдан, почувствовав и обнюхав мать, был счастлив. Тёща, у которой был назавтра билет домой, была счастлива. Ну и я был счастлив. Но только до вечера.
Выпив на семейном обеде, она высокомерно заявила мне, что я живу не так, как следует жить, занимаюсь заведомо проигрышным делом. Она сообщила мне, что вся моя политическая деятельность — ничто, она обречена на неуспех, «ты не выиграешь». Мы сидели уже в большой комнате, дети и тёща были в кухне. Она развязным тоном, улыбаясь, уничтожала результаты всей моей жизни.
Я остановил её, чтобы напомнить, что я один из самых известных в России людей, наверное, самый крупный писатель в России, звучат такие мнения, и очень заметный радикальный политик, партию, которую я создал, не могут убить вот уже пятнадцать лет. (Через 11 дней Московский городской суд одобрит решение о запрете НБП, и в зале будут присутствовать моя жена и странно спокойный в тот день Богдан.)
Она отмахнулась от моих заслуг снисходительной улыбкой. Мол, о чём ты, право…
— В Гоа,— пояснила она,— когда солнце подымается над океаном, человека охватывает такое чувство единения с природой, с Космосом,— и она пустилась в очень банальные объяснения, как прекрасна гармония с природой, что появляется ощущение радости.— Надо больше улыбаться — это самое сильное оружие. Тем более, когда отвечаешь улыбкой на проявления агрессии.
— Тебя кто-то там зомбировал,— сказал я убеждённо.— Я же предположил, что ты влюбилась. В твоих словах звучит неприкрытая враждебность ко мне. Обычно так бывает, когда у женщины появляется любовник, обладающий в её глазах новым сильным авторитетом. Тогда она, повинуясь влиянию общения с этим новым мужчиной, начинает оспаривать прежнего любовника, мужа ли… Но ты же утверждаешь, что у тебя нет любовника, ты не влюбилась?
— Я собираюсь жить в Гоа, хочу переехать туда со всей семьей. Ты тоже можешь, если хочешь, поехать с нами. Я поеду вначале одна осенью, а мама и дети приедут позже, ну и ты приезжай…
— Я не могу, для меня это немыслимо. Это будет предательство. За мною мои сторонники, тысячи людей. Я не могу сбежать от них и укрыться на берегу Южного океана!.. Своим ультиматумом «в Гоа!» ты ставишь меня заведомо в положение, когда я вынужден отказаться от твоего требования.
— Мой сын должен плавать в океане, ему это полезно. Моя мать должна увидеть эту красоту. Она же никогда океана не видела!— воскликнула она патетически.
— Люди, побывавшие в Индии, все в один голос утверждают, что там антисанитария, что везти туда младенца опасно. Там взрослые люди мрут и болеют, в этом климате, а тут младенец! Ты выдумываешь, твой «сын должен», твоя «мать должна», на самом деле это тебе туда хочется. На самом деле все твои аргументы быстро тобой придуманы, чтобы оправдать твоё хотение!
В результате этого разговора я понял, что у неё есть враждебный мне план. Ожесточение, возникшее между нами, способствовало тому, что наш секс с нею в этот первый после возвращения вечер был ожесточённым. Но меня это не обрадовало.
*
14-го апреля я увидел её, шагавшую мрачно в длинном пальто в колонне на «марше несогласных» на Трубной площади. Я выскочил из машины с моими парнями (мы должны были воссоединиться на Трубной с Касьяновым) и побежал за ней. Но колонну встретили на Рождественском бульваре отряды немосковских милиционеров и учинили жуткую бойню, рубя всех без разбора налево и направо дубинками. В возникшей панике я потерял её из виду. Давая в тот день интервью СМИ, она сказала, что пошла на «марш» без моего ведома, она хочет разобраться. Упомянула о том, что милиционер не решился её ударить.
19-го апреля она принесла Богдана на суд о запрещении партии. Собственно, партия была уже запрещена, требовалось только подтверждение Московского городского суда. Моим адвокатом был Сергей Беляк, защитивший меня в Саратове в 2003 году.
В перерыве ко мне подошёл пристав и сообщил, что слышал разговор «оперов», присутствующих на суде. Они обсуждали возможность моего ареста после оглашения решения суда о запрете партии. Прямо у выхода из зала суда.
Я сообщил об этом адвокату и жене с Богданом на руках. Спросил Беляка, что делать? Может, сбежать?
Беляк сказал, что лучше пусть арестуют в здании суда, здесь присутствуют множество журналистов. Если же арестуют на улице, резонанс будет не таким большим. Богдан внимательно слушал, вися на матери. Жена также внимательно слушала, вцепившись в мобильный телефон. Я заметил, что она всё время жмёт кнопки мобильного с каким-то остервенением.
Меня не арестовали. Вверху, видимо, сочли нецелесообразным такой арест. Дома я из любопытства (жена ушла в душ), проверил её телефон. Во время судебного процесса по запрету партии жена моя усиленно обменивалась СМС с Индией. Номер был индийский. В СМС из Индии её называли «Богиней». Она подробно знакомила своего индийского корреспондента с ходом процесса. Около того времени, когда я узнал, что меня собрались арестовывать, она послала в Индию короткое и циничное: «Тут полная жопа. Кажется, моего супруга закроют». Её корреспондента звали Артур. Всего из зала суда она послала ему 25 эсэмэсок. Я подумал, что если у неё нашлось время и желание в такие напряжённые часы отправлять ему подробные рапорты, то он не случайный человек в её жизни. Это, видимо, «он», подумал я.
Жена пришла и легла рядом. Положила руку мне на грудь. Я сделал вид, что я сплю.
*
Я стал читать её телефон. Раньше я никогда этого не делал, даже в голову не приходило. В данном случае её близость к какому-то человеку в Индии могла грозить мне неприятностями, плюс, учитывая, что я занимаюсь политикой, что я лидер запрещённой организации, информация, выдаваемая ею вовне, могла мне очень повредить. Или просто повредить, без «очень». Ревновал ли я её к человеку из Индии? Ревновал. Однако не кипящей ревностью молодого неопытного мужчины, но слабой ревностью уверенного в себе «священного монстра», об этом сорте людей я написал одноимённую книгу. С кем она могла мне изменять, чтобы я ревновал её серьёзно? Да не существовало такого человека в природе! Вот сейчас, четыре года спустя, она сказала газетам, что у неё наконец-то появился человек, с которым у неё «что-то серьёзное», она, дескать, чувствует. Да и пусть она себе блуждает по жизни. Люди меня всё меньше интересуют. Я всё ближе к героям, богам и демонам…
*
К июлю месяцу мы немного успокоились. У меня был давний план поехать окрестить Богдана в казачью станицу, бывшую столицу Донского войска в Старочеркасск. Мы побывали там, коротко, прошлым летом, и я был в восторге. Я не забыл про свой давний план, я просто не хотел его осуществлять, душа уже не лежала. Однако меня стали теснить со всех сторон. Во-первых, семья ростовского олигарха Сергея М., его мать, сестра (сестра захотела стать крёстной матерью Богдана), его отец, все они мне названивали, требуя установить дату приезда. Жена моя также хотела ехать. И тёща приготовилась везти из Самарской области Богдана и его старшую сестру, находившихся там.
Мне пришлось назначить поездку на июль, хотя мне было и не до поездки. Сейчас расскажу почему. Помимо трещавших личных отношений, 28 июня разрушился политический альянс, разломилась коалиция «Другая Россия». На совещании по поводу выдвижения единого кандидата в президенты от коалиции «Другая Россия», вдруг взорвалась давно уже тлеющая вражда между двумя моими партнёрами: Каспаровым и Касьяновым. Совещание продлилось целых семь часов, на нём присутствовали, помимо нас троих (я + «2К», как я их называл), ещё правозащитники и наблюдатели. Помню, был Сатаров и Алексеева, какое-то время присутствовал, если я не ошибаюсь, Пономарёв, со стороны Каспарова,— Рыклин + Осовцов, со стороны Касьянова — Костя Мерзликин + Жаворонков или покойный генерал П., от нацболов, помимо меня, ещё Аксёнов и Аверин.
Суть конфликта была пустяковой, как обычно причины раздора яйца выеденного не стоят. Речь шла о количестве кандидатов, которых должна выставить каждая организация для участия в праймериз. Михаил Касьянов разумно предлагал, чтобы каждая из трёх партий (нацболы, РНДС Касьянова и ОГФ Каспарова) выдвинула по одному кандидату. Каспаров же неразумно, на мой взгляд, предлагал, чтобы каждая партия имела право выставить двух кандидатов. Каждый из них, однако, как водится, преследовал свои интересы. Касьянов как бывший премьер-министр считал себя самым перспективным кандидатом. В праймериз между Касьяновым и Геращенко (на тот момент кандидатом от каспаровского ОГФ был заявлен Геращенко, а наша партия не собиралась представлять своего кандидата) выиграл бы куда более молодой и свежий Касьянов. Каспаров же в тот момент уже внушил себе мысль, либо, как утверждали близкие к нему люди, это его мама, имевшая на него колоссальное влияние, Клара Шагеновна, внушила ему мысль, что он должен стать президентом, он ведь уже — шахматный Гений. Потому Каспаров понимал, что в праймериз против Касьянова, побывавшего на высоком посту, он не выиграет. А вот если расширить состав участников праймериз, то есть шанс выиграть праймериз. Если ещё помочь самому себе, подготовиться к борьбе.
Семь часов они спорили. Можно было видеть разницу темпераментов. Южного и восточного каспаровского, Каспаров всё сильнее распалялся и уже не сидел, но бегал у большого стола (действие происходило в помещении консалтинговой компании Касьянова) и швырял едкие скороговорки в противника. И касьяновского, более логичного, более замедленного, северного, старающегося быть спокойным. Мы, нацболы, честно, поскольку не преследовали своих интересов в этих «праймериз», пытались не допустить раскола. Помню, мы предложили, что примем за основу пожелание Касьянова: один кандидат от одной партии, но готовы выдвинуть второго кандидата Каспарова от нашей организации. (Каспаров назвал почему-то «Буковского», он, видимо, не хотел до поры называть себя). Касьянов был за наше предложение, Каспаров был против. Мы два раза прерывали совещание и расходились на две группы, в одной я пытался достичь договорённости с Каспаровым, в другой,— нацболы пытались нащупать выход из ситуации с Касьяновым. Алексеева давно ушла, раздосадованная. Сатаров сидел, бессильно втянув голову в плечи. Последний акт, конец седьмого часа совещания. Сцена выглядела как бункер фюрера с картины художников Кукрыниксов: «Капут». Сидел в пол-оборота бледный Михаил Михайлович Касьянов. Его alter ego Константин Мерзликин сидел, обхватив блестящую лысую голову руками, гневно и язвительно бросали свои тирады в противников сам Каспаров и его группа: склонный к язвительному талмудизму Осовцов и старательный толстенький Рыклин. Они расхаживали, садились, опять расхаживали.
Случился раскол. Окончательный и бесповоротный. Мне удалось лишь добиться, чтобы стороны согласились повременить с официальными заявлениями в течение 24-х часов.
Впоследствии дела повернулись так, что совершенно сделалось неважным, сколько кандидатов было выдвинуто в праймериз. Праймериз выиграл с помощью нацболов в конце концов Каспаров. Касьянов от участия в праймериз отказался, но за него всё равно проголосовали многие, и он едва не выиграл.
В результате об участии в выборах заявили сразу три либеральных кандидата: Владимир Буковский, Гарри Каспаров и Михаил Касьянов. Все они в выборах тем не менее не участвовали.
Самый ожесточённо желавший участия в выборах Гарри Каспаров 13 декабря объявил о том, что ему отказали в аренде помещения, где он мог бы провести своё выдвижение в кандидаты: пятьсот человек должны были явиться с паспортами, и выдвижение должен был зарегистрировать нотариус или нотариусы. Каспаров даже не предупредил нас, своих союзников, просто спрыгнул с трамвая, когда ему надоело или он устал ехать в трамвае.
Владимир Буковский провёл выдвижение в кандидаты: оно состоялось в Сахаровском центре. Но зарегистрирован кандидатом он всё равно не был — Центральная избирательная комиссия заявила, что так как Буковский не живёт на протяжении последних десяти лет в Российской Федерации, то он не может быть кандидатом в президенты России.
И наконец Михаил Касьянов прошёл по пути к выборам дальше всех. Он сдал в Избирательную комиссию более двух миллионов подписей за своё выдвижение, но часть подписей были признаны недействительными, и к выборам Касьянов допущен не был.
Так что коалицию «Другая Россия» Каспаров расколол зазря. Все проиграли.
С тех пор я отношусь к лидерам либералов с большим недоверием. Политики из них плохие.
*
Ну вот, мы сели в «Волгу» и поехали по трассе «Дон» в направлении Ростова-на-Дону. Через неделю после этого рокового совещания. Поехали вчетвером: я и мои ребята. Жена должна была появиться в Ростове чуть раньше нас. Дети должны были приехать с бабушкой на поезде.
Лето был жаркое и грозовое.
Разместились все в доме Елены — сестры олигарха и Василия,— её мужа. Комнат хватило на всех, там добротный особняк в четыре этажа. Целый кортеж направился в Старочеркасскую, шесть или семь машин, одна из них — автобус.
У въезда в станицу нас остановили. Люди ФСО, то есть Федеральной службы охраны. В Ростов, оказывается, приезжал Президент, и каким-то боком часть его свиты, а может быть, он сам оказался в Старочеркасской. Наш олигарх Сергей М. пошёл на переговоры. К моему удивлению, нас пропустили проехать к церкви. Хотя она и являлась музеем и как храм не работала, Сергей получил разрешение провести в церкви церемонию крещения. Проводить церемонию приехал из Ростова известный священник с помощниками. Петь на клиросе пригласили артистов оперного театра. Сергей же недаром олигарх.
Мы некоторое время поджидали священника у церкви. Располагалась она над уютной площадью-майданом, высоко, широкие ступени ведут к ней. На уютной площади, я так понимаю, проводились казаками народные сходы и, видимо, выборы атаманов. Старшины обращались к казакам с высокой площадки у церкви. Оттуда же легко было выбросить кого-нибудь на казачьи пики.
У церкви стояли ворота, прямо под открытым небом, если не ошибаюсь, это были ворота Азова — турецкой крепости, которую взяли казаки. А на дверях церкви висели кандалы Степана Разина. Обильная зелень, буйная и неподрезанная, лезла из всех щелей, зеленью крепко пахло, стрекотали не то кузнечики, не то цикады, но ясно, что звучали тысячи насекомых сразу.
Хитрость Старочеркасска объяснялась тем, что тут не нужны были никакие особые укрепления. Хотя он и расположен на равнине, его предохраняет могучий Дон и его притоки. Не так давно, вспомнив Старочеркасск, я написал вот такое стихотворение:
Дон
Река лежит как макарона,
И начинается узка,
Преодолеешь в полплевка,
Верховья Дона.
Но разливается на юг
Казаку забубённый друг,
Вода мощна и непреклонна
В низовьях Дона…
В Старочеркасской русский род,
Как в старой опере живёт,
С монастырём подворье дружит
Ему музеем верно служит…
Над камышами, пароход
Россией — Родиной плывёт,
Здесь Разин был, и Пугачёва
Здесь видели,— солдата злого…
Что верно, то верно, Пугачёв приезжал сюда, двадцати семи лет от роду, ветеран после десяти лет службы. Он хотел, чтобы его уволили из армии, у него стали гнить старые раны, ему нужно было лечиться. Но старшины не отпустили его. И контрактник Пугачёв вначале пустился в бега, а затем стал вождём казачьего и «магометанского» восстания.
Подошли люди из ФСО, в костюмах, и отведя в сторону моих ребят, спросили, нет ли на них оружия, но обыскивать не стали.
Приехал отец Владимир, священник, и мы поднялись к церкви, и прошли внутрь. Пол в церкви был из железных плит, потому внутри было прохладно. Иконостас был велик и жёлто-ал. Золотых либо позолоченных сосудов и подсвечников было так много, что на фотографиях, оставшихся после церемонии, преобладает золотой цвет. Да и на священнике была золотая риза. И даже на мне был зеленовато-рыжий пиджак (купленный когда-то в магазине «Сток» за 245 рублей), и на фотографиях он выглядит также золотым.
Богдан не плакал нисколько, когда его окунули в чашу с водой и весело скалился, мокрый, на руках у отца Владимира. Чем вызвал восхищение собравшихся.
После церемонии прошлись немного по главной улице станицы. В монастыре за стенами пели монахи. В музей-подворье не пошли, не до того было. Вернулись к автомобилям. Приехали в Ростов и погрузились на корабль. Ибо праздновать заказали корабль. Я не спросил, сколько это стоит, но судя по всему, много. Когда все сели за стол на верхней палубе, корабль отчалил. Дул ветерок, встречались меньшие по размеру посудины.
Затем решили купаться. Отчаянный отец Сергея-олигарха прыгнул в Дон прямо из-за стола, где изрядно выпил, был унесён течением, и за ним вплавь бросились его сын и… моя жена. Всех их понесло течением… Я продолжал сидеть за столом, невозмутимо беседуя с адвокатом Беляком о чём-то. Не помню о чём. Когда безрассудную тройку: папу, сына и мою жену, приняли на борт, я подумал, глядя на обтирающуюся полотенцем стройную мать моего сына… я подумал, что также безрассудно, как она бросилась полупьяная в реку Дон сегодня, она бросилась в историю со мной, в этот наш роман, а потом очертя голову в Гоа.
На следующий день все мы разъехались. Тёща, взяв детей, уехала на поезде в Самарскую область, моя жена поехала с нею, потому что детей было много: Богдан, старшая дочь Валерия и ещё мальчик,— какой-то родственник тёщи, она привезла его с собой, четырёх лет. Всех их надо было наблюдать в поезде. Впрочем, я не уверен, возможно, моя жена уехала первой, а вот куда? Не помню, злость прошла, улеглась вражда, прошло и разочарование. Потому моя память охотно уступает времени свои информации. Помню только, что в «Волге» по трассе «Дон» мы мчались обратно одни. Я и мои верные партайгеноссе, без неверных женщин и несмышлёных детей. По дороге мы заблудились, решив объехать пробку в Воронежской области, глупо заблудились и выехали, как в Африке какой-нибудь, по компасу, имевшемуся на моих французских часах.
И куда, вы думаете, мы выехали? К деревне Масловка, откуда родом мои предки по отцу: Савенко. Улицы Масловки были пусты. Церковь перестраивали. Мы спросили у сторожа церкви: «Где живут Савенко?» Он сказал, что он здесь новый и никого не знает. А священника нет, он уехал в Воронеж. Мы спросили у компании смешливых девочек на скамейке: где живут Савенко? Но и девочки не знали. Возможно, Савенко в Масловке не осталось. Добираясь до трассы «Дон», мы встретили вдруг указатель на ещё одну Масловку, и указатель на город Бобров, тот самый, где родился мой отец. Но у нас не было времени предаваться археологии моей семьи, мы помчались в Москву. По дороге я рассказал ребятам, что Пугачёв, тот который Емельян Иванович, участвовал в Семилетней войне и был прикомандирован к генералу Маслову. А Маслов был владельцем имения под названием «Масловка». Так что моя семья в этом всём тоже замешана. Под «этим всем» я имел в виду русскую Историю.
В Москве я приехал в полумрак моей квартиры в Сырах. Сыры, я отметил, оживились, появились в обеденное время смазливые, новые офисные девушки, вываливающиеся во время обеденного перерыва клевать пищу с бумажных тарелок у меня под окнами, на детской площадке.
Через несколько дней приехала и она, привезя Богдана и старшую дочь. Она поругалась с матерью. Я поехал к ней, намереваясь поиграть с Богданом, да там и остался на некоторое время.
*
Между тем из неё, как из вулкана, всё чаще случались выбросы лавы.
В конце июля, уже ближе к полуночи, мы сидели в кухне, дети спали, она вдруг бросила мне: «Ты живёшь в моей квартире!» и получила в ответ короткую пощёчину.
— В блатном мире за это долго бьют,— сообщил я ей.— Я не живу в твоей квартире, у меня здесь «койко-место», где я сплю, когда ты этого хочешь, и около 50 квадратных сантиметров за столом в кухне у окна. У меня даже полки в «твоём доме» нет. Ты мне хоть раз сказала: «Вот, Эдуард, я освободила тебе полку, привези что там тебе надо, рубашки, трусы…» (И это была сущая, неприятная ей правда, я приезжал к ней с портфелем, где держал рукописи, над которыми работал, и смену белья.)
— Ты множество раз упрекала меня в последнее время, что я не могу обеспечить семью квартирой. Я же тебе предложил с самого начала наших отношений — давай снимать квартиру, я буду платить основную сумму денег, плюс сдадим эту твою квартиру и снимем себе просторную, многокомнатную. В ответ я получил твоё заявление, что ты не можешь, не привыкла жить в наёмной квартире, и что тебе будет противно, если в твоей квартире будет кто-то жить, чужой. Ну, видимо, для тебя твоё хотение дороже того, чтобы у нас была общая семья, и я бы не приезжал-уезжал, как коммивояжёр.
— Прости,— сказала она,— я не подумала.
Я в тот вечер всё же уехал к себе в Сыры. До четырёх утра пил вино и записал: «Такое впечатление, что её кто-то восстанавливает против меня».
Тогда же, в конце июля, она улетела внезапно в Казантип, это в Крыму, сказала, заниматься йогой. Взяла билет в Симферополь. Улетела. Набрав в интернете «КАЗАНТИП», я узнал, что именно в эти дни там открылся 15-й молодёжный фестиваль KAZANTIP. На вопрос, что там в Казантипе, мои парни сообщили мне: «Кислотная тусовка, Эдуард. Drugs, рок, секс и наркотики». Я понял, что это украинское Гоа.
Вернулась она в августе. Пока её не было (Богдана забирала к себе тёща) я дописал в её светлой солнечной квартире книгу рассказов «СМРТ», о Сербской войне. Без неё было хорошо!
Из Казантипа она вернулась очень сердитой. Даже физиономия у неё ожесточилась. С неделю после этого моя жена усиленно, исступлённо занималась хатха-йогой, ходила куда-то на собрания таких же, как она. Такое впечатление, что на «Казантипе» она пережила какое-то разочарование.
Её нападки на меня участились. Как кошка вдруг прыгает и ударит лапой, когтями.
Как это выглядело?
Вечер. Я энергично поглощаю приготовленный мною же ужин: мясо, овощи, пью вино. Она ест только овощи. Вино, впрочем, пьёт.
Она: Ты ешь так жадно!
Я: Ничего удивительного. Первый раз за день. Обычные мужчины поглощают раза в три больше еды!
Ловлю на себе её даже какой-то изумлённый взгляд, как будто она видит меня первый раз в жизни. Понимаю, что у неё происходит переоценка ценностей, и не в мою пользу.
Другой вечер. Я ждал показа сюжета на канале REN-ТВ, сюжета о себе и моих сторонниках. Сюжет не показали. Рассеянно продолжаем смотреть на экран. На экране кривоносый, длинноносый урод-ведущий, с большим галстуком.
Я: Ну и урод!
Она: Ты давно на себя в зеркало смотрел!?
Я даже не сразу нахожусь, что ей ответить. Я открыл рот, но звуки из меня не вышли.
Я: Почему ты так враждебна ко мне?
Она: Ну за что ты его, очень симпатичный мальчик (называет фамилию)…
Я некоторое время честно вглядываюсь в «симпатичного мальчика», вдруг я не прав. Я признаю, что не прав, я могу. Но нет же, он-таки урод и со второго и с третьего взгляда.
Ночь. Мы в постели. Заводит разговор о том, что цветов я ей не покупаю, что мы никуда не ходим. Что цветов не покупаю,— правда. Что никуда не ходим — не правда. Просто она перестала брать меня с собой, туда, куда её приглашают, а я перестал брать её с собой туда, куда приглашают меня.
Вечер. Я приехал к ней с цветами. Пьём вино. Её враждебность прорывается в момент, когда я позволил себе усомниться в гениальности ординарного актёра Абдулова, он заболел тогда раком.
Она: Кто ты такой сам! Кто ты такой, ты даже квартиру своей семье не можешь купить! Я, женщина, зарабатываю больше, чем ты!
Я хряпнул бокалом с вином об пол. Встал.
Я: Ты тупая! Я абсолютно уверен в том, что ты не понимаешь ни моего творчества, ни моих политических идей, ни величины моего таланта. Ты удручающе тупая. Боже мой, какая ты тупая!
И я уехал. Я как раз в эти дни заканчивал книгу «Ереси». В книге я высказал гипотезу о том, что человек-биоробот был создан Создателем — существом высшего типа, как энергетическая пища. Плоть создателю не нужна, он питается душами. Я был уверен и уверен сейчас, что на основе моей догадки можно создать мировую религию. А тут Абдулов, бледный от водки…
На следующий день я уехал в Харьков, на день рождения моей 86-летней матери. Украина только что отказалась от чёрных списков, где была и моя фамилия.
Когда я вернулся, то обнаружил, что она меняет окна. Я приехал повидать Богдана и попал в пыль и грязь. С Богданом пришлось встречаться у соседей, у дружелюбной чеченки Риты. Хрустя песком, и оставляя следы на полу, две семьи и бригада рабочих ходили из квартиры в квартиру. В этом бардаке я всё же проявил себя как ревнивый муж: сумел умыкнуть её телефон и укрывшись в туалете прочесть десяток эсэмэсок. Из содержания которых стало очевидным, что моя жена вновь собралась в Гоа. Она уже назначила там встречу десятку её знакомых. Она собиралась прибыть туда в конце декабря, с тем, чтобы встретить там Новый год. Я не закричал ревнивым Отелло, но промолчал. В конце октября актриса сама призналась, что собиралась в Гоа. Что хочет, чтобы и я отправился с нею. Чтобы бросил политику…
Я не успел ей ответить. Пришла её дочь:
Дочь: Мама, там Артур тебя ждёт в машине!
Она (заметно покраснев и растерявшись): Артур — мой друг. Я продала ему машину. Он обещал отвезти меня (называет куда, церемония вручения премии). Я вернусь через два часа. Посиди, пожалуйста, с Богданом, пожалуйста!
Я: О’кэй.
Я посадил Боги на колени, и он стал «рисовать», ну то есть энергично, бессмысленно ломать карандаши о бумагу. Пока он пыхтел, уничтожая и бумагу, и карандаши, я, его отец, размышлял. Возможно, да, друг. Но что с этой женской трясиной, куда она меня затягивает, нужно заканчивать, освобождаться от неё, мне стало ясно.
Как обычно бывает в случаях, когда отношения накаляются, в постели мы вели себя страстно. Тогда-то, в эти дни и ночи самого конца октября, мы и зачали тебя, Сашка, девочка, дочь моя.
*
— Я беременна,— сказала жена, выйдя из ванной.— Тест показывает.
В руке она держала общеупотребимый, такой продаётся в аптеках, простейший тестер на беременность.
— Поздравляю,— сказал я и подошёл к ней полуголой и обнял, бёдра её помню, были прохладными.— Не вздумай делать аборт, прокляну.
— И что при таких наших отношениях, ещё один ребёнок?— с сомнением начала она.
— Будем стараться,— сказал я.— Что бы ни случилось между нами, детей вырастим.
Мы обнялись.
Назавтра я отвёз её в женскую консультацию, к той же старой опытной докторше, которая наблюдала её беременную Богданом. Докторша подтвердила беременность.
Я позвонил моей матери в Харьков и сказал, что жена беременна.
— Господи!— сказала мать.— Сколько можно! Вы как кролики!
Этим неосторожным высказыванием мать лишь повредила своей репутации. Я, её сын, всегда считал, что родители хотят, чтобы я был, как все, с детьми, с семьёй. И вот пошли дети, а мать не рада…
Беглец
Когда именно мы сделали тебя, Сашка? Вероятнее всего, в тот вечер, когда я ездил знакомиться к депутатам Европарламента, их прибыла целая делегация, а меня пригласил Каспаров. Депутаты сидели за столами и обильно выпивали, и немного закусывали. Каспаров познакомил меня с десятком депутатов, но запомнил я только Хайди Хауталла, блондинку лет после сорока из Финляндии, и Кон-Бендита. «Зелёный» Кон-Бендит был полупьян. Он никак не мог взять в толк, почему только что запрещённая моя партия называется «Национал-Большевистской» и почему я воевал в Сербии за сербов. Я констатировал, что Кон-Бендит — глупый идиот. Так бывает, человек прославился однажды в мае 1968 года в Париже, и всю остальную жизнь проживёт идиотом.
Я довольно быстро ушёл из компании европейских парламентариев, поскольку актриса в тот вечер поехала зачем-то в клуб «РАИ», и мне пришлось её оттуда забирать. Я забрал, и мои парни отвезли меня в семью. Там мы зачали тебя, дочка, и поскандалили. Из-за Гоа. Я вновь убежал, вызвав парней среди ночи.
В первые дни ноября она явилась в квартиру в Сырах в последний раз. С нею явилась команда фотографов из журнала Rolling Stone, русская версия. Думаю, она искала примирения. Мы, возможно, и помирились бы ненадолго, если бы не моя новая страсть — шпионить. Я влез в её телефон и нашёл десятки месседжей от абонента ЗАРА. Тон их и содержание, не оставляли сомнения, что абонент — мужчина.
Я: Кто этот ЗАРА?
Она: Подруга.
Я: Почему в её СМС — мужские окончания?
Она (нехотя): Ну это мы так переименовали Петровича для конспирации.
Я: Кто такой Петрович?
Она: Ну ты помнишь, когда я только приехала, я показывала тебе фотографии в компьютере. Это с ним я разбилась на скутере. Он в Москве и помогает Рите продать квартиру.
Я подумал, что у них у всех идёт за моей спиной интенсивная, энергичная, двигательная жизнь. Встречаются, замышляют продажи, идёт активная связь через СМС. Просто пузырятся энергией. При этом они сбились в плотную кучу, с преобладанием женских особей, я посчитал: соседка Рита с дочерью-подростком, «моя» с дочерью-подростком, тёща, двое «индийцев»: Петрович и Артур… Вот только зачем всё это они от меня старательно прячут… Если ты не совершаешь преступлений, то чего прячешься?
Она: Ты помнишь, Петрович, такой плотный мужик…
Я вспомнил свиноподобного, полуобнажённого, и видимо, и пьяного, и обкуренного Петровича. Розовый блондин от природы, он не загорел, но залакировался на гоанском солнце, как пекинская утка. Эта мускулистая бочка была запечатлена рядом с моей мечтательной женой, глаза которой выражали сиропную лучезарную святость.
— Обкурились все?— спросил я тогда, глядя на их дуэт на экране.
Она: Да нет, что ты! Я до 1 апреля вообще не курила.
Поняв, что сказала лишнего, проговорилась, актриса поспешила закончить показ. Но я тогда запомнил свиноподобного Петровича и промелькнувшего восточного вида лысоватого типа с остатками волос вокруг черепа. (Интересно, что, когда я тогда через неделю захотел оживить свои впечатления от её гоанской фотогалереи и залез к ней в компьютер, галерея исчезла.)
Позднее, раздумывая, я пришёл к выводу, что лысоватый — это и есть Артур. Петрович и Артур занимали меня в ту осень 2007 года, вы представляете, меня, Фауста, шамана, мэтра… Петрович и Артур! Вот до чего доводят нас женщины, что эти двое, дауншифтеры, занимали мои мысли, так же, как и мои партнёры по политике — Каспаров и Касьянов!!! Премьер-министр и чемпион мира по шахматам рассорились свирепо 27 июня, похоронив коалицию «Другая Россия», созданную с таким трудом год назад. И вот они соревновались в моей голове, два этих Больших человека с «Петровичем» и «Артуром» за моё внимание. Боролись! Невероятно!
Актриса сидела на большой кровати в огромной пустой комнате в Сырах, молчаливая, и лицо её отображало на сей раз некую трагическую внутреннюю борьбу.
— Это, следовательно, Петрович присылает тебе тексты вроде: «С добрым утром, мой цветок! Еду к тебе, через десять минут буду!»
— Да. А что тут такого. Ну, может, он в меня немного влюблён.
За те два года, в которые мы любили друг друга, я утерял из виду понимание того, что да, в актрис все немного влюблены…
*
Именно в те дни, видимо, был у неё переломный период. Видимо, её качало из моей стороны в другую сторону. Во всяком случае, отчётливо помню, что она позвонила мне за день до дня рождения сына, 6 ноября, и, помолчав, сказала:
— Ты знаешь, я решила, что не поеду в Гоа.
— Отлично,— сказал я,— правильно решила.
— Ты приезжай, тут Лариса Николаевна с Виктор Сергеичем приехали, придут,— сказала она.
Я поехал, а зря. Потому что в присутствии посторонних глаз она опять стала чужой и враждебной.
— Не прижимай Богдана так сильно! Ты видишь, он недоволен… Отпусти его…
— Послушай, это и мой сын, а не твоя собственность. У каждого из нас своя манера обходиться с ним.
Она уже держала Богдана на руках и смотрела на него вампиром, сладко улыбаясь. А он вырывался, он ведь научился ходить, и ему хотелось ходить, ходить, ходить. Я его понимал.
День рождения номер один начался с того, что он встал ещё до рассвета, и, полный энергии, стал срывать шторы с окон. У нас были такие, знаете, сворачивающиеся мгновенно в рулон серые шторы на окнах. На ночь мы их опускали. Богдан сорвал одну очень профессиональным, косым движением, и она повисла, и рванул вторую. Мальчик он был уже сильный. Я вскочил с постели и встал рядом с ним.
— Богдан! Не сметь!— я взял его за плечи и повернул от окна к нашей кровати.
Тут вскочила жена.
— Отпусти ребёнка!
В глазах её была ненависть. А Богдан даже не кричал, потому что не было причин для крика. Он с удивлением, вытаращив глазёнки, глядел на мать. Она выглядела как фурия. Я не выдержал.
— Слушай, иди ты на хер! Ты заебала меня своими замечаниями! Я всего лишь остановил сына, срывавшего шторы с окон. Я его даже не шлёпнул.
На шум явилась тёща. И приняла мою сторону. Я всё равно оделся и злой, как дьявол, отправился закупать алкоголь для гостей. Мы ожидали с десяток гостей.
К концу вечера скандал вспыхнул опять. Когда ушли журналисты журнала «Хелло!» и большая часть гостей, я уже изнемогал он замечаний жены:
«Он не хочет воды, что ты ему заливаешь в горло воду!»
«Отпусти его, он хочет гулять!»
И её наиболее любимое:
«Не прижимай его так, ты его раздавишь!»
Сами они, все эти женщины, жена, тёща, дочь, плюс чеченка Рита и её дочь-подросток только и делали, что тискали моего сына и прижимали его единственного мужчину на весь этаж. Они ахали, охали и передавали его из рук в руки. Я смотрел на них смотрел и вдруг швырнул в проходящую у дальней стены жену бокалом, за все мои муки. Это было плохо, но это было честно. Все эти женщины, целых пять, создали своеобразный культ личности Богдана. Неуместный, назойливый, и в конечном счёте, вредный для него. У них ни у кого не было мужчины (моя жена была в процессе избавления от меня, тёща изгнала мужа давным-давно, у Риты мужа убили, у двух девочек пятнадцати лет ещё не было мужчин), и они, каждая, перенесли всю свою невротическую нереализованную страсть к мужчинам на Богдана. Он был в опасном положении.
Я швырнул не один бокал. Несколько. При этом я ещё и кричал: «Вы думаете, punk умер? Великий панк жив! Punk is not dead!» Жена ушла в другую комнату и не показывалась.
Пришла тёща и сказала:
— Как вы себя ведёте, Эдуард! Как хулиган-подросток! Я сейчас вызову милицию! Уходите из моего дома.
Оставшиеся гости, горстка, поспешно ушли. И я ушёл. Вместе с моими гостями, мои друзья Александр и Наталья довезли меня ко мне в Сыры и уехали. Помню, что засыпая, я очень мучился тем, что нарушил партийную дисциплину, не вызывал охрану и потому покинул квартиру неохраняемый. Такое нарушение дисциплины непозволительно, думал я во сне. Непозволительно.
*
Свою семейную жизнь я наутро посчитал законченной. Я знал себя уже столько лет, чтобы безошибочно понять: всё, тупик. Стать нормальным человеком, отцом семейства, мне не удалось. Пусть я и старался. Но мой мощный дух не смог смириться с тем, что меня исподволь затащили под скудно освещённые небеса, где в кустах и кулисах бегают, скрываясь, чёрт знает какие персонажи, Артуры и Петровичи, целая стая женщин разрывает на части и сюсюкает над моим единственным сыном, вырывая его друг у друга.
Своё поведение вчерашним вечером я не одобрил. Помнил я всё прекрасно. Чтобы меня напоить, до сих пор нужно влить в меня добрые полведра спиртного, пьян я вчера не был. Дело в том, что мой гордый дух не выдержал того, что меня пытались сломать. Сделать придатком к семье. Но не удалось. Я попытался вспомнить, что же конкретно вызвало мой гнев, отчего полетел в жену бокал? Пока я приготавливал себе кофе, я перебирал эпизоды вчерашнего вечера. Вот входит мой адвокат Беляк, он же крёстный Богдана. Вот он уходит, долго не задержался. Вот тёща. Приветствует в прихожей не то двоюродную, не то троюродную сестру моей жены с мужем. Оглядывается вокруг:
Тёща: А где же хозяин дома?— обнаруживает выходящего из кухни Богдана.— Ах вот он хозяин, виновник торжества!
Жена (к журналистам «Хелло!»): Сейчас вот усажу Хозяина дома и начинайте,— берёт Богдана в белой рубашечке, лобастый Богдан похож на Ильича Ленина в детстве, сажает в детский стул.— Вот он хозяин, готов!
Вот где trigger вчерашнего скандала. Они, простые, в общем-то женщины, избрали себе хозяином дома моего мальчика. Мальчик беспомощен, у него нет охранников, он зависит от них, женщин, он даже возразить не может, говорить ещё не научился. Ей муж не нужен был, ей нужен был ребёнок! Всё так просто, а Петровичи и Артуры,— это ложный след, даже если актриса и выспалась с одним из них, или даже двумя в разное время.
Кто мне недавно об этом говорил? Кто-то говорил или я где-то прочёл. А, конечно же, я пожаловался своему гуру, Пшеничникову, и тот прислал огромное письмо. Пшеничников написал мне в тюрьму целый том, наверное, писем, после тюрьмы он пишет реже, но никогда не оставляет вопрошающего без ответа. Следует посмотреть в папке «ПШЕНИЧНИКОВ», в папке «ПШЕНИЧНИКОВ». Вот.
«Когда женщина оформляется, когда она лет в двадцать полностью входит в свою половую роль, она начинает искать пути преодоления зависимости от мужчины. Если она выходит замуж, то это желание вообще усиливается до максимума. Место любви у ограниченных людей быстро занимает зависть. Женщина не хочет зависеть, она хочет, чтобы от неё зависели. Изменить и подчинить мужчину невозможно. Поэтому она решает (природа ей подсказывает) завести маленького мужчину, который ещё лет двадцать будет от неё зависим. Природа хитро придумала. Разделив человечество на два пола, каждый из которых энергетически зависим от другого, она обеспечила воспроизведение вида. Всем хочется любви, то есть обладания. Кажется, что брак — это обладание. Вступают в брак, но в браке противоречия ещё более очевидны, ещё более на виду. Женщина решает, что ребёнок — это выход, ей будет кем командовать. А мужчина разрешает ей этот промискуитет. Ведь женщина, по сути, пытается повторить с ребёнком брак. Не сумев подчинить мужчину, сделать его бессильной дойной коровой, она пытается сама родить зависимого от неё мужчину. Заратустра, литературный персонаж, говорил: «Всё в женщине — загадка, и всё имеет разгадку. Эта разгадка — ребёнок. Мужчина для женщины — лишь средство, цель же — дитя»».
Пшеничников, как всегда, положил палец прямо на рану. Всё так. Меня победил мой сын.
Хотя я и посчитал свою семейную жизнь бездыханной, однако она, хромая и тяжело дыша, прожила ещё два месяца.
В середине ноября я написал ей длинное, на семь страниц письмо, объясняющее наши отношения. Среди прочего, я писал:
«Действительно, вы меня выжили. Ну как всегда, намерения у вас благие и серьёзные. Богдану нужна бабушка, ведь ты работаешь, потому бабушка, а где в этой истории я оказываюсь? Я оказываюсь в своём кабинете в Сырах. Моя сексуальная жизнь также практически разрушена, потому что она стала спорадической, иногда. Тихо. Чтоб не разбудить Богдана или тёщу. Для меня важна жизнь моих страстей, а она раздавлена, как червяк ⟨…⟩ Я говорил тебе: давай няню заведём, она будет приходить и уходить, что самое важное. Но ты не хочешь, чтобы Богданом занимался чужой человек. Не собираешься ты, видимо, и отдавать Богдана в детский садик. Ты его никуда не записала и, видимо, не хочешь, чтобы он был в «чужих руках». А я? Неужели все семьи «убивают» отцов ради ребёнка?»
Письмо я передал со Стасом, очкариком, он поехал и вручил ей лично в руки.
Ныне, глядя на тот период моей жизни через плечо, я испытываю лишь неглубокую грусть по поводу неудавшегося проекта «семья», но тогда я страдал глубоко. В результате у меня обострилась астма.
Она позвонила мне вскоре, я сидел в это время за столом в моих Сырах, за окнами шёл снег.
— Ну что?— спросил я.— Ты прочла моё письмо?
— Да. В чём-то ты прав,— сказала она. Дальше она завела речь о том, что мужчина должен устроить жизнь семьи.
*
Я стал опять ездить в семью. В первый же приезд она показала мне пустую полку в своём шкафу.
— Можешь разместить здесь свои вещи.
— Хорошо,— сказал я. Но так и не привёз в её дом ни одной вещи. Не из обиды, а просто уже привык путешествовать с портфелем, имея там пару белья, партийные бумаги и рукопись, над которой работал.
В памяти от этих последних месяцев у меня странным образом не осталось ни единого эпизода секса с ней, из чего я делаю вывод, что больше у нас секса не было, а когда я заявлял свои права на него, то происходил скандал. Об этом чуть позже, а вот всякие жизненные эпизоды происходили, и я о них помню. Помню, как сердитая и суровая, она села в шубе, с Богданом в мою машину, и мы повезли его в больницу, где-то рядом с зоопарком. Почему-то мы приехали к самому дальнему от приёмной доктора входу, и мне пришлось тащить увесистого Богдана в зимней одежде на руках, несколько километров. Охранники шли рядом, я мог передать его охранникам. Но гордость не позволяла. Помню и обратный путь: тоже было тяжело. Она молча шла рядом, как фурия ада, злая и подозрительная. Я подумал, что она делает всё, чтобы я не любил её.
В Новый год она куда-то уехала часов в восемь вечера и вернулась часов в десять. Мы приготовили ужин, в квартире пахло жареным мясом. Но поскольку любовь умирала, то ничего похожего на прошлый счастливый доверху Новый год не получилось. Уложили Богдана спать в комнате дочери, а сами уселись втроём в большой комнате за стол у телевизора. Нас, как и всех, поздравил президент, которого я оспариваю.
В двенадцать выпили, встав, за Новый 2008-й год. Поели. О чём-то незначительном поговорили. Так пролетели часа два. Она всё время отвечала на телефонные звонки и долго разговаривала по телефону, бродя по квартире, уходя на кухню, в комнату дочери, и возвращаясь. Я наблюдал за ней с некоторой отстранённостью, словно она не была моей женой. Лицо её стало чрезмерно суровым, отметил я. Между тем, женщина эта уже носила в себе второго нашего ребёнка.
— Пойдём в постель?— предложил я.
— Ты иди,— сказала она,— я приду позже.
Поскольку беременной пить много было нельзя, несовершеннолетней тоже, я поскучал ещё немного с ними и пошёл в постель, заглянув до этого в комнату дочери. Дочь сидела перед компьютером, мать полулежа говорила, смеясь, по телефону.
— Пошли!— сказал я.
— Да-да,— рассеяно продакала она.
Я лег и, повозившись, вдруг уснул.
Проснулся, как сказали бы в старом романе, «от желания». Протянул руку, постель пуста. Встал, заглянул в комнату дочери. Сцена не сместилась ни на миллиметр. Та же дочь в розовых шортах, ноги сплелись голые под столом, горит компьютер. Та же жена, только сняла чёрное платье, в углу кровати дочери, ноги коленями вверх, в лифчике и трусах (жэковцы сделали свой дом очень тёплым), говорит по телефону.
— Что же ты?— сказал я.— Я тебя жду!
Она отключила телефон и посмотрела на меня злыми глазами.
— Я не обязана удовлетворять твою похоть.
— Похоть? Мы с тобой муж и жена, ты забыла?— я протянул к ней руку.
Она отшвырнула мою руку, как-то даже ударила по ней, и, вывернувшись из-под руки, одним движением оказалась в коридоре.
— Ты что себе позволяешь?!— сказал я.— Идём? Твоя дочь смотрит…
Сцена была унизительно-обывательская. Жена в лифчике и трусах. Я — в трусах. Я понимал всю унизительность, ничтожность сцены.
— Я сейчас вызову ментов!— закричала она. Разъярённая, она чуть пригнувшись, сдав зад в глубину коридора, напоминала позой дикую кошку, такие бродили по помойке на дальней стороне её переулка и принимали подобную позу, защищаясь от ворон или человека.
Она ещё что-то кричала, но я уже надел джинсы, они висели на вешалке в коридоре и тотчас стал уже не мужем этой истеричной женщины, но командиром, который отсидел в тюрьме, за которым шли люди. Ещё босиком, я набрал телефон охраны, и они, многострадальные, ответили: «Сейчас выезжаем, шеф!» Я пошёл на кухню, оделся полностью, налил себе портвейна, водки не было и стал ждать парней. Они приехали очень быстро, видимо, были где-то неподалёку. Всё время пока я ждал и пил, в квартире царила тишина. И когда я уехал, то ничто не прервало тишины. Ни один звук не раздался.
На следующий день мы помирились по телефону. Она позвонила, извинилась за поведение, сославшись на беременность.
Мы протянули отношения до русского Рождества, до 6 января.
К вечеру этого дня мы отправились с Богданом к тем самым Александру и Наталье, которые увезли меня 7 ноября с дня рождения моего сына. Их семья, состоявшая, кроме них двоих, из мамы, 90-летней бодрой бабушки, и двух дочерей, семи и восьми лет, устроила праздник. Были ещё гости, но я их не запомнил. Единственный мальчик среди четырёх девочек (две дочери А. и Н. плюс две пришедшие девочки), Богдан, несмотря на нежный возраст, пользовался большим успехом. Я терпеть не могу обывательские сборища, но я терпел ради семьи: ребёнка и жены. Они же должны общаться с себе подобными. Я умел общаться только с парнями и девушками из партии, да ещё с мёртвыми, я давно не бывал в гостях. Но я выдержал молодцом.
Мы спокойно сели в машину. Двое моих парней, водитель Стас и охранник Димка, отвезли нас. Мы уложили Богдана, собрались идти в постель. И вдруг не то она позвонила по телефону, не то ей позвонили, но через некоторое время я обнаружил её сидящей в комнате дочери и весело болтающей по телефону. Сцена в первые часы нового года повторилась до деталей: также были согнуты её ноги в коленях,— коленями на меня, входящего в дверь, она опять была в лифчике и в трусах, на дочери были те же розовые шорты. Только я был ещё в джинсах, но уже с голым торсом. Там же было жарко, я уже упоминал.
Я: Пойдём?
Она: А зачем?— она отключила телефон.
(«Как и в Новый год»,— констатировал я.)
Я: Ты моя жена или нет?
Она: Я не хочу!— она сморщила нос.— Не хочу сейчас. Может, завтра захочу.
Я: Слушай, мужчина и женщина соединяются не только для совместного производства детей, но и для того, чтобы приносить друг другу радость. Ты давно уже не приносишь мне радости. Идём?
Мне удалось взять её за руку. То есть поймать её ладонь. И я потащил её руку на себя. Я был зол и спокоен.
Она повторила свой новогодний манёвр. Опять оказалась в кошкиной позе в коридоре. Опять закричала:
— Я сейчас вызову ментов!
Я признаюсь вам, что как мужик отсидевший, как мужик страдавший, я не могу выносить такой крик, да ещё и от близкого человека! Это как предательский удар ножом. К тому же быть задержанным за бытовой скандал в семье, это же очень унизительно. Что скажет милиция, увидев меня, что напишут СМИ. Что скажет общество?
Я: Ты идиотка! Идиотка и гопница, я всего-навсего хочу тебя. А ты моя жена, ты хоть соображаешь, что я имею право? Да менты смеяться над тобой будут. Муж, шестидесяти пяти лет домогается секса от тридцатитрёхлетней жены, а она уклоняется. Это же кому скажи, не поверят!
— Я вызываю ментов!— закричала она и застучала по клавишам телефона.
— Я сейчас уеду,— сказал я,— и не вернусь никогда!
И я пошёл на кухню. Я думаю, она не поверила.
Я набрал ребят, извинился, что дёргаю их в новогодние праздники и попросил приехать как можно быстрее. Затем я сел в кухне, нашёл употреблённый конверт, найти в её доме лист бумаги было всегда нелегко, а я был в этот вечер без портфеля. И я написал ей на конверте прощальное письмо. Я написал ей, что больше не могу с ней жить. Что детям буду помогать. Что мучиться с нею, не любящей меня больше, не в моём характере. Что она нанесла мне огромную рану, что я надеялся: вот я обрёл, наконец, семью, жену и детей. А она, дав было мне всё это, разрушила зачем-то всё, что мы вместе создали.
Парни приехали. Я молча вышел, прошёл по снегу к машине и всю дорогу в мои Сыры молчал. Только, выходя из машины, ещё раз извинился перед парнями. «Это наша обязанность. Служба»,— сказал старший, Михаил. И прибавил: «Я солдат».
В Сырах моя квартира встретила меня простыми запахами бедной жизни. Как бы укоряя, мол, что ты там шляешься, у актрис?! Ты же простой и бедный, здесь твоё место.
Раздеваясь, застилая постель в кабинете, я размышлял. Подумал о партии, товарищах по борьбе. Сколько женщин сменилось за эти годы. Наталья, Лиза, Настик, вот и последняя жена пронеслась мимо, и только партия со мной. Я лёг и вдруг развеселился. Улыбнулся в темноте. «Это же ваше бегство в Астапово, Лев Николаевич Лимонов, но вы умнее Толстого, сэр, не стоит дожидаться, пока она превратится в бетонную Софью Андреевну. Э, нет, со мной ваш номер не прошёл! Девку в трусах и лифчике я себе ещё не одну найду…».
*
Через несколько дней она улетела в Гоа, беременная и с Богданом. Я узнал об этом случайно.
Тут будет уместно представить текст, над которым я тогда работал. Опубликовал я его много позднее. Меня интриговала их, женщин, загадка. И я обратился к прародительнице, первой женщине, Еве.
Праматерь наша Хавва
Науки сейчас проснулись от спячки. В последние годы казавшиеся невероятными доселе теории принимаются одна за другой, в то время как старые разодраны, как жалкие подушки, и только перья летают. Специальная теория относительности Эйнштейна уже некоторое время выглядит несостоятельной ввиду роковой ошибки эксперимента А.Майкельсона по измерению скорости эфирного ветра, лежавшего в её основе. И только застарелый пиетет общества к всклокоченному «гению», похожему на неопрятного сумасшедшего, мешает человечеству пинком сбросить теорию относительности с парохода современности. Все науки взрыты заново, никаких не осталось зелёных «лужаек». Груды щебня, расселины, проседания, дыры — вот что мы видим, вот каковы пейзажи наук. Я как убеждённый сторонник конфликтов, противник стабильности, считающий конфликт мощнейшей креативной силой, радуюсь такому положению вещей и довольно потираю руки. Фундаментальный интерес, конечно же, испытывает человечество прежде всего к своему происхождению.
Я давно считаю человека биороботом, созданным Создателем с целью удовлетворения его потребности в энергетической пище (ему отвратительна наша плоть, но ему катастрофически необходимы наши души). При этом закоренелый еретик, я вдруг обнаружил себя неожиданно приблизившимся к Книге Бытия, я принял на веру описание создания Человека и Женщины, и первые приключения наших прародителей на Земле меня убеждают. Я решительно считаю, что человек не принадлежит к фауне Земли, но лишь создан Создателем на основе этой фауны, путём магических операций.
У библеистов общепринято считать, что первые одиннадцать глав Книги Бытия, самого развёрнутого описания создания человека и описания его первых мытарств, записаны египтянином Мозесом, он же великий пророк евреев Моше (Моисей). Вообще-то Мозесу приписывают написание как минимум двух книг Пятикнижия (еврейская Тора, она же христианская Библия), но там авторство под огромным вопросом. А вот первые одиннадцать глав не вызывают сомнения. Даже невнимательный читатель первой и второй глав Книги Бытия замечает, что каждая глава излагает свой вариант создания человека. В первой главе Человек и Женщина созданы одновременно: «И создал Бог Человека по образу Своему, по образу Бога / Он создал их самцом и самкою. Он создал их».
Во второй же главе сказано: «И сотворил Яхве-Бог Человека из праха земного, и вдунул в его нос дух жизни, и стал человек живой душою». Женщину же Бог сотворил следующим образом: «И напустил Яхве-Бог сон на Человека, и он заснул, и Он взял одно из его ребер, и нарастил плоть вместо него. И сделал Яхве-Бог ребро, которое он взял у Человека, Женщиной, и привёл её к Человеку». Здесь налицо воссоздание, клонирование из ДНК человека нового существа иного пола. Магическая операция, конечно же, клонирование, до сих пор магическая, которую наука, я не сомневаюсь нисколько, будет способна совершить уже через несколько десятков лет.
Женщина — центральный персонаж всей третьей главы Книги Бытия. Она еще не называется Евой (что по-еврейски звучит как «Хавва» и переводится как «жизнь»). Адам в третьей главе ещё не Адам (переводится как «красный», а также «почва»). Они Человек и Женщина.
Вся третья глава Книги Бытия — важнейший эпизод первоистории человечества: грехопадение.
Христианство считает эпизод грехопадения катастрофой человечества. Манихеи (приверженцы манихейства, очень мощной и влиятельной религии, соперничавшей в III–VIII веках н. э. с христианством) называли Еву творением Дьявола.
А что там, собственно, произошло на самом деле? В райском саду, называемом Эдем, а ещё точнее — Эден, что?
Грехопадение — одна из излюбленных тем искусства, она невыносимо живописна. Грехопадению посвящены тысячи шедевров, стоящая под деревом пара, обнажённые Человек и Женщина, она протягивает ему плод, обыкновенно яблоко, а вокруг ствола обвился Змей; грехопадение — важнейшее событие Трагедии Человечества. Сцену грехопадения изобразили все великие европейские художники: и Микеланджело в фресках Сикстинской капеллы, и Тициан, и Лукас Кранах, и Дюрер, и бесчисленное количество других. Между тем в главе третьей Книги Бытия история рассказана скупо и немногословно.
«А Змей был хитрее всех полевых зверей, которых соделал Яхве-Бог. И он сказал Женщине: «Разве сказал Бог: не ешьте от всех деревьев Сада?»
И сказала Женщина Змею: «плоды деревьев Сада мы едим,
А плоды того дерева, что посреди Сада, сказал Бог: не ешьте от него и не касайтесь его, чтобы вы не умерли».
И сказал Змей Женщине: «умереть вы не умрёте,
Ибо знает Бог, что в день, когда вы поедите от него, откроются ваши глаза, и вы будете, как боги, знающими добро и зло».
И увидела Женщина, что хорошо это дерево для еды и что вожделенно оно для глаз, и приятно это дерево на вид, и взяла его плодов и ела, и дала также своему мужу, и он ел с нею.
И открылись глаза у обоих, и они узнали, что наги они, и собрали листья смоковницы, и сделали себе пояса.
И услышали они голос Яхве-Бога, прохаживавшегося по Саду по дневному ветру, и спрятались Человек и его жена от Яхве-Бога среди деревьев Сада.
И воззвал Яхве-Бог к Человеку, и сказал ему: «Где ты?»
И он сказал: «Твой голос я услышал в Саду и испугался, ибо наг я, и спрятался».
И Он сказал: «Кто поведал тебе, что ты наг? Не от дерева ли, от которого Я велел тебе не есть, ты поел?»
И сказал Человек: «Жена, которую ты дал мне, она дала мне от того дерева, и я ел».
И сказал Яхве-Бог Женщине: «Что это ты наделала?»
И сказала Женщина: «Змей соблазнил меня, и я ела»».
*
Далее в главе третьей следуют гневные речи Яхве-Бога в адрес всех троих участников грехопадения: к Змею, к Женщине и к Человеку. Все трое молчат, не возражают, покорные, повинуются как малые дети.
«И сказал Яхве-Бог Змею:
«За то, что ты сделал это, проклят ты больше всех скотов и всех полевых зверей.
На своем животе будешь ходить
И прах будешь есть все дни своей жизни.
И вражду Я установлю
между тобой и женщиной
и между твоим потомком и её потомком.
Он будет поражать тебя в голову,
а ты будешь поражать его в пятку».
Женщине Он сказал:
«Умножить умножу Я
твои муки и твои тягости.
В муках ты будешь рожать сыновей,
и своему мужу ты покоришься,
и он будет властвовать над тобою».
А Человеку Он сказал:
«За то, что ты послушался своей жены и поел
от дерева, о котором Я повелел тебе, сказав: не ешь от него,— проклята Земля из-за тебя,
в муках ты будешь питаться
все дни своей жизни,
и кустарник и чертополох будут расти у тебя,
и ты будешь есть полевую траву.
В поте своего лица
ты будешь есть хлеб,
пока не вернёшься в землю,
ибо из неё ты взят,
ибо прах ты, и во прах обратишься»».
*
Далее следует сцена изгнания из Рая. Ещё один драматический эпизод истории первой человеческой пары. «И назвал Человек свою жену Ева, ибо она была матерью всего живого». (Правильнее было бы здесь употребить будущее время, написать вместо «была» — «будет», но мы же с вами не можем поправлять Книгу Бытия.)
«И сделал Яхве-Бог Человеку и его жене одежды из шкур, и одел их. И сказал Яхве-Бог: «Вот человек стал, как один из нас, знающим добро и зло. А теперь как бы не протянул он руку свою и не взял бы также от Дерева Жизни и не поел, и не стал бы жить вечно!»»
«И отослал его Яхве-Бог из Сада Эдена работать на Земле, откуда он взят. И Он изгнал Человека и поставил перед Садом Эдена керубов с огненными сверкающими мечами охранять дорогу к Дереву Жизни».
Всё, Рай потерян. В Эден нет возврата.
Что же, собственно, произошло на самом деле? В чём смысл грехопадения?
В христианской библейской традиции Змей-Искуситель отождествляется с Сатаной. (В иудаизме Змей — это ангел Самаэль.) Сатана искусил Еву плодом, она искусила мужа своего. Таким образом первые люди проявили свою непокорность Создателю. Одновременно, откушав от плода Древа Познания, они лишились состояния невинности, неразумности. Простой человек профанически толкует для себя грехопадение как пробуждение в Человеке и его жене сексуального инстинкта, похоти. Это неверное толкование. Создатель предназначал Человека к размножению, кредо «плодитесь, размножайтесь!» оглашено сразу же в первой главе. Поэтому Создатель не должен был гневаться на поведение, которое сам разрешил. Дело тут не в этом. Змей на самом деле дал Человеку Разум. «Поешьте и будете как боги!» Когда Создатель создал Человека из красной глины (отсюда и имя ему Адам — «красный»), он вдунул ему в нос «дух жизни», оживил глину. Но «дух жизни» есть во всех животных. А вот Змей подсунул Еве и Адаму некий плод с Древа Познания. Уговорив праматерь Еву, первую женскую особь человека, откушать плода с Древа Познания, Змей знал, что мякоть, сок этого плода путем химической и одновременно магической реакции активизирует мозг биоробота. Ведь головной мозг имеется у множества видов животных, однако не исполняет функции мышления, а является лишь центром управления рефлексами. Змей ведь сказал Еве: «И будете как боги». И активизировал через сок загадочного плода с Древа Познания головной мозг биоробота. Все, дело сделано, человек стал Разумным, и теперь разумными будут все его потомки. Вот за что так бешено озлился Создатель, а вовсе не за какой-то жалкий секс пары.
Многое объяснит одна история. Однажды, помню, в Париже со мной случилось чрезвычайное происшествие. У меня «выключили» на какое-то количество минут, разум. Случилось это в начале восьмидесятых годов. Я ехал в парижском метро, направляясь в моё издательство Ramsay, находившиеся на rue Cherche-Midi. Мне нужно было выйти из метро на остановке «Бульвар Сен Жермен». Там есть два выхода. Я всегда выходил из того, который находится у базилики Сен-Жермен, переходил бульвар поверху, шёл некоторое время и попадал на мою rue Cherche-Midi. В этот раз я вышел из метро и оказался в совершенно незнакомом месте! Некий узкий эскалатор вывез меня прямо на улицу. Меня окружали серые плиты зданий. Я сошёл с эскалатора и прислонился к стене дома, потому что меня обуял ужас. Я понял, что не знаю на какой улице я нахожусь, в каком городе, в какой стране. Я не знаю, куда я иду и какое у меня имя. Я вообще вряд ли понимал, человек ли я. Такого страха я никогда в жизни не испытывал. У меня не кружилась голова, но у меня была на какое-то время совсем стёрта память. Я шёл, помню, сворачивал в переулки, потом остановился опять в беспомощном ужасе. Я потерял разум, и всё, что к нему полагается: ориентировку, самоидентификацию, все знания.
Внезапно разум включили. Первой вернулась ориентировка, я понял, где я нахожусь. Затем осознал, кто я. Последним я вспомнил, куда я шёл. Я не пошёл в издательство, я вернулся к метро и выяснил, что в этот раз я вышел из второго выхода из метро «Сен Жермен», он находится в переулке, за Банком Насьёналь де Пари. В этом банке у меня был счет, я часто посещал это агентство BNP, как я мог не узнать окрестности? Выход этот небольшой, почти незаметный, узкий эскалатор вывозит струйку людей прямо на улицу. Домой я пошёл быстро, пешком, опасаясь, что разум опять отключат.
Полагаю, что до вмешательства Змея первая пара биороботов на самом деле находилась в состоянии, подобном тому, которое я испытал в середине восьмидесятых годов в Париже. Но без моего чувства ужаса, потому что до вмешательства Змея-Люцифера, до активизации мозга, они не были разумны. Потому они не пугались своего безразумия. Они испугались, когда отведали плода Древа Познания, испугались, увидев тот же мир разумными глазами. Потому они и прятались от ужаса среди деревьев Эдена. Возможно, им стали ясны и недобрые намерения Создателя.
Активация была мгновенной, по характеру сродни той, что совершил Создатель, вдохнув в человека «дух жизни». Но и несколько иной по существу. «Дух жизни» — это собственно животная «anima», сама жизнь, оживление организма. Змей же заставил заработать уже существующий и у животных головной мозг. Но заработать в ином, высшем режиме. «Будете как Боги». Змей-Люцифер мгновенно наделил человека воображением, размышлением, наблюдением, анализом, памятью,— поистине они стали как Боги (в сравнении с животным миром), но только не бессмертны. Человечество Змею-Люциферу многим обязано. Ведь разум осветил для человека окружающий его мир: Землю, планеты, небеса, звёзды. Апокрифические фрагменты мифов о благодетеле человечества Прометее, принёсшем человечеству огонь, отождествляют его с Люцифером. То, что авраамические религии сделали из падшего ангела Чудовище с рогами, копытами, серным запахом, восседающее где-то в Аду, нам понятно почему. Это месть.
Кстати, Сатана, он же падший ангел Люцифер (буквально «светоносный»), видимо, был «низвергнут» с небес именно за этот свой проступок. Ведь Создатель изготовил биоробота для своих целей энергетического насыщения как безразумного (говорят «безмозглый»), не понимающего, а Сатана (Змей, Люцифер) снабдил его разумом. Кстати, катары — еретики XII–XIII веков из французской провинции Лангедок — считали Люцифера старшим сыном Бога. А младшим они считали Иисуса.
*
Всё. Их изгнали из рая. В Сикстинской капелле Микеланджело поместил «Изгнание из Рая» рядом с эпизодом «Грехопадение». Эмигрантом в холодном Риме в январе 1975 года я задирал голову на свежереставрированные тогда фрески и был полон священного ужаса. Потупив глаза, бежит пара. В Эден им нет возврата. Согласно библейской традиции, керубы — это свирепые ангелы с головой человека и телами животных, стерегут вход в Райский Сад. Вот как разгневался Создатель. Согласно легендам древности, Эден, находившийся где-то между реками Тигр и Евфрат, вскоре затопила вода. По другим, исламским источникам (об этом, в частности, упоминает татарский автор Фарит Яхин в книге «История пророков», а Адам в исламской традиции не только первый человек, но и первый пророк), изгнав из Рая прародителей, мстительный Создатель этим не ограничился. Он разделил их и разлучил. Адам скитался в Индии, а Ева — в Аравии. Но они все же нашли друг друга опять. Но это исламская версия.
Глава же четвёртая Книги Бытия начинается так:
«И Человек познал Еву, свою жену, и она понесла, и родила Каина, и сказала: «Приобрела я мужа от Яхве». И еще она родила Авеля, его брата»».
Вот это «мужа от Яхве» может означать, что, сделав Женщину из ребра Адама, Яхве дал ей мужа Адама. Но может означать что-нибудь, чего лучше бы не было. Одна из версий происхождения Каина в иудаизме такова: Каин был сыном Евы и ангела Самаэля. Есть версии, что Ева была беременна Каином уже в Эдене и её изгнали беременной. А вот в случае Авеля отцовство Адама никто не оспаривает.
Далее глава четвёртая повествует о первоубийстве, когда первый рождённый на Земле человек убивает второго рождённого на Земле человека якобы из ревности к вниманию Яхве-Бога. Яхве-Богу понравилась жертва, принесённая ему Авелем — пастухом овец («А Авель принес от своих первородных овец и от их молока»), а жертву Каина он воспринял равнодушно, ибо это были «земные плоды»: «И призрел Яхве на Авеля и на его дар, а на Каина и на его дар не призрел. И очень разгневался Каин, и опало его лицо».
Мне версия убийства брата из ревности к вниманию того самого Создателя, который только что, злобный Гонитель, изгнал его родителей из благодатного края, представляется неправдоподобной. Причина для убийства была другая. Человечество пыталось и пытается понять, какая же. Я недавно слышал такую экзотическую версию, пришедшую из иудаизма. Земледелец Каин, для которого быки или волы были друзьями-помощниками в тяжёлой работе возделывания пашни, убил принесшего в жертву Яхве-Богу «от первородных овец» брата. Месть за убитое животное.
Моя версия: Каин убил Авеля из ревности, но не к вниманию Бога-Яхве, депортировавшего его родителей из Рая, наказавшего их, её — муками рождения детей, его — тяжёлой работой. Каин убил брата из-за ревности к женщине. К единственной женщине, существовавшей тогда на Земле, к Еве, к матери.
Время оголтелого царствования дарвинизма миновало, ученые в последнее время накопили небывалое количество доказательств того, что человечество, вероятнее всего, действительно происходит от одной женщины, от прародительницы всех нас — от той, кого традиция называет Ева.
Взглянем на ситуацию семьи первого Человека. У него есть женщина и двое сыновей. Сыновья подрастают, у них пробуждается, что естественно, сексуальный инстинкт, а женщина только одна. Между тем никаких социальных табу еще не установлено. Поэтому и полигамия и промискуитет, естественно, являются нормой в семье первочеловека. Возможно, что ещё подростками оба сына капризами вымогали у матери и ласки, и соитие. А возможно, и насилием, позже, когда выросли. Поскольку я же говорю, что табу не существовало ещё, потому что общества ещё не было, некому было выработать табу. Неизвестно, как смотрел на совместные любовные игры сыновей и Евы Адам. Возможно, он не делал из этого big deal, считал естественным. Повзрослев, сыновья в конце концов стали, видимо, выдирать единственную имевшуюся самку у отца и друг у друга. Всё это привело к убийству старшим сыном младшего.
Убийство совершилось. «И ушел Каин от Яхве, и поселился в стране Нод, супротив Эдена.
И познал Каин свою жену, и она понесла и родила Ханоха».
Если хотите разозлить своего священника, придите и задайте ему вопрос: кто была жена Каина, святый отче? Ведь на Земле тогда жили только трое: двое из них мужчины, Адам и Каин, а самка была одна — праматерь Ева. Кто же был женою Каина?
Священник очень разозлится, потому что жена Каина есть больное место в Ветхом Завете. Я вот знаю, что вам ответит священник. Он сошлётся, с трудом сдерживая гнев, на главу пятую Книги Бытия и процитирует её самое начало:
«Эта книга родословий Человека. В день, когда создал Бог Человека, по подобию Бога Он сотворил его, самцом и самкою он создал их, и благословил их, и назвал их: Человек, в день, когда он создал их.
И жил Человек сто тридцать лет, и родил по своему подобию, по своему образу, и назвал его Шет. И было дней Человека после того, как он родил Шета, восемьсот лет, и он рождал сыновей и дочерей. И было всего дней Человека, которые он жил, девятьсот тридцать лет, и он умер».
«И он рождал сыновей и дочерей»,— повторит священник. С удовольствием.
А вы ему ответьте: так это после рождения Шета, после ста тридцати лет у Человека (Адама) появились еще и дочери. А во время убийства первородным сыном Каином брата Авеля никаких дочерей не было. Почему в четвёртой главе Книги Бытия упомянута жена Каина и кто она? От неё и Каина пошла целая ветвь перволюдей, в четвёртой главе приводится целая родословная ветви Каина. Кто их мать, отче?
В гневе священник скорее выдвинет следующий лжеаргумент, дескать, у древних в эпоху патриархов не было обычая упоминать родившихся женщин, дескать, это был патриархат, а что возьмёшь с этих древних мужланов.
Вы должны сказать священнику: а почему, отче святый, в родословной Каина упоминаются даже жёны его потомка Лемеха, Ада и Цилла, но не упоминается имя жены Каина, уж она-то точно важнее?
Ручаюсь, тут он бросит с вами спорить. Имя жены Каина не упоминается намеренно, ибо это его мать — Ева. И ничего невероятного в этом факте нет. Древние эпохи патриархов и глазом не моргали, живя таким образом, как они жили. У них была вынужденно полигамная семья. У Лемеха были две жены: Ада и Цилла. У Евы были два мужа: Адам и Каин. Позднейшие пользователи Торы-Пятикнижия стали смущаться подобным скандальным, с точки зрения позднейшего человека, сексуальным безобразием. Главы четвёртая и пятая, по-видимому, были подчищены, удалено имя Евы, и осталась «жена Каина». А глава пятая вообще уже не упоминает Каина, как будто его и не было никогда. Каин есть лишь в четвёртой главе с, по-видимому, оборванной намеренно родословной.
А глава пятая вообще игнорирует и Каина, и Еву. «Человек родил Шета», как будто это первый сын.
Понятно, что египтяне, реальные авторы первых одиннадцати глав Книги Бытия, египтяне, у которых их боги и их фараоны невозмутимо и обязательно женились на родных сёстрах, эти египтяне невозмутимо сообщили о первом инцесте и связанном с ним первом убийстве. Евреи, оформившись из разноплеменных гастарбайтеров, сбежавших из Египта, в одну нацию, уже застеснялись нравов родоначальников человечества. Убрали следы инцеста. Это нормально. К примеру, в Средние века в Европе из муниципальных актов и хроник в обязательном порядке изымались материалы о тягчайших ужасных преступлениях, таких как людоедство, стирались все упоминания о них. С Торой (она же Библия) дело обстояло точно так же. Ведь Каин, с точки зрения только что оформившегося еврейского религиозно-нравственного кодекса, совершил нечто ужасное: первое убийство и первый инцест.
А Ева, видимо, попеременно рожала от Адама и от Каина. Она наверняка не испытывала каких-либо комплексов. И не поняла бы священника, если бы таковой захотел объяснить ей всю греховность её поведения.
Библеисты сходятся во мнении, что Создатель создал Адама сразу тридцатилетним. Подруга, клонированная из его ребра, должна была быть такого же возраста, поскольку изготовлена была из его клеток. То есть Ева никогда не была девочкой, а пришла в этот мир сразу зрелой женщиной, готовой рожать, рожать и рожать. Именно это от неё и требовалось. Именно этим она и занималась на протяжении всей её жизни.
Выбирая на картинах великих мастеров свою Еву, я не расположен к монументальной Еве Микеланджело, мне по нраву белошеяя и узкоплечая Ева Кранаха, такая себе самка, тёлка-дурочка.
Где Ева умерла и когда неизвестно. Могила Адама, по преданию, находится где-то в скале Голгофы. Там, над нею, якобы позднее был распят Иисус. Правда, современные археологи никогда никакой могилы Адама не нашли и оспаривают распятие Иисуса на Голгофе, там, дескать, слишком мало для этого места.
Эпилептоиды
Честно говоря, я обрадовался, что она уехала, что её нет рядом. Я даже, грешным делом, презрев отцовские чувства, стал желать, чтобы она там и осталась, в этой Индии. Мне стало спокойно.
Ненадолго, впрочем. Казалось, бы Индия далеко, чёрт знает где, далеко, как в сказке. Но нет. Индия оказалась рядом.
Однажды адвокат Беляк рассказал мне историю. Его некогда подзащитная Т., член моей партии, нацболка, участница «захвата» приёмной Администрации президента, Беляк её защищал на суде в 2005 году, оказалась в Гоа в мае 2007 года (она отсидела в тюрьме год до суда и была осуждена на год.) Случайно, в жизни много случайностей, там в Гоа она попала в дом художника… по имени Артур. Артур разведён с женой, у него подросток-сын и маленькая дочь. (Жена оставила Артура, увлёкшись Индией.) Так вот, в доме Артура Т. увидела большое количество фотографий моей жены и Артура. Из фотографий было понятно, что хозяин дома и моя жена — близкие люди, а не случайные знакомые.
— Я не хотел тебе говорить об этой истории раньше, Эдуард,— сказал Беляк виновато.
— Да и чёрт с ней, Сергей!— успокоил я его.— Я подозревал её в чём-то подобном давно уже, с марта прошлого года. Никто не надёжен, а уж женщины, ими движут эмоции…
Я подумал, что мне нужна девка. И что я возьму первую попавшуюся. Когда меня спрашивали, где моя жена, я со смехом говорил, что сбежала в Индию и что я теперь «соломенный вдовец». Подожду месяц, говорил я, и буду считать брак недействительным. Так ведь было принято на Руси в старину. Если супруг либо супружница отсутствовали без уважительной причины (война, болезнь и т. д.) более месяца, брак считался расторгнутым.
Я даже прибавил ей три дня сверху. 16 февраля, ровно через 33 дня, приехала из Питера девочка Наташа, 1990 года рождения, ей было ещё семнадцать лет, и я выспался с Наташкой и стал с нею совокупляться то в Москве, то в Петербурге.
Вот появление Наташки на Ленинградском вокзале. Люди постоянно входят и выходят в мою жизнь и из неё, и часто через Ленинградский вокзал. Раннее утро, февраль, темно. Чуть ли не пять утра с небольшим. Наташка и впоследствии будет отличаться несусветным неумением выбирать время для прибытия и отбытия. Пять утра с копейками или чуть ли не два часа ночи,— её обычные крайности.
Дочь цыгана и еврейки,— младшая сестра-близняшка, старшая старше на сорок минут, она появилась со старшей сестрой Дашей. Вообразите: холод, мерзость, менты, опера, тянет угольным паром. Мы запарковали «Волгу» на внутреннем паркинге, тогда это стоило пустяковые пятьдесят «рэ», и пошли на перрон. Водителем был всё тот же очкарик Стас. Я, замаскированный, в шапке покойного отца с кожаным верхом, выгляжу как простецкий лох-мужичок, ну разве если принять в расчет очки, то как школьный учитель. Когда входишь сбоку паркинга по ступеням к перронам, там всегда дежурят менты в форме и опера в цивильном. Они всех на всякий случай оглядывают. Мало ли чего… В такой шапке они меня не понимают, ноль внимания. Идём на перрон. Прикинули, где остановится её вагон. Остановились. Вагон протянуло вперёд. Быстро шагаем.
Я понятия не имею, как она выглядит. Мы познакомились через интернет. Написала, что будет в «коричневой куртке». Какая куртка, девушка?.. Холод, на целый тулуп. Узнала меня она.
— Эдуард, здравствуйте, я Наташа.
Действительно, в куртке, плюс платок. Голос чуть-чуть в нос, некоторое время так и отдаёт в нос, чтобы внезапно сорваться в звонкий. Так она и прожила рядом, отведённое ей со мной время, сразу с двумя голосами. Вероятнее всего, голос в тот период у неё ломался. В феврале ей было ещё семнадцать лет, а восемнадцать стало только в конце марта.
Невысока ростом, представляет меня сестре Даше, у Даши причёска каре, у Наташи — длинные чёрные волосы, скуластое смуглое лицо. Движения порывистые.
— Это Эдуард. Ну вот, видишь, всё в порядке,— говорит она сестре.
Что в порядке, не понятно. Сестру встречают четыре мужика, трое молодых, похожи на скинхедов. В порядке может быть лишь одно обстоятельство,— я это я, а не подставное лицо. По крайней мере, похож на Лимонова.
— Не волнуйтесь, Даша, мы о ней позаботимся,— говорю я.
— На связи!— бросает Наташа сестре, и мы уходим. Мимо ментов и оперов, те наконец-то опознали меня и стояли неподалёку, не отводя глаз.
— Давайте помогу!— беру я из рук Наташи сумку. Оглядываюсь, вижу плечи Даши, в толпе идущей в метро от нас.
Один из составов внезапно выпускает пар, словно он паровоз. Угольный, сырой, горячий пар железной Великой Дороги.
Едем в «Волге» прочь от Ленинградского вокзала. Москва черна, и только цветёт ярко-жёлтыми пятнами здесь у вокзала, да горят жёлтым и синим особенно яркие витрины.
Заговариваю ей зубы, что-то о литературе: «То Генрих Манн, то Томас Манн, / а сам рукой тебе в карман / Папаша, папа, ой-ой-ой / Не по-отцовски вы смелы / Но тот к кому вы так милы / Видавший виды воробей / Спустилась шторка на окне / Корабль несётся по волне»,— приходят мне на ум строки Кузмина, в момент, когда вдруг инстинктивно глажу её колени в брюках. И вдруг вспоминаю, что прошло пол столетия, и девка из художественного училища приехала ко мне из Петербурга, сознательно ожидая, что я привезу её, раздену и употреблю по назначению. Это девочек 1960 года нужно было уговаривать, медленно подводить к моменту. За полстолетия нравы облегчились, какие нафиг поглаживания, папаша, папа, ой-ёй-ёй!
Ты можешь преспокойно запустить ей руку в трусы между ног и проникнуть в неё. И она будет считать, что так и нужно.
Я бы, может бы, и поступил именно так, чтобы сразу её поставить на место, если бы не мои охранники. Молодые люди эти не должны наблюдать безвкусные и пошлые поступки вождя. Я ответственен за поддержание своего public image на должной высоте. Развращённый писатель может поступать как ему угодно, а я — радикальный политик, не могу.
Я привёз её в Сыры, где только фыркали первые автомобили самых работящих обитателей. Позавтракал с нею с вином, взял её через полчаса за руку: «Пойдём!», и увёл за собой в большую комнату. Где неизбежная, стояла большая кровать. Там я в течение нескольких часов занимался её маленьким крепким телом. Простынь была льняная, и я истёр себе колени.
Я нашёл её неуклюжей. Сиськи были небольшие и по-девичьи крепкие, икры тоже крепкие, как я правильно догадался, она сказала потом, она много ходила. Пить она не умела, и тех двух бутылок вина, которые мы с ней с утра выпили, ей хватило, чтобы начать кусаться. Губы у меня от неё болели. Позднее обнаружился и кровоподтёк на нижней губе. Ну и конечно, я получил разнообразное удовольствие от её неуклюжей неопытности. Впоследствии она признала наличие лишь пяти мужчин до моего вмешательства. Или трёх? Не помню.
Любая девка, это что? Это кишка в конечном счёте, чувствилище, в которое мэтр вставляет свой «нефритовый жезл», если использовать словарь даосов. И возит там в кишке, вызывая у неё и у себя эмоции.
Она стала приезжать. Девочке-цыганке нравилось в Сырах. Руки у неё были в краске, даже под ногтями краска, и Сыры подходили ей по стилю. Я посчитал, оказалось, я старше её на сорок семь лет! Даже меня самого такая цифра впечатлила. Я послал её мыть руки.
В те дни умирала моя мать. Умерла она окончательно 13-го марта, а в те последние дни февраля и первые дни марта она была уже полумёртвая. С конца прошлого года она помутилась разумом, я звонил ей каждые несколько дней. И она меня не узнавала уже.
— Передайте Эдику, что его отец умер,— шуршала она в трубку.
— Мама, да это я, Эдик…
— Передайте Эдику…
— Хорошо, передам…
Ей казалось, что во вторую комнату квартиры вселили людей и что те хотят отнять у неё жилплощадь. Для её поколения жилплощадь была важнее Бога, потому Бог ей не являлся в её видениях безумия, но являлся пожилой военный, якобы поселившийся с семьёй в соседней комнате. Ещё ей якобы «сказал президент» (украинский очевидно), что пенсию ей выплачивать не будут. На мой вопрос, откуда она это узнала, она заявила:
— Откуда? Из-под стола, конечно, снизу. Они там проголосовали пенсию мне не выплачивать.
С матерью всё было ясно. Её безумие было окрашено в жилищно-пенсионные проблемы, которые её занимали в последние годы. Я, как бесстрастный исследователь, перед каждым звонком моим к ней брал тетрадку, ручку и конспектировал разговор. Впоследствии часть этих записей я включил в книгу «Некрологи», в главу «Смерть матери».
12 марта под мои окна приехали рабочие с краном и с грузовиком и спилили старый, высоченный, раздвоенный огромной рогаткой тополь. Я всё время пока жил в Сырах только и мечтал, чтоб этот тополь убрали. Я даже наивно предполагал организовать его индивидуальный лесоповал, проектируя снести его как-нибудь ночью. Наивность моя была продемонстрирована мне рабочими 12 марта. Они целый день возились с этим тополем. Ствол его внизу оказался неимоверного диаметра. Рабочие вывезли три самосвала с телом тополя и закончили работу уже в темноте. И тут я пожалел тополь.
Моя мать Раиса Фёдоровна Савенко умерла утром следующего дня. Возможно, она как-то была связана с этим тополем.
Я поехал в Харьков и кремировал её. Возможно, я бы её похоронил, однако устранением трупа моей матери уже занималась одна из двух сиделок,— Лариса. Она определила мать в крематорий, положить прах в одну нишу с отцом, из-под крышки гроба торчал кусок верблюжьего одеяла, я помню, так крышку и заколотили, и труп старухи, моей матери, уплыл за кулисы крематория.
Похороны повергли меня в философское состояние. Я вернулся в Москву задумчивым: я ведь остался один.
Наташка, между тем, ведь я её научил, что она цыганка, до этого она не придавала никакого значения тому факту, что она-таки больше цыганка, и совсем не еврейка, как её мать, ударилась в цыганщину. Нашла несколько цыганских сайтов, дни и ночи напролёт разглядывала фотографии и читала о цыганах. С каждым приездом она становилась всё больше цыганкой, оставаясь при этом студенткой «Мухи», названной так в честь скульптора Мухиной. Как студентка она совершала все нормальные в этом гражданском состоянии поступки: напивалась, не ночевала дома, спала с преподавателями, участвовала в диких акциях и выставках, красила скамейки, знакомилась на улицах чёрт знает с кем и находила чёрт знает кого интересными. Она дружила с теми, с кем не следует дружить, и в довершение всего вот нашла себе такого типа, как я, на сорок семь лет старше…
Я её удивлял ежедневно. Она до этого не имела мужчины моего возраста, так же как и моего статуса. Она называла меня «неутомимым» и ещё как-то лестно. Я сказал ей, что давно знаю, что во мне энергии много больше, чем в обычных людях. Что в камере тюрьмы «Лефортово» моей сосед, молодой бандит Мишка, называл меня «ENERGIZER».
Наташка стала приезжать в Москву на каждый week-end. Как я к ней относился? Она мне нравилась, но не вся. У неё чудесная головка, гривка цыганских волос, и она была влюблена в жизнь без памяти. Она захлёбываясь рассказывала мне обо всём подряд с удовольствием, о случайных встречах в подъездах, на улице, в институте. Я фиксировал всю её информацию, без церемоний употреблял Наташку по назначению, то есть оголял и употреблял. Ей нравилось, она пыхтела. Но, каюсь я, много думал над своим, как мне казалось тогда жизненным поражением от рук актрисы. Я исписал множество страниц примерами её несправедливого отношения ко мне и попытался осмыслить «Почему?» Я выискал в интернете книгу П. Ганнушкина «Клиника психопатий: их статика, динамика, систематика» и прочёл её, что называется от корки до корки. Я определил актрису как психопата группы эпилептоидов. И как было не определить, когда множество черт её поведения соответствовало поведению психопатов этой группы.
«Самыми характерными свойствами этого типа психопатов мы считаем, пишет Ганнушкин, во-первых, крайнюю раздражительность, доходящую до приступов недержания ярости, во-вторых, приступы расстройства настроения (с характером тоски, страха, гнева) и в-третьих, определённо выраженные так называемые моральные дефекты (антисоциальные установки). Обычно это люди очень активные, односторонние, напряжённо деятельные, страстные, любители сильных ощущений, очень настойчивые и даже упрямые. Та или другая мысль надолго застревает в их сознании, можно определённо говорить о склонности эпилептоидов к сверхценным идеям».
Их поведение имеет, пишет Ганнушкин,
«окрашенный плохо скрываемой злобностью оттенок, на общем фоне которого время от времени, иной раз по ничтожному поводу, развиваются бурные вспышки неудержимого гнева, ведущие к опасным насильственным действиям».
Эпилептоиды
«нетерпеливы, крайне нетерпимы к мнению окружающих и совершенно не выносят противоречий». «В семейной жизни эпилептоиды обыкновенно несносные тираны ⟨…⟩ Постоянно делают они домашним всевозможные замечания, мельчайшую провинность возводят они в крупную вину и ни одного поступка не оставляют без наказания. Они всегда требуют покорности и подчинения себе, и наоборот, сами не выносят совершенно повелительного тона у других, пренебрежительного к себе отношения, замечаний и выговора. С детства непослушные, они часто всю жизнь проводят в борьбе против кажущихся им ограничений их самостоятельности». «Неуживчивость эпилептоидов доходит до того, что многие из них принуждены всю жизнь проводить в скитаниях ⟨…⟩ Абсолютно неспособны сколько-нибудь продолжительное время сохранять мирные отношения с сослуживцами, с начальством, с соседями». «Чувство симпатии и сострадания, способность вчувствоваться в чужие переживания, им недоступны. Отсутствие этих чувств в соединении с крайним эгоизмом и злобностью делает их морально неполноценными и способными на действия, далеко выходящие не только за рамки приемлемого в нормальных условиях общежития, но и за границы, определяемые уголовным законом».
«Эпилептоиды — люди инстинктов и примитивных влечений. Страстные и неудержимые, они ни в чём не знают меры: ни в безумной храбрости, ни в актах жестокости, ни в проявлениях любовной страсти. В их рядах мы часто встречаем азартных игроков, пьяниц-дипсоманов и лиц, страдающих периодическими приступами неудержимого стремления к бродяжничеству».
Добравшись до бродяжничества эпилептоидов, я уже не имел ни малейших сомнений, что верно определил актрису как эпилептоида.
Так что, сидя с маленькой цыганкой Наташей в Сырах и объясняя ей мир (у семнадцатилетних всегда есть вопросы), я всё же интересовался судьбой актрисы и судьбой моего сына. Не говоря уже о том, что актриса ведь была беременна. В интернете, где можно найти всё, что угодно, это ведь помойка, я набрёл на рекламный сайт Free flow yoga space,— йоги свободного потока. На заглавной фотографии первой на коврике с закрытыми глазами в трусах и майке сидела моя жена. Груди у неё были крупнее обычного, а вид — хмурый.
«Свободный поток — пространство для йоги и духовных практик на берегу Индийского океана, в одном из красивейших мест на севере штата Гоа. Новые фото сезона 07–08… Это демократический йога-курорт, специально созданный для проведения йогических ритритов. Здесь вы найдёте всё необходимое для спокойной практики и комфорта на море в доброжелательной атмосфере семейного отеля. А главное — здесь царит незатухающий дух йоги. Наш центр расположен в пальмовой роще неподалёку от посёлка Арамболь, на берегу живописной речки, отделённой от пляжа небольшой песчаной дюной…».
Ну вот, подумал я, теперь я хотя бы знаю, где мой сын и что беременная эпилептоидная пока жива. Она в пальмовой роще. Старый Ганнушкин меня на некоторое время утихомирил. И я повернулся к своей жизни настоящего дня, стал подбивать итоги.
Один за другим в несколько лет ушли из жизни три значительных для меня человека. Наталья Медведева — 2 февраля 2003 года, мой отец — 25 марта 2004 года и моя мать — 13 марта 2008 года. Они были для меня авторитетами, эти люди. Возможно даже, что часть моей деятельности на Земле была обусловлена тем, что они на меня смотрели. Мне, возможно, было необходимо удивлять их, быть для них большим, умным, героем. Я пишу «возможно», потому что глубинные мотивы поведения, конечно же, никто никогда не установит. Итак решим, что отчасти их внимание было мне необходимо. Уже Наташа не воскликнет, узнав о новом резком повороте моей судьбы: «Какой ужас!», а мать не проскрипит в телефонную трубку: «Ты опять начудил… пора взяться за ум. Прекрати свои выкрутасы!»
Теперь можно было выкрутасить сколько угодно, некому было меня поставить на место. Я вдруг почувствовал, что ведь я теперь крайний в семье, впереди нет слабых спин отца и матери. Время вдруг тяжело и отчётливо задышало мне в затылок. Правда, у меня уже был сын, и будет ещё существо, пока непонятно, какого пола. Двое из семьи моей out — ушли, двое in — пришли. Восстановлен баланс.
Актриса вернулась из Гоа в самом конце марта. Она позвонила мне:
— Я вернулась из Индии, мне нужны деньги. Ты ни разу не послал мне денег в Индию. Я вынуждена была занимать.
Тон у неё был агрессивный.
— Ты умыкнула от меня нашего сына, причём, видимо, подделав разрешение на вывоз и мою подпись,— начал я обвинением на её обвинения. И остановился. С эпилептоидами так разговаривать нельзя, подумал я.— Я сегодня же пришлю тебе денег,— закончил я разговор.— Ты не знаешь ещё пол нашего ребёнка?
— Завтра поеду в консультацию.
Через пять дней у неё украли автомобиль, подержанный, но Range Rover, что показалось мне подозрительным. Её не было три месяца, автомобиль не крали, она появилась — украли. Вместе с новостью о хищении автомобиля я узнал новость о том, что у нас будет девочка. (Ты, Сашка, мой маленький червячок!)
Жена: Я хочу назвать её Александра. Ты ведь назвал Богдана, а девочку хочу назвать я.
— Может быть, Варварой назовём?
— Александра.
— Пусть будет Александра.
*
Она стала давать интервью средствам массовой информации. Она, не дожидаясь пока я выскажусь, ловко переложила вину за нашу неудавшуюся семейную жизнь на меня. Она обвинила меня в:
— отсутствии отцовских чувств к сыну;
— что она теперь в одиночку воспитывает детей;
— «основной добытчицей в семье всегда была я,— заявила она.— Он не помогает мне, денег не даёт».
И всё это было неправдой. Какой добытчицей, люди, когда она не могла работать совсем, будучи два раза подряд беременной. Мы жили на мои деньги. У неё стали брать больше интервью, на множество страниц, и она повествовала о всей своей жизни, а не только нашей истории. Внимательный читатель после прочтения её жизнеописания неминуемо должен был прийти к выводу, что либо экстраординарное невезение выводило эту женщину на неудобных (бесчувственных, жадных, эгоистичных и прочие отрицательные качества) мужчин, либо что объяснение следует искать в самой женщине. В моём случае она захотела раздавить мою политическую жизнь ради семейных ценностей. Была ли в этом необходимость? В этом не было необходимости.
В те дни зашёл ко мне в Сыры мой давний друг и работодатель, гражданин Соединённых Штатов Америки, редактор газеты Exile Марк Эймс. Я спросил его, что, по его мнению, случилось с моей женой. Он не ответил мне впрямую, он сказал:
— Слушай, Эдвард, она не справилась с задачей быть рядом с тобой. Она не смогла использовать тебя. Ведь когда вы стали парой, вся российская media писала о ней, о вас. Вы должны были стать, ты знаешь этот американский феномен, называемый powerful couple? Влиятельный муж, красивая медийная жена продвигают друг друга… Она не использовала тебя, не сумела.
— Зачем же вражда, Марк?
— Ты знаешь,— сказал он,— смотри на свою историю как не на жизненную неудачу, но как на естественное распадение современной семьи. Как на следствие непрерывного процесса эмансипации современной белой женщины. Пары как птицы собираются лишь для периода влюблённости, ухаживания, совокупления, рождения детей. Затем неумолимая современность разводит их, ссорит. Они живут врозь. Ты замечал, что она порой относится к тебе, как к сопернику? У меня с моими женщинами такое бывало, и нередко. Поэтому я сейчас предпочитаю шлюх. Зачем мне соперники ещё и в постели. Их хватает в моей профессиональной жизни.
Я написал два письма Пшеничникову. Он отвечал близко к мнению Марка Эймса. Только замешал своё мнение на реинкарнации.
«Женщина всю жизнь страстно хочет быть мужчиной, ей кажется, что у мужчины больше свободы, больше возможностей, меньше ответственности и т. д. Поэтому подспудно женщина уясняет — родись мужчиной, и проживёшь беззаботную жизнь. Так ей кажется… У женщины к концу жизни появляется железная воля, она перестаёт стесняться, добивается своего любыми путями. Пожилая женщина — это, по сути, готовый мужик, она создала из себя мужика, как фанат звезды делает себя точной копией своего кумира. Когда женщина умирает, она закономерно идёт на воплощение мужчиной, рождается мальчиком. Поэтому мальчики очень агрессивны, бездумны и жестоки, они по-животному наслаждаются теперь положением мужчины и наконец-то свалившейся на голову свободой. Хотя потом такой мужчина, взрослея, понимает, что никакой свободы нет на самом деле, свобода ограничена обществом, деньгами, отсутствием жизненной цели. А ответственность ложится тяжким бременем. И мужчина, старея, не хочет никакой свободы, но хочет определённости, зависимости, постоянства и подчинения. Под конец жизни — мужчина почти девочка. Он домашний и подчинён своей жене,— готовому мужику. Рождается он в следующей жизни девочкой. Потом взрослеет и понимает, что быть зависимым от мужа, детей, дома, всю жизнь бояться и подчиняться тяжело, и снова приобретает желание освободиться. И так до бесконечности. Люди поочерёдно рождаются то мужчиной, то женщиной, сотни жизней. Маятник».
Таким образом, у меня были уже несколько версий объяснения поведения красавицы-актрисы, ставшей чудовищем. Самую банальную я совсем забросил, я имею в виду версию измены, версию появления в её жизни мужчины, которого она предпочла мне. И вдруг…
…В конце апреля я обнаружил в интернете фотографию актрисы, сидящей у фонарного столба на тумбе, что ли, держится за беременный живот, в руках пакеты с подарками, улыбается нетрезвой улыбкой. Рядом с ней, ну разве что в шаге назад от неё, стоял лысоватый мужчина в очках, в белом пиджаке, смотрел он в сторону и вверх. Подпись к рисунку:
«Цитата года. Пройдя все круги ада вечеринки InStyle в виде маникюра, педикюра, массажа и макияжа, беременная в третий раз (из них от вождя Эдуарда Лимонова во второй) (Ф.И. актрисы) — выползла устало на улицу, без сил рухнула на коробку с подарками, окинула взглядом гламур вокруг и молвила:
— На хуй революцию! Где мой «Ягуар»?»
«Великая женщина»,— заключил комментатор фотографии.
«Нет, женщина, взявшаяся… не за своего мужчину,— подумал я меланхолично. Человека рядом с ней я определил как Артура.— Да какое моё дело!» — подумал я. Но наблюдать за ней продолжил. В конце концов, своими интервью, сыпавшимися как из грязного рога изобилия, она наносила ущерб моей политической репутации.
Один из её подручных, «Кирилл» («Франц» был давно out, и ничего о нём не было слышно) сделал ей сайт. В середине апреля ей прислали латинский месседж «Privet Volshebnica!» за подписью «Princ». А в самом начале мая на её сайте появилось сообщение по-русски: «Волшебница! Пламенный привет!», подписано «Джин».
Во мне, возможно, погиб Мэгрэ или Шерлок Холмс, или следователь поскромнее, ну МУРа. Я заподозрил её в участии в криминальном сообществе. «Джин» показалось мне созвучным с ДиДжей. А о ДиДжее я прочёл в интернете, где же ещё. В начале мая сайт AKADO поместил статью под названием «Секретный агент МВД погиб в Индии».
Дело было вот в чём. 9 декабря 2007 года на севере Гоа в городке Мандрем в отеле было найдено тело некого Евгения Кузьмина. Сайт AKADO ссылался на индийскую газету Hindustan Times, которая интервьюировала российского консула в Мумбай Александра Мантитского. Консул якобы сказал, что Кузьмин работал «на московскую милицию». Проживающий в Мандреме, пожелавший остаться неизвестным россиянин заявил Hindustan Times, что погибший Кузьмин боролся с наркомафией, но при этом и сам «был наркозависимым». В МВД России АКАДО сообщили, что среди сотрудников бюро МВД по борьбе с наркопреступностью Кузьмин не значится.
Между тем, газета The Times of India пишет, что Кузьмин выполнял «секретное задание». Обозреватели этого индийского издания сами установили, кто именно из России в Гоа занимает «начальственные позиции среди наркоторговцев». Согласно сведениям The Times of India, главарём является человек, скрывающийся под кличкой «Диск-жокей», «DJ», который проживает в городке Ассагао. Источник из близлежащего городка Аджуна рассказал TOI, что люди «Диск-жокея» действуют в прибрежных зонах Арамболя, Ашвема и Морджима, причём им активно помогают местные. «Диск-жокей» снабжает наркотиками, в основном экстази, посетителей рейв-вечеринок, а посредниками у него становятся женщины»,— пишет издание.
Я вспомнил свою жену с пылающими глазами, после обыска в аэропорту, нашёл её последнюю фотографию, беременной после вечеринки InStyle, а рядом Артур, и подумал, что, может быть, «Артур», «Петрович» и «Диск-жокей» и Джин с его «Привет, волшебница!» — что, может быть, кто-то из них и есть «Диск-жокей»?
И тотчас подумал, что это не моё дело. У меня своих проблем хватает. Быть врагом государства номер один нелегко. Мне только враждебных наркоторговцев в моей жизни не хватает.
*
Сашка родилась 17 июля. Актриса позвонила мне из роддома и попросила не встречать её. Таким образом она якобы хотела избежать внимания прессы.
— Меня встретят,— сказала она,— друзья.
*
Оказавшись вдруг отцом двух младенцев, я стал наблюдать за ними. Отношения с женой холодными были, такими же и остались. Но я стал приходить играть и гулять с детьми. Свои наблюдения над ними я изложил в статье в одном модном журнале.
Нестандартные мысли о детях
В европейской, да и во всей мировой культуре дети рассматриваются в благоприятном свете. Непререкаемый авторитет детей и преклонение перед ними сделали их неприкасаемыми, мощными табу.
Я приглядываюсь последние годы к детям, своим и чужим. Я заметил много странностей и страшностей и в самих детях, и в их влиянии на взрослых.
Разумеется, что дети — это четверть-люди, полулюди, не совсем люди, по мере того как они вырастают.
Младенцами в первый год существования дети больше принадлежат потустороннему миру, откуда они пришли. Согласно Платону, новорожденным при выходе из того мира стирают память. У выхода стоят керубы и стирают. Но, видимо, память стирают не совсем, потому что отдельные взгляды, позы, телодвижения и звуки, издаваемые младенцами, принадлежат и направлены в иной мир и прочно свидетельствуют об их связи с тем миром. Все их угуканья, зеркальные взоры, смарщивания губ, оловянные глаза, устремленные за плечи родителей, вне сомнения, обращены к существам, которых они видят, слышат и осязают. А мы, взрослые, не видим, не слышим и не осязаем.
Вынужден назвать младенцев «бесами». Признаю, что термин не очень удачен и имеет на себе налёт христианского мифотворчества, подразумеваются сразу некие мохнатые существа с хвостиками. Нет, дети мелкие безволосые духи, безобидные в основном бесы низшего порядка. Бесы — потому что не принадлежат ещё к миру человеков.
После годовалого возраста они медленно набирают жалкие проценты человечности. Но всё равно остаются недолюдьми. Конечно, некоторые из них красивы грацией юных бессмысленных животных, однако для человека высокого развития печально проводить множество времени с четверть- и полу-людьми. Их беспомощный лепет в конце концов утомляет своей глупостью. Их становится жалко.
Я думаю, они проделывают путь от высшего, родятся сложнейшими, мистическими существами («бесами»), имеющими прямую связь с космосом, к низшему, к человеку. Годы уходят на то, чтобы они забыли то состояние, тот язык, те знаки (которые были даны им при зачатии) и переучились в низших людей. И чтобы уже готовые состоявшиеся взрослые радовались их деградации.
В среднем 15 лет уходит на то, чтобы из сложнейшего, пусть и беспомощного червячка («беса») изготовить какую-нибудь скотину необтёсанную, всеми силами стремящуюся вернуться в блаженное состояние «беса». Отсюда попытки подростков с помощью алкоголя, «винта», клея «Момент» вернуться в Рай, бессознанные воспоминания о котором стерты, но какой-то аппендикс всё же ноет.
Вообще здесь огромная загадка. Родившись духом («бесом»), почему неизбежно необходимо превращаться в примитивное, несколькоклеточное существо? Ведь все наши жалкие культуры, может быть, не стоят одного дня, проведенного в тех страстных сумерках бессмыслия, когда младенец-«бес» сосёт молоко из матери?
До двух лет они всё ещё полностью «бесы», хотя чёткие границы размыты, и моя дочь, к примеру, сразу после двух выглядит и ведёт себя более осмысленно, чем мой сын вёл себя в этом же возрасте. И в три года от роду и позже, продолжая умилять родителей очарованием, сходным с очарованием щенков или котят, дети всё ещё бессмысленны, как насекомые. Они монотонно бродят, кружатся без цели, хватают предметы в руки, бросают, забывают о них. То есть их поведение напоминает поведение взрослых сумасшедших.
Фрейд совершенно безосновательно, на мой взгляд, придумал, что раннее детство определяет будущую жизнь человека. Мой детский опыт мне совсем ничем не сослужил. Я его даже плохо помню, потому что он не был поразительным. Только особенно жестокое детство может, по-видимому, запомниться. Да и то, пожалуй, только в том случае, если с жестоким детством резко контрастирует более или менее нормальная, взрослая тёплая жизнь. Детство, на мой взгляд,— вообще потерянное время, зря потраченное на топтание на одном месте. То есть на хватание предметов, бессмысленную глоссолалию звуков, хождение из комнаты в комнату, если жилище позволяет, на повторение одних и тех же ошибок. Вы скажете, ребёнок учится и приобретает опыт?
Ну да, однако кем он станет? Как правило, существом, куда более убогим, чем те подключенные к Хаосу и Космосу комочки материи и духа, только что вытащенные из материнской слизи.
Дети не понимают, но чувствуют свою неполноценность в новом мире, то, что они четверть-люди, полу-люди. Скажите им: «Ты маленький!» И ребёнок обидчиво ответит: «Я большой! Большой!»
Счастливого детства, таким образом, в природе быть не может. Маленькая копия человека, ковыляющая у вашего колена, хочет быть немедленно «большой». Потому дети любят мерять свой рост, им не терпится. Принято считать, что дети вне себя от радости общения с любящими родителями. Но при ближайшем рассмотрении отношение к родителям такое же требовательное, как у собаки с хозяином (при этом собаки ведь, как объясняют психологи, считают хозяевами себя, а человека считают слугой): «Накорми!», «Гулять!», «Хочу какать!», «Хочу кусаться!», и вся остальная программа себялюбия.
Резюмируя сказанное, можно заключить, что взросление — деградация, к которой и принуждается, и сам стремится бес-младенец. Неизбежно, неотвратимо, как из куколки в бабочку, младенец превратится во взрослую особь, наглухо отрезанную от Космоса и Хаоса и полностью погруженную в профанический, довольно примитивный мир людей. Бесы ведь все-таки сродни богам, а взрослый человек полон высокомерия, глупости и страха смерти.
Была, видимо, и существует ещё возможность другого развития детёныша человека. Я верю, что от разгадки этой возможности меня отделяет очень тонкая стена мрака. Может быть, после керубов, стирающих память, дорога там раздваивается, и человеческие детёныши берут не ту дорогу, надо бы брать иную. Из бесов в человеки — налево? А из бесов в боги — направо? Я ещё не знаю, но я обязательно узнаю, а если не узнаю я, узнает для вас другой, похожий на меня.
Лола Вагнер
В мае Наташка-цыганочка была мною увезена из Питера в Москву. Это когда меня во время демонстрации измазали экскрементами, в тот мой приезд в Петербург. Мы уехали в поезде, я умыкнул её по предварительному сговору с ней же, но дело обернулось тем, что узнали её родители, сошли от ужаса с ума, взяли авиабилеты и уже ждали её на перроне Ленинградского вокзала, когда поезд, снижая скорость, прильнул к перрону. Я посоветовал ей послать родителей подальше или выйти из вагона со мной под руку, я могу сказать им, чтоб они убирались, ведь ей уже восемнадцать.
Она оказалась всё же не храброй. Она пошла с повинной, высадилась на перрон к родителям, а мы, я и мои пацаны, перешли в соседний вагон и вышли оттуда. На перроне нас ждал Стас, и уже через десяток минут мы мчались в «Волге» в Сыры.
Я не простил Наташке слабости. Я вызвонил стриптизёршу, тоже из Санкт-Петербурга. Но эта была уже девка постарше: двадцать три года. Стриптизёрша приехала в Москву. Декорации те же: Ленинградский вокзал, ступени лестницы, опера и милиционеры, запах угольного пара, утренняя толпа.
Стриптизёрша вышла из вагона в туфлях на каблуках, в длинном платье, ещё влажные чёрные волосы завиты… Тяжёлый подбородок, наглые глаза, юная Пиковая Дама.
Я взял у неё сумку, и мы пошли. Милиционеры одобрительно оценили мою новую девку, на их служебных лицах появились улыбки одобрения. Вечером после работы они расскажут своим жёнам…
Стриптизёрша оказалась девкой и талантливой, и вульгарной. И резко контрастировала с юной художницей. Если у художницы под ногтями была краска, то стриптизёрша обладала ухоженными конечностями с маникюром и педикюром и ходила на каблуках. Одна грудка была у неё немного больше другой. Стриптизёрша писала стихи и рассказы, отлично танцевала, неутомимо виляла попой в постели, задавала мне тысячи вопросов.
Иногда, вечерами, она учила меня танцевать с нею дуэтом, слаженно выбрасывая ноги в одну сторону, как в кардебалете. Танцевали мы под испанскую музыку, ну там были испанские слова в тексте. Однажды, когда мы, задыхающиеся и счастливые, упали на икеевские стулья в кухне, после выступления (над столом там висело зеркало), и я наливал нам вино, меня вдруг озарило: «Да это же моя Гермина, моя спасительница! Как степной уставший волк, я обрету в ней спасение. Ну да, в Steppenwolf есть эпизод, в котором Гермина учит Гарри Галлера танцевать.
Как только я «узнал» её, я решил с ней жить. Что я ей сказал, я не помню, но уже в июне она вернулась из Петербурга с первыми чемоданами и коробками. Мои парни встретили её на вокзале и привезли. Лица у них были непроницаемые, однако по некоторым неуловимым признакам, я всё же догадался, что они меня не одобряют. Что они думали, я затрудняюсь сказать, может быть: «Ну, босс превосходит самого себя, стриптизёрши ему только и не хватало… Всё-таки стриптизёрша для политика — это слишком… Зюганов не живёт со стриптизёршей, даже Жириновский не живёт… Ну ясно, мы круче всех, но стриптизёрша!.. Стриптизёрша!»
В квартире, перебивая запах ветхих обоев и гнилого туалета маслянисто запахло её губными помадами, гелями, румянами, белилами, лаками для волос…
Я ходил и посмеивался, в очередной раз я начинал новую жизнь. Мне шёл шестьдесят шестой год, но я опять — новую.
Гиперактивная, она обегала все выделенные ею в группу интересующих её стрип-клубы. В нескольких из них она даже попробовала работать, но клубы ей не подошли, а может быть, она не подошла клубам. Чёрные, грубые волосы, ярко-красным накрашенные губы, дымок сигаретки в углу рта, она была типичная пролетарская девочка из Петербурга, настойчивая, циничная и заносчивая. Вот только постепенно я выяснил, что её too much — слишком много. Она была как чрезмерная порция еды.
Между тем, в начале июля она привезла из Петербурга в автомобиле все свои вещи. Сразу после того, как она устроилась стриптизёршей в клуб «Долле», между прочим лучший, или один из лучших в Москве.
Мы поехали всей командой в «Икею», я закупил там для неё вешалки, из тех, что стоят в магазинах одежды, несколько, ведь у неё было много одежды, и, главное, я купил плоский зеркальный полностью шкаф, чтобы перед этими квадратными метрами зеркал моя стриптизёрша могла танцевать, разминаться. Помню, как, набив автомобиль покупками (шкаф нам должны были доставить на следующий день), весёлые и счастливые, мы возвращались в Сыры. Стриптизёрша (я уже дал ей кличку «Зверь», однако ещё не обращался к ней таким образом) в красном платье держала в руках горшок с юным кипарисом. Кипарис я купил, потому что он попался мне под руку.
Тут впору бы уронить слезу, если бы они у меня были в запасе. Но запас израсходован десятилетия назад, и даже на смерть матери не оставалось. Обойдёмся без слёз.
Стриптизёрша стала работать, уходила вечером, приезжала в такси под утро и вламывалась в постель. По расписанию и по сути такая жизнь стала мне напоминать мою жизнь в Париже с Наташей Медведевой. Рассвет, полупьяная девка, рассвет.
По утрам она долго спала, а потом делала себе грандиозную пену в ванной и ложилась туда, вполне очаровательная, черноволосая, грубая, мокрая. Лежала она долго, шумела музыка и шумел газ, ибо в Сырах стояли газовые колонки, и шумела вода.
Позднее я так запечатлел её купания в стихах:
Плескается Лола. Шумят годы.
Никто не уйдёт живым.
Смыкается в ванне моей вода
Над телом твоим молодым…
«Лола» — потому что я придумал для неё сценическое имя — «Лола Вагнер». А что, по-моему, звучит загадочно — по-латиноамерикански и германски одновременно. Впоследствии стихи к ней, общим числом девять, были опубликованы в книжке «А старый пират», в разделе «Полковник и зверь». Эти стихи передают моё настроение того времени. Ведь я их писал по мере того, как я их жил. А «Полковник», потому что порой я видел себя полковником, латиноамериканским, которому никто не пишет, а в ванной в пене у него сидит Лола Вагнер. И хулигански улыбается. Иногда я выходил из кабинета и выпивал с нею, голой девкой в пене…
*
Приставы явились, когда Лола Вагнер отлучилась в свой Петербург.
Приставы пришли, сейчас я вам скажу когда точно; потому что у меня есть все необходимые бумаги на эту тему. Вот нужная. Называется «АКТ о наложении ареста (опись имущества)». 26 августа 2008 года. Составлен на 4-х листах без оборотов.
Текст этой «диккенсовской» по своей сути бумаги (ибо имущество описывают в XIX веке больше всего в книгах Диккенса) интересен и поучителен весь, целиком. Но я лишь процитирую его, чтобы стал понятен стиль.
«Судебный пристав-исполнитель 1-го межрайонного отдела судебных приставов по ЦАО УФССП по Москве Соловьёва И.Д. по исполнительному производству, возбуждённому на основании исполнительного листа Бабушкинского районного суда г. Москвы по делу № 2-2888/07 от 14.11.2007 г., содержащего следующую резолютивную часть судебного акта:
Взыскать с Савенко Эдуарда Вениаминовича моральный вред в размере 500 тысяч рублей в пользу мэра г. Москвы Лужкова Юрия Михайловича.
Взыскателем по данному исполнительному документу является: мэр г. Москвы Лужков Юрий Михайлович,— а должником — Савенко Эдуард Вениаминович».
Был такой себе мутный противно-тёплый августовский денёк. Окна в квартире были полуоткрыты. В кабинете моём собрались журналисты, приглашённые мною. Помню, что были корреспондент газеты «Коммерсант», корреспондент газеты «Газета» и телевизионный «экип» (так я их по старой ещё французской привычке называю) от канала REN-TV. Ещё были мои товарищи по партии, охраняющие мою шкуру. Приставы опаздывали. Пришёл адвокат Орлов.
И вот они появились. Наш парень с улицы предупредил нас по рации: «Идут. Две тётки и пятеро мужиков. С наручниками».
«Тётки» были одеты в голубые рубашки с погонами, ещё двое мужчин-приставов имели на себе и кителя. Трое сопровождавших их лиц в чёрной форме имели при себе, действительно, дубинки и наручники. На Нижней Сыромятнической, доложил нам наш агент с улицы, у них расположилось подкрепление: два автомобиля с милиционерами. Видимо, на случай, если «должник» окажет сопротивление.
Журналисты были в экстазе. Такое ведь не увидишь каждый день. От присутствия большого количества людей в моём кабинете стало душно. Полагаю, призраки Диккенса и Бальзака срочно телепортировались на Нижнюю Сыромятническую и прильнули к окнам. Чтобы увидеть опись имущества в России в XXI-м веке.
Старший пристав Соловьёва — женщина лет сорока — уселась в моё офисное чёрное кресло и стала писать, а черноволосая бестия в голубой рубашке с четырьмя звёздочками капитана ходила у полок с моими книгами, открывала ящики моего письменного стола и вдруг, выпростав руку вперёд, как клюющая ворона, цепко хватала мою вещь-имущество. Позволю себе здесь привести выборочно, что ей приглянулось:
«1. Аппарат телефон-факс PANASONIK №ЗНАНС 1001434
2. Обогреватель масляный
4. Печатная машинка «Любава»
5. Кресло рабочее офисное
7. Лампа настольная
10. Нож чёрного цвета
13. Книга V. I. Lenin, 1935 г. издания
14. Книга «Великий лётчик нашего времени (о Чкалове)» 1939 г.и.
16. «История военного искусства» — 3 шт. (тома)
17. Книга «Царская Россия накануне Революции» / М. Палеолог
18. Книга «Социализм, Золотой век»
19. Книга «Стихотворения, поэмы, Герой нашего времени» / Лермонтов
21. Арт 58150, Книга «Ноль часов» Э. Лимонов, 191 штука
*
Итого, 21 наименование на сумму четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят рублей. Работоспособность описанного имущества не проверялась».
Журналисты, повторюсь, были в экстазе. Старшая Соловьёва вначале изгнала их из кабинета, затем вернула в кабинет, и даже позволила людям с РЕН-ТВ снять себя со спины, сочиняющую опись имущества.
В разгар всего этого действа раздался звонок в дверь. Я вышел из нашего жаркого, ярко освещённого (я уже упоминал, что в моей квартире было традиционно не светло, из-за растущих под окнами деревьев; то, что одно срезали, не улучшило положение) всеми лампами места действия и спросил «кто?» через дверь.
— НТВ,— ответили мне.
— Но я вас не звал,— сообщил я крупным мужчинам, открыв дверь. Очень крупный, один держал камеру, другие скучковались за ним.
— Нас пригласили приставы,— сообщили они.
— Вообще-то здесь пока ещё живу я, а не приставы,— проворчал я, но всё же позволил им войти.
Войдя, они тотчас завяли. И я понял, почему. Уже убитый, с пожелтевшими обоями, коридор вопил всеми своими квадратными метрами стен и линолеума в истёртых цветочках, что здесь живут люди бедные, бедные, небогатые…
Они последовали за мной. А я хитро ввёл их не в кабинет, а в кухню. Показал им ванну на львиных лапах, с нарисованным когда-то предыдущими жильцами зелёным драконом. Над ванной висели мои трусы, носки и футболки, которые я постирал накануне утром.
— Можете снимать всё, что хотите!— сказал я.
Они переглянулись. Не очень прытко, но самый крупный поднял камеру на плечо и стал снимать. Репортаж этот никогда не был показан, потому что люди НТВ рассчитывали увидеть как минимум буржуазную холёную квартиру, а тут такое! Зрители, посмотрев подобный репортаж, прониклись бы дружелюбием ко мне, близость бы образовалась. Многие бы подумали: «Вот, он живёт не лучше нас, хуже даже».
В довершение всего на столе в кухне стояли банки с монетами, собранными для меня гражданами, так как я объявил сбор медных денег у населения, желающего помочь мне выплатить «долг» Лужкову.
— Вот, снимайте,— сказал я,— я собираюсь выплатить долг, я не уклоняюсь.
У оператора лицо сделалось жалостное такое, он понял, что я над ним издеваюсь. Но мазнул линзами по банкам.
Я взял одну из банок и пошёл в кабинет.
— Вот, я собрал тут некоторые средства. Примите, пожалуйста!
— Э, нет, Эдуард Вениаминович,— Соловьёва даже зарычала от возмущения.— С этим идите в банк, мы, приставы, не уполномочены принимать наличными от граждан никаких средств.
— Я отдал банку своим парням, кажется, Коле Медведеву.
Младшая из приставов-дам сунулась было в большую комнату.
— Закрыта?— осведомилась она.
— Отчего же, открыта. Только это не моя комната, там живёт женщина, родственница хозяйки. Сейчас её нет, она в Петербурге.
— Я посмотрю,— наглая приставша вошла в комнату. Там царил полумрак, если не мрак, так как я задёрнул шторы. Два ряда вешалок с платьями удостоверяли, что здесь да, живёт женщина. И запах стоял крепкий, женских духов.
Приставша даже извинилась, пробормотав «Шущения…», и выскользнула из комнаты, а я прикрыл дверь. На вопрос идущей нам навстречу пристава Соловьёвой, что в большой комнате, черноволосая внятно ответила:
— Там только женские вещи.
Призраки Диккенса и Бальзака не отлипали от окон. Я уверен, они получали удовольствие. И естественно, они были на моей стороне, писатели же.
Журналисты втекли в кабинет, где Соловьёва дописывала свою длинную бумагу.
— Вы знаете,— сказал я,— у Карла Фридриха Мордыхая Маркса за долги в своё время в Лондоне приставы описали даже детскую колыбель.
Журналисты — кто ахнул, кто развеселился.
Пристав Соловьёва повернулась в моём офисном кресле, которое она уже описала, и нравоучительно заметила:
— Мы не описываем и не вправе этого делать — предметы домашнего обихода, как то кровати, постельные принадлежности, а также кухонные принадлежности, а также предметы, необходимые для профессиональных занятий.
— Так почему же вы описали у меня пишущую машинку, кресло, на котором я обыкновенно сижу, все телефоны: стационарный и два мобильных, и даже обогреватель? Как вы представляете я смогу исполнять свои профессиональные занятия?
— Стол мы вам оставили,— буркнула Соловьёва.
— Чтобы писать, необходим ещё и стул. К тому же вы лишили меня связи с внешним миром, как я смогу общаться с издателями, редакторами журналов? Вы оставляете меня без работы. Обогреватель мне также нужен для профессиональных занятий. В квартире плохие рамы, и потому холодно. Что я, весь окоченелый, буду лежать на столе или стоять перед столом на коленях…
Журналисты с удовольствием слушали.
— И что теперь, вы вызовете грузчиков, и они начнут вывозить описанное имущество?— осведомилась журналист из «Коммерсанта».
— Мы ничего не станем вывозить. Пока. Описанное имущество будет поставлено на ответственное хранение должнику, вот ему,— Савенко Эдуарду Вениаминовичу.
— А он может им пользоваться?— поинтересовалась журналистка газеты «Газета».
— С ограниченным правом пользования,— односложно ответила Соловьёва.
— Значит, не сможет?
Пристав не ответила. Адвокат Орлов, склонив голову к столу, писал огромными буквами свои возражения на «АКТ наложения ареста». Все лампы нагрелись, и было как в сауне. Хлопнула дверь, это ушли телеоператор из НТВ и его помощники.
Потом ушли и приставы.
Журналистка газеты «Газета» сказала: «Вот, Эдуард Вениаминович, вы живёте по заветам русского самосознания. Знаете же поговорку «От тюрьмы и от сумы не зарекайся». В тюрьме вы уже были, а теперь и сума появилась, арест имущества. Как в старых романах…»
*
Постепенно стало ясно, что Лола Вагнер невыносима. Обыкновенно это я становился для моих женщин невыносим. «Energizer», как называл меня бандит Мишка. А тут обратный случай — Energizer более накалённый, сильный и невротический, поселился со мной. Только свою энергию я понимал и понимаю как светлую, креативную, созидательную. Лола Вагнер излучала чёрную энергию, ту самую чёрную космическую энергию из тех семидесяти трех процентов, для которых у учёных нет объяснения. Только в стародавние времена далёких иранских шахиншахов о настоящем устройстве Бездны Хаоса имел пророческие видения великий Пророк Мани. Пророк заслуживает отдельного рассмотрения, когда-нибудь надо бы написать о нём книгу. В настоящий же момент я вернусь к Лоле Вагнер, исчадью Ада.
Она напилась несколько раз кряду. В этом состоянии она рвалась ко мне в кабинет с непонятными намерениями (потому что секс у нас с нею не прекращался в течение суток, мы имели секс в лошадиных дозах), но всегда в одном и том же виде: белые чулки с резинками, белые трусы, белый лифчик, гротескно чёрный мейкап вокруг глаз. Рвалась в кабинет, потому что это было единственное место, где я мог от неё укрыться. Двери там стояли сильные, и была сильная задвижка.
Первое время я открывал сразу. Она прыгала на меня, и мы несколько раз таким образом обрушивались на пол.
Иной раз, прежде чем прыгать, она срывала с себя лифчик. При этом она плакала. Но она ещё и улыбалась время от времени. Было непонятно, чего она хочет. Но, призадумавшись, я понял. Ей хочется близости за близостью, за сексом, за making love… Одна из нескольких форм такой близости, если их несколько — это людоедство… И я не шучу.
После нескольких сцен (я отводил её в постель и успокаивал, на это уходили часы) я устроил ей Нюрнбергский процесс. Я был прокурором-обвинителем. Подсудимая не была понурой и раскаявшейся, она утверждала, что она «не тупая, не депрессивная и не тяжёлая». Я отвечал, что ей не нравится правда.
— Мне не нравится, когда мне говорят правду?— закричала подсудимая Вагнер.— А я ебала эту правду!! Мне и без тебя её говорили, и ещё не раз скажут! Я же ебала эту правду! Меня волнует только Любовь!
Дальше она проорала всякую порнографию, и если бы я писал свой первый роман, я бы эту порнографию непременно привёл целиком, но приведу несколько её выкриков, в конце концов, она же bad girl, ей пристали «bad» выкрики. Она кричала, что ей плевать на ванну, на то, откуда нужно пить воду, из стакана или из кружки (это верное наблюдение, я поучал её пить воду из стаканов).
— Мне глубоко плевать на это! Мне и мои тряпки не очень-то мне нужны. Я люблю сосать хуй, например. Я люблю сосать хуй, ебаться в жопу, пить, курить, смеяться над идиотами, обсуждать книги, картины и красивых женщин! (Почему женщин?— подумал я.) Я люблю делать маникюр, а потом щекотать своими пальцами мужчину. И снова сосать хуй!
Это нечаевщина, катехизис шлюхи, думал я, и был даже несколько восхищён. Я очень справедливый человек. Особенно хорош был повтор: «И снова сосать хуй!»
Впрочем, после Нюрнбергского процесса (он состоялся, естественно, днём, на следующий день после одной из истерик подсудимой), уходя в свой ночной клуб, она оставила мне записку в совершенно противоположном тоне:
«Эдуард!— писала она.
Мне очень стыдно. Я сама себе отвратительна, честное слово. Я, правда, дура.
Теперь уже очевидно, что мне нужно не пить. Я постараюсь. Дело не в этом. Как не пить, если общаешься с кем попало? Вот вчера твой звонок вытащил меня практически из постели какого-то мужика… Не совсем какого-то, а вполне себе приличного. Хотя какая разница тут. Но я так влюбилась в тебя, что не могу даже с мужиком поебаться, совесть мучает, представляешь?
Я так в тебя влюбилась, что видно, какая я дура на самом деле. И не ясно самой,— с какого хуя влюбилась? Сначала — ладно, но потом-то?? Не ясно.
Я к тебе прицепилась как банный лист…».
Она, может быть, и старалась. Но её пьяные истерики случались теперь всё чаще и чаще. Нормальная наша жизнь первых месяцев исчезла (а она была весёлая, бурлескная, может быть, опереточная), а осталась чёрная энергия трагедии. Однажды я всерьёз подумал: «А она меня не укокошит?» Я намеренно выбрал такое полусерьёзное слово: «укокошит». Даст по голове молотком или обрезком трубы (после того, как в квартиру ко мне в марте рвались какие-то типы, человек шесть, мои пацаны привезли и разбросали по квартире обрезки железных труб, на случай нападения). Я поделился своими опасениями с охранниками.
— Да! Вы это, поосторожнее, Эдуард!— только и сказал Михаил.
*
Я стал спать в своём кабинете. Лишённая мной ежедневных доз любви Лола Вагнер переживала ломку. Вот её послание ко мне тех дней:
«Ты знаешь, Эдуард, я лежу и думаю: я, видимо, душевнобольна.
Я признаюсь тебе в том, в чём себе даже стыдно признаться: я параноик.
Я тебе никогда не рассказывала, мне было стыдно, гордыня не позволяла, но дело обстоит так, следующим образом: я помешалась на тебе.
Фу, не хотела, чтобы ты знал, это же слабость и зависимость. Но я скажу.
Я заебала тобой всех окружающих уже давно. Я заебала тобой всех, если бы ты знал как.
Уже два года, как я параноик. Я делала очень постыдные вещи. Дошло даже до того, что я срывала лекции в своём институте — я садилась в соседней аудитории, по соседству с той, где шла лекция по истории театра, например. Я садилась и читала вслух твои книги и стихи. Я доебалась с этим до всех. Закончилось даже тем, что несколько человек всё же перестали посещать лекции, оставались со мной и слушали меня.
Я заебала тобой своих преподавателей — я заставляла их беседовать на тему тебя к месту и не к месту.
Я заебала тобой актёра (её любовник до меня): я звонила ему и рассказывала о тебе ежедневно.
Я заебала тобой папу, который даже привёл мне своего знакомого писателя и историка, чтобы тот меня разубедил. Но не помогло.
Я заебала тобой Юлю. Я заставила её прочитать все твои книги. (Юля — её подруга.)
Я часами выуживала из интернета все твои фотографии и всю информацию о тебе.
Меня выгнал препод по литературе с экзамена, потому что вместо сдачи я развела дискуссионный клуб на тему тебя.
Зато на экзамене по истории, наоборот, я получила «отлично», разведя клуб.
Причём я не собиралась жить с тобой или что-то подобное. Т.е. я не считала, что влюблена, я считала себя неким мессией.
Твой телефон был у меня за год до нашего знакомства. Я заебала всех в поисках твоего телефона. В итоге даже нашла, перерыв весь интернет. Какой-то посторонний мужик дал мне. Дал, потому что не выдержал,— заебала.
Я настолько ебанутая, что даже делала моноспектакль про тебя. Ещё умудрилась и выступить с ним.
Ну а теперь я заебала тебя.
Я параноик. Наверное, нужно заканчивать тебя любить, или как это назвать. Стыдно было признаться, но хоть диагноз ясен».
Я ответил ей на её послание моим посланием к ней. Из комнаты в комнату.
Лола!
По твоему письму судя, ты тотально ничего не понимаешь. Ты зацикленный на себе эгоист. Тебе вынь да положь любовь, внимание, всё, обслугу 24 часа в сутки.
Любовь для меня не вся жизнь, но лишь часть её… Я ей предаюсь, когда могу и хочу охотно, но я не молюсь на неё осатанело. Она для меня куда меньше желания подчинить себе этот мир, например. Я не вишу ни на ком, с требованием «дай любви!», и не хочу, чтоб мне впивались в горло, истерически требуя: «Дай!»
Моя жена требовала, чтоб я принёс свою жизнь в жертву нашим детям, ты, фактически, требуешь, чтоб я принёс свою жизнь в жертву тебе. А взамен я буду, видимо, иметь пожизненное право готовить тебе еду, развлекать разговорами, выгодно оттенять тебя своей персоной, а ты будешь сжимать меня в своих душных объятиях.
Извини, подруга, у меня на себя другие планы. И у меня есть партия и народ, которым я кое-что должен. И моя страна, да пусть не звучит это пышно.
Ты не умеешь и не хочешь быть равным партнёром, ты хочешь быть невыносимым грузом, чтоб нельзя было тебя не заметить, такую тяжесть.
Твои взгляды на мир не выдерживают никакой критики. Чтоб добиться чего-то в жизни (чего хочешь), нужно работать, а вовсе не продаваться. Сотни тысяч людей делают сами себя не продаваясь (я один из них), и женщин среди этих людей полно. Те небольшие деньги, которые тебе нужны на учёбу, можно заработать, и ты их заработаешь. Чего ты корчишься в надрыве! Тебе 23 года, у тебя всё впереди, у тебя, главное, есть время. Это у меня его мало.
Я тебе сказал: я — солдат по натуре своей. А ты, как обоз, который тащит назад. Солдат не может возиться с обозом бабья. Когда мы познакомились, я не углядел, не понял, что ты такая тяжёлая, во всех смыслах. Извини.
Э. Л.
Из этого обмена корреспонденцией видно, что она дала диагноз себе, и я дал ей диагноз: обоз. И было высказано моё командирское решение: «Солдат не может возиться с обозом бабья».
Письмо было написано ровно в середине сентября. В тот же вечер я вызвал к себе Дмитрия. Серьёзный и бравый футбольный фанат, активист партии с пятнадцатилетним стажем, был, по сути дела, как бы старшиной среди моих охранников. И я вызвал Лолу Вагнер. И объявил им двоим моё решение:
— К первому октября, то есть через две недели, Лола Вагнер должна покинуть квартиру 53.
— Дмитрий, я поручаю тебе операцию по выдворению госпожи Вагнер из квартиры.
Жестоко? Всё жестоко в жизни. Она бы меня съела, и ещё бы оттопталась на моих останках. Хорошая bad girl, вся состоящая из чёрной энергии.
1 октября она выселилась. Пришла машина, её погрузили. Я оказался в это время дома, она хотела прорваться ко мне попрощаться. Старший и неумолимый Дмитрий её не пустил.
«Незачем. Ни к чему это, Лола. Шеф не хочет».
Она уронила слезу и уехала. Прошли два года, но она присылает мне время от времени электронные послания. То злобные, то элегически ласковые.
Одно начиналось так: «Сегодня ночью я приду к тебе с топором и разнесу твою ёбаную дверь. Я ведь знаю, где ты живёшь».
*
Жизнь хлопает дверьми, гудит автомобилями, везущими в утренней тьме тушёнку и макароны в города, девки шуршат чулками, медленно вянут их упругие тела, пацаны подтачивают своё здоровье трудом и алкоголем, пенсионеры в полусне от лекарств, стучатся в двери утренних аптек. Солдаты едут в холодных грузовиках под тентами, туда, куда их послали командиры… Опера сидят в тёплом автомобиле чуть в стороне от моих окон, так что могут наблюдать подъезд. Контролировать меня…
Я ещё сплю, но и сквозь сон слышу, как они опять включили свой мотор. Иначе замёрзнут, модники, в своих тонких ботинках или кроссовках. Всю ночь они стоят здесь, а зачем — неведомо. Есть, видимо, некий приказ. Вдруг я вспоминаю, что на сегодняшний день назначен «День несогласных». Формулу придумал я: появиться там, где нас не ждут, объявив о месте проведения акции в последний момент. Сбор назначен в метро. Теперь понятно, почему целую ночь работает мотор под моими окнами…
*
Выдвинуться я решил рано, часов в восемь. Скоро приедут охранники. Я встаю. Пытаюсь увидеть машину оперов из окна. Не удаётся. Они умело встали так, что стоят рядом, но из окон их не видно. Но слышно. Знают ли они о том, что их слышно?
Не обязательно знают. Я готовлю себе кофе. Иду в самый старый в мире туалет с ржавым насквозь сливным бачком под потолком и думаю всё то же, что и каждое утро: «Этому бачку позавидовал бы Марсель Дюшан». Приходят охранники.
— Эдуард, снаружи две машины оперов.
— Знаю, всю ночь мотор работал. Не получилось их перехитрить, мы-то думали, они раньше двенадцати не выдвинутся.
— Попробуем что-нибудь придумать. Мы оставили «Волгу» на набережной. Пусть думают, что мы отправились на прогулку… Военная хитрость.
— Так они и повелись на вашу хитрость. Они, может, и не очень умные, каждый из них, но их учат методике, а когда применяешь методику, то шансы увеличиваются.
Мы выходим. Идём не спеша. Из джипа нас прямо в упор, через стекло, фотографируют. Вот наглецы. Правда, толстомордый с фотоаппаратом всё же замешкался, видимо, не ждали, что мы выйдем не к автомобилю, они ждали прибытия «Волги».
Идём, как ни в чём не бывало вдоль длинного «моего» дома. Выходим на Нижнюю Сыромятническую и сворачиваем к набережной.
Я: Надо же, на джипах теперь наружка работает.
Михаил: Видимо, личный автомобиль кого-то из оперов. Сегодня воскресенье.
Я: А как они проехали через шлагбаум? Ключ же надо иметь.
Илья: Эдуард, это же опера. Кто им откажет!
На набережной подрагивает наша «Волга». Бампер в бампер за ней работает мотором второй автомобиль оперов — «Форд» отечественной сборки. Затемнённые стёкла.
Я: И в воскресенье в покое не оставят. Вот она, жизнь оппозиционного политика в Российской Федерации…
Садимся в «Волгу», отъезжаем по набережной в сторону «высотки» на Котельнической.
Михаил (оглядевшись в заднее окно): Если бы хотели взять, уже взяли бы. «Форд» едет у нас на хвосте.
Водитель: Можно, я его сброшу?
Я: Давай, попытайся. Там у них ещё джип должен сзади идти.
Михаил (вглядываясь в заднее окно): Джипа нет. Зато идёт серебристая «десятка». Сейчас проверим, по нашу ли душу…
«Волга» резко ныряет вправо, мимо стройки, потом влево, прямо, и мы выкатываем на бульвары, они пустые. «Форда» не видать.
Водитель: Хэ-хэ, а вот им лысого!
Илья: Погоди, ещё вынырнут.
Я: У меня такое ощущение, что я живу вне закона. Что я только и делаю, что нарушаю закон. «Крёстный отец, не меньше!».
Михаил: Вы, Эдуард, просто едете в автомобиле отечественного производства Горьковского автозавода марки «Волга». Сегодня воскресенье. У вас прогулка.
Я: Ну да, а за мною, как минимум, несутся два автомобиля наружного наблюдения, и в каждом по три мордастых гаврика, если не по четыре.
Водитель: Вот и серебристая «десятка».
Михаил: Сейчас мы тут попробуем кое-что. На хитрую задницу есть с винтом… (Вынимает мобильный и набирает номер.) Ты подъезжай к «Атриуму» у Курского вокзала и смотри нас там. Открой дверь, подъедь, и мы к тебе пересядем. (К нам) Лёха подъедет, и мы пересядем к нему.
Водитель: И что это даст, они по рациям передадут наш номер? Поехали уж со мной!
На Садовом кольце, у Курского вокзала нас уже ждёт Лёха на «Форд-Фокусе». Наш водитель резко тормозит, и мы в темпе пересаживаемся в машину к Лёхе. Лёха отсидел год по делу о «захвате» Администрации президента. «Волга» и «Форд-Фокус» по-быстрому и в разные стороны улепётывают с Садового кольца.
Мы опять на набережной.
Михаил (оглядываясь в заднее окно): Появился старый знакомый джип. Таким образом, пацаны, с нами работают серебристая «десятка», «Форд» и джип, три автомобиля. У меня есть план, как освободиться от хвоста.
Я: Давай, реализовывай, у нас мало времени.
Михаил дотягивается с заднего сиденья до уха водителя. Объясняет. Слышен только бубнёж.
Михаил (Илье): Илья, ты сейчас выскочишь, станешь на Земляном Валу, помнишь, там есть ступени и ход сверху со двора, где у нас гараж был, найдёшь бомбилу. Стой, мы сверху бежать будем, прыгнем к тебе. Скажи бомбиле, что опаздываем.
Илья выскакивает на ближайшем перекрёстке. Он операм не нужен, их задача следить за мной, его не останавливают.
Через некоторое время Лёха подводит «Форд-Фокус» к краю тротуара на улице Воронцова Поля. Справа от нас — въезд во двор, где у нас был гараж. Лёха выключает мотор. За нами нагло, всего лишь через метров десять, причаливает к тротуару серебристая «десятка».
Михаил (глядя в заднее окно): А вот и джип стал туда дальше.
Мимо нас проезжает «Форд-Фокус», третья машина с операми. Прижимается к тротуару далеко впереди.
Я: Зачем им столько наружки?! Зря народные деньги разбазаривают. Я такого внимания не стою, да и вы не стоите, при всём моём к вам уважении…
Михаил: Они, Эдуард, думают иначе.
Я: Чего ждёте?
Михаил: Сигнала от Ильи.
Сидим. Проходит минут пятнадцать. У Михаила наконец в куртке трепещет телефон. Он достаёт телефон не спеша. Подносит к уху.
Михаил: Ага. Ага. Понял. Открой двери. (Поворачивается к Лёхе.) С богом! Поехали, Алексей!
Лёха заводит мотор, и мы срываемся с места. На глазах изумлённых оперов тормозим у въезда во двор. Серебристая «десятка» проскакивает мимо. Лёха резко бросает машину во двор и рулит там на большой скорости, сворачивая налево. Останавливает «Форд». Михаил и я выскакиваем и бежим что есть сил влево и в глубину двора. Там есть лестница, достигнув её, мы, как можем быстро, сбегаем вниз по её маршам, последний марш,— и мы на Садовом кольце, улица Земляной Вал. От потрёпанных красных «Жигулей» нам машет Илья. Влезаем на заднее сиденье.
— Гони!— кричит Илья водителю, это пожилой азербайджанец.— Опаздываем! Опаздываем!
Никто за нами не едет.
Михаил: Хэ, взъебут их сегодня начальники.
*
Такие вот труды и дни у нас. Не всегда мы хитрее оперов. Чаще всего нам не удаётся оторваться от слежки. Оно и понятно, у них богатая организация, у нас бедная, да ещё и преследуемая.
Майя/История одного черепа
А потом Надежда Ивановна и её муж Анатолий решили продавать квартиру. Они явились ко мне как обычно за квартплатой; сели в моём кабинете на обычные, строго субординированные ими же места. Он — на заднем плане, в одном из двух больших чёрных кресел, описанных у меня за долги мэру Лужкову приставами. Она — у моего стола присела на офисный хлипкий стульчик со спинкой (производство IKEA). Выложила из клеёнчатой сумки замусоленную тетрадь. Я принёс из коридора всяческие счета и немногочисленные письма, адресованные им за время, прошедшее со дня их предыдущего визита, и Надежда Ивановна, в платке вокруг головы, стала подсчитывать, что с меня причитается за коммунальные услуги и телефон. Я в это время привычно разглядывал пару.
Они такие народные, что дальше ехать некуда. Они коренные обитатели Сыров и этого дома. Он до пенсии работал электриком на «Манометре», она — официанткой. У него морщинистое лицо худого простоватого мужика, не бледное и не красноватое, но чуть тонированное от времени. С её слов я знаю, что когда-то Анатолий пил и это послужило одной из причин, почему она утащила его из Сыров, в спальный район на окраину, в квартиру дочери, здесь, в Сырах, в этом же доме у него за годы образовалась опасная команда собутыльников. Анатолий — тихий, скрипучий мужик с неплохими руками. Надежда Ивановна — тип вечно воюющей с начальством женщины. Начальство постоянно пыталось оттяпать права и привилегии у Надежды Ивановны или у Анатолия, а она их отвоёвывала. На лето пенсионеры и она, и он устраивались подрабатывать в подмосковные детские лагеря, бывшие пионерлагеря. Я знал обычно все оттенки их производственных отношений с руководством пионерлагерей. Я узнавал их в осеннее время под шум дождя за окнами, в Сырах, излагались эти истории эмоционально. Почему в осеннее? Осенью они возвращались из детских лагерей.
Мне кажется, я этим простым людям нравился своей непримиримостью, я ведь тоже вечно воюю и воевал с начальством. Может быть, по причине интуитивной симпатии Надежда Ивановна все годы, что я у них арендовал, недобирала, я думаю, с меня какую-то сумму за квартплату, ведь хотя и убитая, квартира была большая, и располагалась, фактически, в центре города. Совершив подсчёт, Надежда Ивановна получила деньги, пересчитала их, потом, пожевав губами, нелегко произнесла:
— Эдуард Вениаминович, там вам позвонит женщина из агентства. Она будет приводить людей смотреть квартиру. Мы, уж извините нас, мы решили квартиру продать. Нам там тесно, у дочери, и ребёнок вырос, да и зять не очень ладит с моим сыном. Так что вот, извините.
— Не стоит извиняться, Надежда Ивановна. Это же ваша квартира. Когда вы думаете всё это начать?
— Мы дали ваш телефон этой женщине. Она хотела бы привести клиентов уже завтра.
— Мы когда-то договаривались с вами, Надежда Ивановна, что вы предупредите меня по крайней мере за месяц…
— Эдуард Вениаминович, да не продастся квартира так сразу. Ведь с домом ничего не ясно, еще недавно собирались наш дом сносить. Ремонт годами не делали. Сейчас сделали, сказали, что сносить не будут. Покупатели хотят, чтобы всё ясно было о судьбе дома.
Извиняясь, эти добрые люди надели свои калоши и непромокабли (в случае Надежды Ивановны это была ужаснейшая жёлтая куртка), взяли зонты и ушли. Я стал искать, куда бы переселиться.
Мне так не хотелось переселяться в банальный жилой дом! Я решил попробовать снять у какого-нибудь художника творческую мастерскую. Я набрал ставшего мне другом художника Николая и озадачил его поисками. В ответ Николай прочёл мне лекцию о дороговизне творческих мастерских, сдаваемых внаём, о подлой политике московских властей, пытающихся лишить художников помещений, полученных ими от советского Союза художников. После лекции Николай все же заверил меня, что займется поиском.
Для начала он позвал меня на встречу с «настоящим живописцем» Е., «каковых уже мало. Живописец старой школы». На встречу был приглашён ещё и литератор А., друг моей московской юности конца шестидесятых, начала семидесятых. Мы с охранниками заблудились несколько раз, но всё же въехали во двор, нужный нам. Старший Михаил вышел, определился на местности, нашёл входную дверь в мастерскую, она была на первом этаже. Только после этого вышел я. Открывшаяся на звонок дверь обнажила следующую безотрадную картину. За квадратным столом под тусклой лампочкой сидели два бородатых старика и пили водку. Третий, безбородый и щуплый, открывший мне дверь, дружелюбно улыбался.
— Я сюда попал? Вы Е.?
— Именно он, Эдуард, проходите. Мы когда-то были с вами в Москве знакомы.
Один из двоих стариков за столиком встал из-за столика, и я узнал своего друга Николая. Там было потому что удручающе темно, кроме этой низко висящей над самым столом лампы,— просто сумерки и тьма.
— Проходи, Эдуард,— сказал Н.— Мы думали, ты не приедешь.
— У вас тут тайная вечеря, только мрачновато. Мы заблудились.
Я уселся четвёртым за стол. Я было подумал «четвёртым стариком», но быстро отбросил неприятный мне вариант.
— Здравствуй, Эдик,— тот старик, который седая борода лопатой явно не имел всех зубов.— Ты узнаешь меня?
— Ты Саша М., кто ж тебя забудет,— ты роман написал ещё в наши годы, а в 90-е получил за него Букера? Я не прав?
— Ты прав.
Е. стал разливать водку. А поскольку бутылка опустела, после наполнения второй рюмки он встал из-за стола.
— Извините,— сказал я,— я ничего не купил. Времени не было.
— Не волнуйся, Эдик, у него запас — целый ящик. Ты что забыл, какие они, художники.
Я не забыл. Рано умерший художник Зуйков с женой Тамарой имели под кроватью чемодан полный водки…
*
Все эти подробности не столь важны. Вы можете прочитать описание церемонии распития почти в каждой русской книге. Особенностью этой сцены является то, что она происходит лет более, чем через тридцать после того, как я в последний раз видел двоих её участников. Тогда они были злыми, вздорными, гладколицыми, яркоглазыми молодыми ещё людьми. А тут — пожалуйста, встреча стариков. Николай для меня не выглядел столь разительно, я его видел посередине его земной дороги, он приезжал ко мне в Париж. Е., хозяина мастерской — я плохо помнил, а вот А.— Сашка М., господи, он же был такой молодой, нахальный, статный…
Статный он и остался. И борода не поредела, только седая. И нахальный. Но старик. Шамкает. И вообще.
*
…Я потом сказал им: давай, Женя (Е.), ты покажешь нам работы. (Мне надоело, честно говоря, сидеть под тусклой лампочкой и пить водку со стариками. Я этого не делал несколько десятилетий. Я пью либо один, либо с молодыми людьми. Да ещё мы же сидели без женщин! Старые люди, без женщин. Всё это надо было прекратить.)
Он обрадовался, тотчас встал. И мы за ним. Художнику всегда приятно и нужно, чтоб его работы увидели. Коллеги либо соседи по искусству, в данном случае: литераторы. Мы пошли в зал. Он включил яркий свет и сразу voila! как говорят французы — Вот! Всё переменилось, из компании безысходных стариков они стали умными, талантливыми и эрудированными ребятами. Я так потом и не понял, почему они добровольно сидели в этом искусственном подвале, изображая каких-то уродливых «Едоков картофеля». Е. устроил нам ретроспективную выставку своего творчества. Вытаскивая из углов, ставил перед нами (отряхивая от пыли либо отирая ладонью рамы) картины. Многие из них были крупные картины. Это были и портреты, и пейзажи, и натюрморты на одном tableau (tableau — это я вывез от французов). Символический мир этот был приятно-старомоден, слава богу, далёк от компьютерной графики современности. Было видно, как свободно Е. владеет кистью. Е. уже не виделся мне тщедушным лысым мужичком, но приобрёл грозные очертания Демиурга Живописи. На картинах были, заметил я, многажды помещены черепа homo sapiens.
Нет, не водка заставила меня крепко задуматься над его картинами. Я обнаружил, что в его tableau есть мистическое измерение, которого в значительной степени лишён современный мир, замкнувшийся на экономике, и лишена современная культура, понимающая человека лишь как машину. Картины его — ретро, думал я, но ретро, свежо выглядящее на фоне рациональных объектов современного изобразительного искусства.
— Хочешь, Эдик, я подарю тебе череп?— предложил Е. после того, как я произнёс своё благоприятное суждение о его работах, хотя меня никто о суждении не спросил.— Череп, с которым я работал над последним триптихом?
— А он тебе, что, не нужен, Женя?
— Он исчерпал себя. Большего я не смогу из него выжать. Вот только куда я его задевал?..
И он полез искать череп, хотя я не успел ответить ему, хочу ли я в подарок череп.
— Женя, ты не хочешь сдать Эдуарду мастерскую?— спросил Николай, видимо, вспомнив, ради чего я пришёл сюда. Ради чего он, Н., меня сюда позвал.
— Коля, ты что? Я тут работаю,— ответил Е., склонив голову с высоты лестницы, где он стоял, обозревая шкаф под потолком.— Вот он!— Рука художника ушла в шкаф и вернулась, сжимая жёлтый череп небольшого размера.
— Что-то он маленький какой у тебя? Может, детский или женский,— комментировал старый Сашка.
— Может, женский…— Е. спустился на пол мастерской.
— Вот, смотри, Эдуард, за правым ухом у него дырка, видимо, от пули.
Мы столпились вокруг стоявшего в центре мастерской рабочего стола и разглядывали череп.
— Так что, не сдашь Эдуарду мастерскую?
— Могу поговорить с женой, у нас есть на чердаке комната с отдельным входом и с балконом. Там жила наша дочь, пока не сбежала от нас. Центр города, между прочим. А в мастерской я всё время работаю.
— О, поговори! (Реплика Николая.)
— Откуда ты его взял, Женя? (Реплика Николая.)
— Рабочие принесли. Экскаватор рыл во дворе, вот и нарыли.
— Нет, это не пуля… Отверстие слишком крупное, и разлом такой, что вот кость внутрь загнулась. У пули чудовищно большая скорость, а такой разлом возможен лишь при небольшой скорости орудия, которым он сделан. (Реплика А., писателя.)
— Так что, берёшь, Эдуард, от меня на память? (Хозяин мастерской.)
— Беру, пусть будет череп.
Череп переходит из рук хозяина мастерской в мои руки. Это действительно сравнительно небольшого размера череп. Голова человека, которому он принадлежал, была небольшая и круглая. Может, ребёнок, может, женщина. А может, подросток-мужчина.
— Жёлтый какой! Жёлтый, это что, потому что он старый? (Моя реплика.)
— Не могу знать. Какой принесли, такой и есть. Я его, правда, немножко заляпал краской. (Реплика Е.)
В затылочной части черепа действительно дырка. Может быть, пулевая, но кость чуть отогнута в сторону. Я видел достаточное количество трупов на войнах, однако я видел их, что называется, покрытыми плотью, потому не знаю о характере пробитых пулей отверстий в кости. Может кость быть отогнута или нет. Для этого нужно быть патологоанатомом, а лучше криминалистом. Выходного отверстия у пули нет, потому что в соответствующем месте черепа кость отсутствует вообще. Она либо снесена пулей, либо откололась по другой причине.
— Я тебе его упакую, Эдуард. (Реплика хозяина мастерской.)
Старый Женя не торопясь находит пакеты, в один из них заматывает череп и кладёт свёрток в другой пакет.
— Готово! Идёмте допивать, джентльмены!
Со стороны, если бы кто взглянул в окно, для прохожего мы выглядим либо старыми докторами, либо старыми криминалистами, либо старыми психопатами. Передают друг другу череп, вглядываются в него, движутся губы. Заворачивают его, как экспонат музея… Уходят. Выключается свет. Сбоку, из подсобного помещения, правильно решит прохожий, падает слабый свет.
Мы уселись и продолжили возлияние. Через некоторое время я ушёл с черепом, и меня приняли у двери ожидавшие меня в машине охранники. Со мною ушёл писатель Александр, и мы в тесноте, но не в обиде довезли его по темной в этом районе Москве до ближайшей станции метро. Он высадился и заторопился в жерло станции, как в подземный мир.
*
В Сырах было тихо, сыро и холодно. Охранники доставили меня в квартиру (один впереди, взбирается вверх, осматривает, что там, спускается, два со мною), я закрыл обе двери и прошёл в кабинет. Вынул из пакета свёрток с черепом, размотал его. Он мирно скалился себе в мир, который покинул, видимо, всё-таки не по своей воле.
— Ты будешь у меня находиться вот здесь, на полке. Я подвину книги, и места тебе хватит. У Гамлета в руках был череп Йорика, череп украшал жилище старых средневековых учёных и алхимиков, череп, я ручаюсь, был и у Фауста, так что и мне пристало завести себе череп в моём возрасте, в возрасте Фауста.
Произнеся всё это, я поставил его таким образом, что безглазыми глазницами своими он оказался обращённым на мою скромную постель в кабинете. Я погладил его, сказал: «Спокойной ночи!» (Не надо было этого делать.)
Я принёс из стенного шкафа в коридоре своё нехитрое постельное бельё, положил простыни и мамкино одеяло с аистами поверх и быстро уснул.
*
Приснилось мне, что на меня бросилась красивая, круглоголовая маленькая женщина. Маленькая, она была очень сильной, придавила меня к полу и начала душить. При этом она улыбалась. Каким-то нечеловеческим усилием я сбросил её с себя и взгромоздился на неё. При этом у неё слетела голова, и на полу лежал смеющийся мой череп.
— А ты, молодец, сильный мужик,— «сказала» череп.— Меня зовут Майя.— Она широко улыбнулась.
*
Я проснулся. Вспомнил, что в темноте на полке от IKEA стоит жёлтый череп, новый жилец в доме. От сознания того, что Майя смотрит сейчас в темноте на меня, мне стало не по себе. Все немногие волоски на моей спине, плечах, шее и затылке, видимо, встали дыбом, потому что я их почувствовал вдруг…
Я решительно встал и первым делом включил верхний свет. Нашёл пакет, в котором принёс в дом череп. Не глядя на череп, взял его в руки. Положил в пакет. Вышел в коридор. Протопал босыми пятками в другую комнату. Положил пакет во встроенный шкаф. Закрыл за собой дверь большой комнаты.
Пробормотал: — Извини! Ты не умеешь себя вести. Вынужден тебя изолировать! (в сторону двери, чуть, но не полностью обернувшись).
Заснул я после этого не сразу. Какое-то время прислушивался к звукам, которые есть в любой квартире. Свои. Посторонних звуков не обнаружил. Уснул.
Вообще-то первое моё побуждение следующим утром было избавиться от Майи. Однако я этого не сделал по мотивам, которые мне более или менее ясны. Конечно, тщеславие: у такого, как я, у таинственного Фауста должен быть в доме череп. Ещё эстетство, это ведь у Дюрера учёные в кельях монахи имели черепа как символ мудрости и осознания скоротечности всего живого. А ещё одна причина, почему я тогда от неё не избавился: мне стало жалко её. Ну что она будет там лежать где-то в мусоре, одна, далеко от рода, к которому она некогда принадлежала. Я решил её оставить, посмотреть, как она будет себя вести…
Вела она себя тихо. Пролежала в пакете месяцев, может быть, шесть без единого инцидента. Ни во сне меня не тревожила, ни наяву. Поэтому я решил в конце концов сменить ей режим содержания. Однажды я её вынул из пакета и поставил на полку в том же стенном шкафу, где она лежала до этого в пакете. Нужно сказать, что тот стенной шкаф имел вид, какой имеют буфеты. У него были отъезжающие такие дверцы из стекла. Вообще-то у меня там стояли рюмки, бокалы и фужеры. Я раздвинул их толпу и поставил меж них Майю. Если она и будет хулиганить, то меня от неё будут предохранять и стекло буфета, и двери и стены большой комнаты.
Прошёл ещё, может, год, и она не хулиганила. Или делала это не надо мной, может быть, над соседями, хотя мне было неизвестно, достигают ли её чары сквозь стены. Вообще я в большую комнату заходил только тогда, когда у меня бывали женщины. А женщин она, может быть, пугалась или стеснялась. Лола Вагнер на нее не жаловалась.
*
Из Сыров я без колебаний увез Майю в следующую мою квартиру, так как она выдержала все испытательные сроки. Этим я совершил, как вы поймёте сейчас, грубую ошибку. Я не только опять поместил её в большую из двух комнат, но и поставил её на доминирующую позицию. На высокий зеркальный шкаф, каковой стоял на противоположной ко входу стене большой комнаты. Поместил аккуратненько посередине шкафа на две доски. С этих подмостков Майя могла контролировать через стеклянную дверь большой комнаты всю прихожую квартиры, в том числе вход в мой кабинет и в ванную комнату.
И вскоре я убедился, что она контролирует. Я стал испытывать лёгкий страх чужого присутствия, когда выходил ночами в туалет. Такой себе ёжик волос вставал у меня на загривке, на плечах и предплечьях. Из исследований профессора Конрада Лоренца я знал, что у животных, в том числе у приматов это — естественная реакция на появление врага. Животное таким образом увеличивает свой силуэт за счёт поднявшейся дыбом шерсти, пытаясь отпугнуть врага своим видом. Домашняя кошка поступает подобным же образом, все обращали внимание, я полагаю. У человека это лёгкое иглоукалывание в корнях волос на теле, разумеется, не имеет практического результата, шерсти у него нет, увеличения силуэта не происходит, и как следствие — никого не запугаешь. Но я понял по этому безошибочному сигналу моего естества, что в квартире я не один. Майя очнулась от смирения и со своей гордой позиции стала распространять некие волны, какие могут распространять умершие. Я перестал спать один в большой комнате.
А потом ей прибыла подмога. Один из моих охранников подарил мне томик Lowcraft’a. Я впервые прочёл Lowcraft’a по-английски, ещё живя в Соединённых Штатах. Никакого особенного влияния этот автор на меня тогда не произвёл. В этот же раз чтение русских переводов вызвало у меня ту же реакцию: иглоукалывание в корнях волос на загривке и на затылке. Недолго подумав, я понял, что эманации от книги соединились с силами Майи. Вряд ли они могли бы меня погубить даже вместе. Но та степень некомфортабельности, которую я стал испытывать, (я, например, всегда уходил из большой комнаты до полуночи и закрывал за собой дверь) и ощущение, что я в квартире не один, наконец взорвало меня. Вначале я задвинул Lowcraft’a поглубже в задние ряды книг. А однажды я решительно убрал Майю в картонную коробку из-под бумаги. А когда появились мои охранники, я попросил их вынести коробку из квартиры и избавиться от неё, оставить её там, где им заблагорассудится. Признаюсь, мне было её слегка жалко.
Сейчас я повелеваю квартирой единолично. Что интересно, после выселения Майи никакого иглоукалывания на загривке я не испытываю. Исчезло ощущение присутствия опасности. Однако обнаружились «отрицательные» стороны выселения Майи. Большая комната стала вдруг намного меньше, съёжилась в размерах, после того как я выселил череп и дух умершей. Это, поверьте мне, истинная правда. Комната потеряла в длину и в ширину. И ещё: исчезло особое измерение в этой комнате, есть длина, ширина, высота (пусть урезанные без Майи), однако исчез Дух Бездны Вселенных. Я искренне сожалею об исчезновении этого Духа, несмотря на то, что я стал спокойнее. Порою я думаю, что теснимый страхом, я перестарался. Может быть, не стоило её выселять…