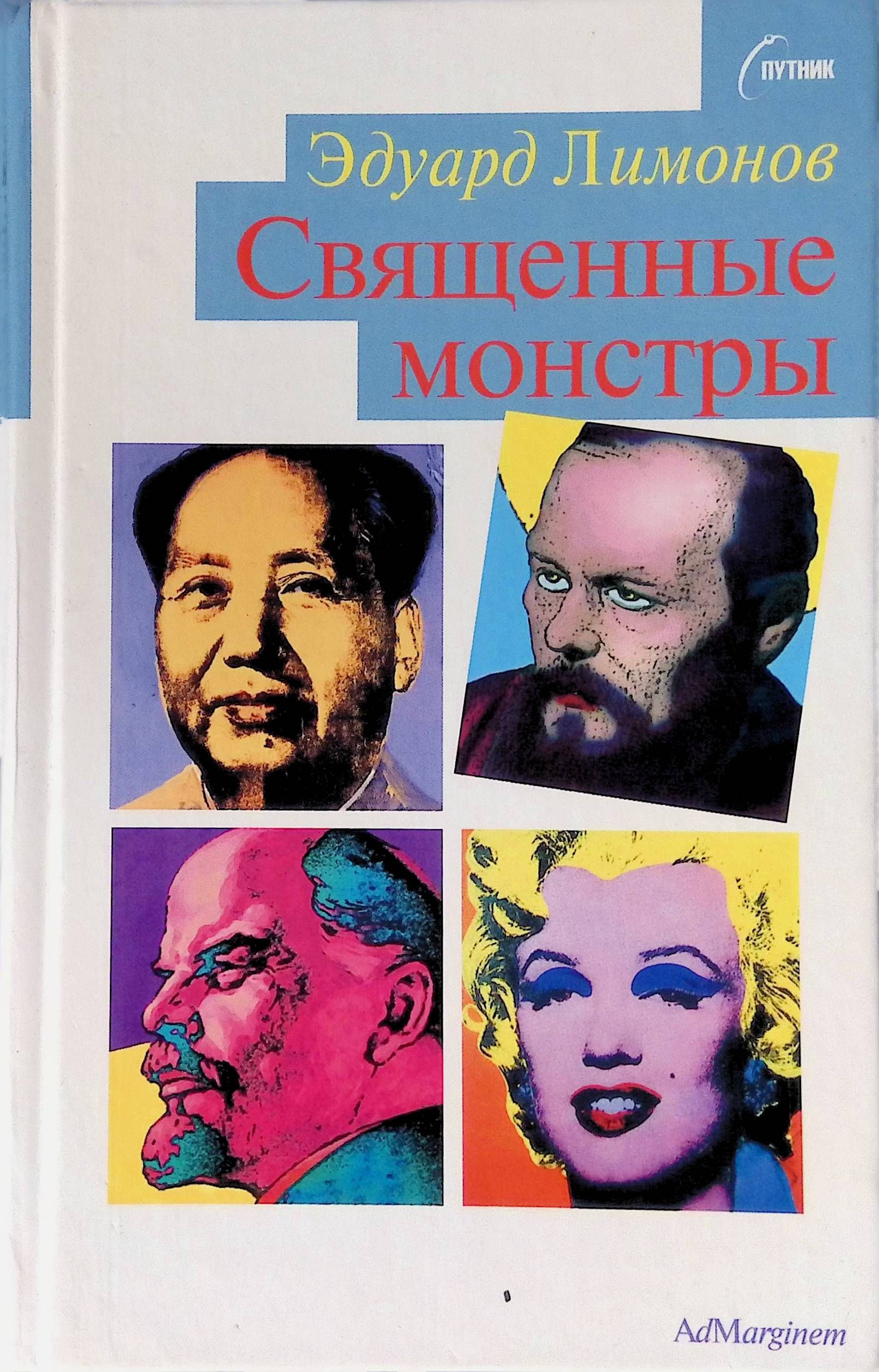Предисловие
Всех культовых личностей, собранных мною по прихоти моей как приязни, так и неприязни, объединяет не только бешеное поклонение как толп, так и горсточек рафинированных поклонников. В них во всех есть бешенство души, позволившее им дойти до логического конца своих судеб: Пазолини нашел свою судьбу на вонючем пляже в Остии, убитый персонажем своего фильма и книги («Рагаццы»), Мишима вскрыл живот на балконе штаба японской армии, по заветам «Хагакурэ», которую он так бешено рекомендовал современникам, Ван Гог прострелил свою гениальную, безумную голову в кукурузном поле под палящим солнцем Прованса, Константин Леонтьев умер, постриженный в монахи, Джон Лейденский сложил голову на плахе, Жан Жене — в Париже, но вдали от мира, спрятавшись в арабском отеле, и похоронен в Тунисе, Ницше в сумасшедшем доме… Сад в тюрьме, замаскировавшейся под сумасшедший дом.
Эта книга не предназначается для обывателя. Она предназначается для редких и странных детей, которые порою рождаются у обывателей. Для того чтобы их поощрить: смотрите, какие были les monstres sacres, священные монстры, вот какими можно быть. Большинство населения планеты, увы, живет овощной жизнью.
Книга написана в тюрьме, в первые дни пребывания в следственном изоляторе «Лефортово», я, помню, ходил по камере часами и повторял себе, дабы укрепить свой дух, имена Великих узников: Достоевский, Сад, Жан Жене, Сервантес, Достоевский, Сад… Звучали эти мои заклинания молитвой, так я повторял ежедневно, а по прошествии нескольких дней стал писать эту книгу. Мне хотелось думать о Великих и укрепляться их именами и судьбами.
Одновременно это и ревизионистская книга. Ну, на Пушкина наезжали не раз. Но обозвать его поэтом для календарей еще никто не отважился. Я думаю, что помещичий поэт Пушкин настолько устарел, что уже наше ничто. Надо было об этом сказать. Так же как и о банальности Льва Толстого и о том, что Достоевский для создания драматизма использовал простой трюк увеличения скорости, успешно выдавал своих протагонистов, невротиков и психопатов, за русских. Я полагаю, что ревизионизм — это хорошо. Он заставляет думать, и, таким образом, человечество не спит, движется успешно, строит свой дом у подножья вулкана. Мне всегда хотелось быть тем базлающим мальчиком из сказки Андерсена, который завопил: «А король-то голый!» И мальчику не важно, что будет потом, что все бросятся бить его — ведь боль побоев ничто в сравнении с неизъяснимым удовольствием возопить правду.
И еще: это бедные записки. От них пахнет парашей и тюремным ватником, который я подкладываю себе под задницу, приходя писать в камеру №25. (Часть записок написана в камере №24.) Бедные, потому что справочной литературы или хотя бы энциклопедического словаря, чтобы уточнить даты, у меня нет. Синий обшарпанный дубок — столик размером 30x60, два блокнота на нем, три ручки — вот вся бухгалтерия и библиотека.
Пушкин: поэт для календарей
Вульгарное двухсотлетие — юбилей Пушкина — совсем потопило его. А с парохода современности он упал давно и сам. Он тут даже не виноват, просто между ментальностью дворянина начала XIX века и ментальностью конца XX века мало общего. Ну конечно, «мороз и солнце, день чудесный» или «октябрь, уж роща отряхает» — это строчки российского календаря, и, как посконно-исконно календарные, их не забудешь и не заменишь. Это ясно, это гарантировано. Хотя со временем, может, и забудется, кто автор календарных стихов. Но вот, кроме календаря и общих мест (а общие места — это: «мой дядя самых честных правил…»), Пушкин нам ни для чего не нужен. Ни для того, чтоб мыслить о любви (тут ни «Я помню чудное мгновенье…», ни «Гавриилиада» не помогут). Сейчас мыслят иначе, другими категориями. Во времена Пушкина даже не то что не родился Фрейд, так еще и 40–50 лет спустя после него Тургенев слабовольно обходил вопросы пола. Его Базаров боится Одинцовой. У Пушкина с Татьяной никто не спит, и такую прелестную литературу выносить трудно. «Евгений Онегин» вообще пустая болтовня, и если это поэма о любви, то это насмешка, светское приличное изложение истории.
Сам Пушкин не отказывал (по примеру своего литературного кумира Байрона, тот и вовсе был бисексуалом, любителем оргий и группового секса) себе в плотских развлечениях, но в литературу это не попало. В литературе соблюдались постные приличия, а то, что Пушкина считают автором порнографической поэмы «Гавриилиада» — то это гротескная оборотная сторона той же литературной приличности. На самом деле «Евгений Онегин» уступает и «Чайлд Гарольду», и другим поэмам Байрона, это ниже,— как новоиспеченные русские детективы Марининой ниже добротного Чейза. Байрон жил в Европе и соревновался с соотечественниками, с Кольриджем и поэтами «озерной школы». Пушкин жил в стране, где существовала лишь поверхностная европейская дворянская культура, мало развитая. Потому его Онегин — щеголь-западник, как денди лондонский одет, но вышедший из родных грязей и потому нестерпимо провинциальный. Читать банальные строки «Евгения Онегина» сейчас невозможно — они не представляют даже и архивного интереса. Это не энциклопедия русской жизни, как утверждал пристрастный к Пушкину критик — это попытка представить модного дворянского героя нашего времени. Но и герой скучен — фланер и бездельник, и русская жизнь скушна до зевоты. В конце концов самому Пушкину стало скушно от своей энциклопедии, и он забросил поэму. Попытка во 2-й части расшевелить героя — сделать его интересным, прогнать его галопом по Европам — никак не вдохновила Пушкина, он бросил свою затею.
Всю славу Пушкина на самом деле составляют именно календарные стихи. Он впервые воспел времена года в легких и удобных запоминающихся стихах, ставших народным достоянием. А в «Евгении Онегине» джентльменский набор сдержанных светских ухаживаний с «зардевшимися ланитами», и только. И не зардевшимся никаким другим местом — это все не держит конструкции. Это беда не только Пушкина, это тотальное отсутствие жизни пола, страсти в литературе, но тот же Байрон умел повышать напряженку, трагизм в своих стихах мрачными сильными описаниями природы, описаниями нравов экзотических народов, яростной полемикой с литературными и светскими врагами. У Пушкина это получалось куда слабее.
В переводе на современность герой Пушкина Онегин — это некий асидо-кислотный юноша, поклонник рэйва с серьгой в носу, с выжженным перекисью водорода клоком. Сын новорусского папы.
Сам Пушкин удивляет неподвижностью. Ну съездил в Молдавию, к Раевскому на Кавказ, в Арзрум, и все. За 37 лет. В его время были бродяги и авантюристы в России. Один Толстой Американец чего стоит, и никакой царь им не мешал колесить по свету. Александр Сергеевич же послушно таскался по гостиным, и, по всей видимости, ему это так и не надоедало — проводить вечера в компании толстых светских девушек, дедушек и бабушек помещиков. И блистать среди них. Его долгая, на всю жизнь связь с соучениками по Лицею тоже не говорит в его пользу — говорит о его низкой социальной мобильности. Ибо сверхчеловек обычно начисто порывает со средой, в которой родился, как можно быстрее и позднее не раз меняет среду и свое окружение.
Не нравится мне Пушкин? Я же говорю: от него нужны только календарные стихи, а в остальном он выпал с парохода современности давным-давно. Его проза, все эти «Метель», «Выстрел», «Станционный смотритель» — обыкновенная дворянская продукция с гусарами и прочей традиционщиной. Эти повести мог написать любой, какой угодно писатель своего времени.
Если такой писатель, как маркиз де Сад, явился миру вперед своего времени, если его время пришло потом, позже, главным образом после его смерти, и творчество его пережевывается, переваривается и сегодня и будет перевариваться человечеством, то Пушкин устарел уже когда только появился. Он умер позже маркиза де Сада, но какой контраст не в пользу «нашего» поэта!
Приговор мой будет звучать резко: ленивый, не очень любопытный, модный Пушкин никак не тянет на национального гения. Его двухсотлетие, отмеченное с приторной помпой федеральными и московскими чиновниками, еще лишнее доказательство этого. Пушкин так банален, что даже не опасен чиновникам. Он был банален и в свое время.
Его нелепая смерь на дуэли, проистекшая из непристойного поведения его жены, достойна двух бронзовых дутых фигурок, стоящих на Арбате у телеграфа. Здесь пошлость заказа московского правительства конкурирует с пошлостью этой истории: жена шепталась, хохотала и обжималась с французом, а муж, защищая честь этой жены, получил пулю в живот и умер от этого на диване.
Пушкину всего лишь хорошо повезло после смерти. В 1887-м его поддержал большой литератор Достоевский, выпихнув в первый ряд. Позднее еще несколько высоких арбитров поддержали Достоевского. Так был сделан Пушкин. Гением его объявили специалисты. Как и Эйнштейна. Объявили потому, что надо иметь национального гения. К 1887 году было ясно, что России насущно необходим национальный гений. У всех есть, а у нас нет,— так, по-видимому, рассуждал короновавший его Достоевский. Выбрали Пушкина.
По нынешним понятиям, Пушкин выглядел бы кем-то вроде плагиатора. Его «Дубровский» несомненно заимствован из «Разбойников» Шиллера, «Бахчисарайский фонтан» развивает восточный экзотизм, привитый в Европе Байроном, «Евгений Онегин» — плохо переписанный «Чайльд Гарольд» того же Байрона, только убогенький его вариант, ибо писать Пушкину было не о чем, он знал только убогую помещичью русскую жизнь. Только у неразвитого в культурном отношении, неизбалованного народа могли прослыть шедеврами небрежные поделки вроде «Пиковой дамы». Перекраивая европейские шедевры на русский лад, Пушкин свободно использовал и заимствовал. Судьба Моцарта, Дон-Жуан, Командор (использованы несколько раз — в «Медном всаднике» и в «Дон-Жуане», некоторые мотивы в «Пиковой даме»), какие-то мотивы из Проспера Мериме (кстати, очень повлиявшего и на раннего Гоголя) — вот что питало Пушкина. Самостоятельность в выборе тем и сюжетов стала проявляться у него лишь в последние годы жизни. В «Капитанской дочке». Возможно, если бы Пушкин прожил дольше, он стал бы более оригинальным писателем.
В первые годы третьего тысячелетия Пушкина можно читать с интересом такого же характера, что и интерес, заставляющий нас рассматривать картины XVIII и XIX веков или рассматривать архивные документы того же времени. Психологически современный человек очень далек от Пушкина и вся это ретро-атрибутика в виде гусаров, чепчиков, старых дам, игры в карты, гусарского досуга должна была быть дико далека уже от советского рабочего или колхозника. Знания о человеке были в России в эпоху Пушкина примитивны, потому вселенная Пушкина несложна, да еще из нее эвакуирована полностью плоть. И это во времена, когда уже были опубликованы работы Жан-Жака Руссо, уже умерли Вольтер и Сад!
Короче говоря, Пушкин сильно преувеличен. Причем он не только испарился со временем, как некогда крепкий йод или спирт, но он и был в свое время некрепок. Для нас он едва ли на 10% интересен. Многое съело время, а многого и не было. Так пусть он украшает стихотворными открытками листки календаря. Там его место.
Достоевский: 16 кадров в секунду
В кружке Петрашевского они всего лишь обсуждали новомодные западные идеи: культурные, политические, экономические. Но в хваленой царской России этого было достаточно, чтобы быть арестованными, осужденными к смертной казни, ее на самом эшафоте заменили гражданской, сломали над головой клинок и сослали в Сибирь. Полпути до самого севера Татарии ссыльные шли с тяжелыми ножными кандалами, волоча их по грязи. Потом им оставили только ручные. И так до самого Семипалатинска в Северном Казахстане. Все за обсуждение идей. Кстати, первая ссылка Ленина тоже была наказанием за сущий пустяк. Студенты Казанского университета созвали собрание, где говорили об университетском самоуправлении. Россия была и осталась страной «кромешников» — ни свобода слова, ни свобода убеждений здесь недоступны разуму власть имущих. Я пишу эту книгу в тюрьме, куда уж лучшее доказательство. Так что Достоевский настрадался по полной программе. Только тащить эти гребаные кандалы по грязи стоило ран, рубцов и незаживающих язв. Самый монументальный и фундаментальный русский писатель. Вдохновил Ницше. Автор таких циклопических литературных построек, как «Бесы», «Братья Карамазовы», «Идиот», «Преступление и наказание». Ему платили за лист, как Бальзаку, так что писал много, длинно. Порой — слишком длинно. В его квадратных метрах рассуждений много въедливой русской абстрактной дотошности. «Что лучше: миру провалиться или мне чаю не пить?» Есть в нем дьявольщина, по слухам — изнасиловал несовершеннолетнюю сироту. Мир Федор Михайлович воспринимал серьезно, еще до стояния с мешком на голове на эшафоте у него уже были причины для трагизма: пьяные крестьяне зверски убили его папочку-помещика, поляка по национальности.
В монументальных произведениях Достоевского море слез, тысячи истерик, колоссальное количество бесед за чаем, водкой и без ничего, бесед о душе, о Боге, о мире. Герои его упиваются беседами, самоистязаются словами и истязают других. Только и делают, что высасывают из пальца, из мухи производят слона. На Западе считают, что Достоевский лучше всех сообщил в словах о русской душе и изобразил русских. Это неверно. Истеричные, плачущие, кричащие, болтающие без умолку часами, сморкающиеся и богохульствующие — население его книг — достоевские. Особый народ: достоевцы. С русскими у них мало общего. Разве только то, что они живут в русских городах — Санкт-Петербургах и прочих, на русских улицах, ходят по Невскому, и только.
Русский человек — это прежде всего северный хмурый житель. Он невесел и неразговорчив, как скандинав. Потому ему и требуется какое-то количество водки, чтоб разогреться, развязать язык и стать доступным. Оттого он идет к водке и цыганам, потому что в нормальном состоянии русскому не хватает тепла. Не таковы достоевцы. Они всегда под неким градусом истерики, готовы болтать, плакать, рассуждать и днем и ночью. Их жизненная активность, как в фильмах, пущенных со скоростью 16 кадров в секунду,— убыстренная. Мелькают руки, ноги, сопли, слезы, речи о Боге, о Дьяволе, все это на слюнявой спешной скороговорке. Может быть, этот сдвиг по скорости человеческой активности проистекает оттого, что Федор Михайлович — творец этих гиньелей — был эпилептиком? Эпилептик-то дергается, рычит, пускает пену, вытягивается всем телом на нечеловеческой скорости.
Нерусские достоевцы, живущие на скорости 16 метров в секунду,— такова загадка Достоевского. Мне лично нравятся первые сто страниц «Преступления и наказания». Очень сильно! Но дальше, к сожалению, идут сопли и слюни, и их очень изобильно. Долго и нудно выясняются отношения с Богом. Это тесные, вонючие, плотские, интимные, чуть ли не сексуальные шуры-муры с Господом. Какие-то даже неприличные по своей близости, по своей липкости и жарком дыхании. Тут опять-таки (я пишу эти слова в тюремной камере, и мне видней) есть нечто от тесной тюремной клетки, где параша и стол — рядом и нужды заключенных тесно переплелись: ты ли раскорячился на дольнике или твой сосед — малопонятно. Короче, многое тесное, жаркое, неприятно близкое в массе достоевцев от тюремного общежития происходит. От тюремного общежития, в котором обретался Федор Михайлович.
Запад любит Достоевского и его якобы русских. Все постановки русских пьес (и пьес по Достоевскому в особенности) на Западе сделаны на гротескной излишней скорости, на истерике, крике, на психическом нажиме. В западных постановках пьес Достоевского актеры ведут себя как умалишенные. Ибо умалишенными видят они достоевцев, принимая их за русских. Эта ошибка, может быть, много стоит России, но мы не знаем. А вдруг в своих стратегических вычислениях и планах Запад (и в особенности Америка) исходит из посылки, что достоевцы — это русские?
Свыше ста страниц «Преступления и наказания» читать невозможно. Родион Раскольников, так правдиво, так захватывающе прорубивший ударами топора не окно в Европу, но перегородку, отделяющую его от Великих, убедившийся, что он не тварь дрожащая, этот же Родион становится пошлым слезливым придурком. Как раз тварью дрожащей. Великолепное лето в Петербурге и великолепное высокое преступление тонет в пошлости и покаянии. Оттого, что покаяния так много, оно неискренне.
Достоевский умел находить высоких и оригинальных типов в толпе и в жизни: Раскольникова, Мышкина, Верховенского, Настасью Филипповну, наконец. Но он никогда не умел занять этих героев героическим делом. Они у него по большей части болтают и рисуются, а их покаяние невыносимо. Их связи с Богом невыносимы. Болтовня у Достоевского растягивается на сотни страниц. На самом деле, как это часто бывает с классиками, Достоевского лучше читать в изложении, чередующемся с хрестоматийными отрывками.
Нерелигиозному человеку вообще скучно с Достоевским. Сегодня побледнели и уменьшились такие места в Достоевском, как «Легенда о Великом инквизиторе». Карикатура на революционеров — «Бесы» — также не впечатляет и даже кажется заказом. Лучшие персонажи Достоевского — беспредельщик студент с топором Родя Раскольников и не от мира сего бедный князь Мышкин — очень хороши. Тут можно позавидовать Достоевскому. Правда, он не сумел их употребить на 100 %. Но он их нашел!
Бодлер: новый эстетизм
В Париже я часто совершал паломничество на набережную Анжу. Там в отеле «Пимодан» — еще раньше он назывался «Отель де Лозен», в честь его хозяина, шевалье де Лозена,— жил Шарль Бодлер. Именно в период создания «Цветов зла», в относительно благополучный период своей жизни. Здесь же на другом этаже квартировал Теофиль Готье, автор «Эмали и Камеи», сюда приходила к Бодлеру и подолгу жила с ним его черная Векора, негритянка с острова Мартиник. Здесь же, в отеле «Пимодан», эстеты, золотая молодежь того времени, Бодлер и Готье среди них, курили гашиш, здесь помещался клуб «гашишинов». Тогда подобное занятие не наказывалось законом и предавались ему едва ли десятки выдающихся индивидуумов на всей территории Франции. В XX веке опошляющая и вульгаризирующая все Америка привьет вкус к наркотикам массам, а тогда это было высшее удовольствие эстетов.
В десятке метров от отеля «Пимодан» несет свои гнилые воды Сена. Множество деталей в стихах Бодлера появилось в них по причине близости этой реки. Разная, в зависимости от цвета туч и времени года, вода Сены разрушала и разрушает остров Сен-Луи, на котором стоит отель «Пимодан». Пятна гнили на камнях набережной и на старых домах, сыреющая быстро и отваливающаяся штукатурка, сырой прогорклый воздух — все это неумолимая работа реки. В отеле «Пимодан» нет музея, хотя туда можно, говорят, попасть, если записаться заранее в таинственном учреждении в мэрии Парижа. Дом Бодлера и Готье служит этаким элитным отелем. В настоящее время там останавливаются гости парижского муниципалитета. Так по крайней мере повествовал в середине 80-х годов справочник «Paris noir», который мне привелось купить и изучить. Я ходил к дому Бодлера очень часто, по меньшей мере раз в неделю. Иногда в окне Бодлера горела лампа. Водосточные трубы на доме были позолочены или покрыты золоченой краской. Дом по соседству занимал профсоюз булочников.
К сожалению, в военной тюрьме «Лефортово» нет томика Бодлера. Если бы был, я бы построчно доказал, что «Цветы зла» строились в этом тесном уголке старого Парижа. «В дебрях старых столиц, на панелях бульваров, где во всем, даже в мерзком есть некий магнит», и старая вонючая циничная Сена с утра влияла на настроение мсье Шарля: летом она воняет теплым сырым маревом, зимой — неумолимо холодна. А пятна, лишаи, подтеки, размывы и колдобины производит она в неисчислимом количестве. Перед тем как отбыть в Москву в сентябре 93 года, перед октябрьскими событиями, я увидел в Сене, увидел с моста, белое лицо утопленника в костюме и при галстуке, утопленник тихо колыхался. Это был чистый Бодлер, цветы зла.
По сути дела Бодлер одной книгой сформулировал новую современную городскую эстетику. Остальным оставалось лишь идти за ним. Его знаменитая «Падаль» уже даже одна могла служить манифестом новой школы. До Бодлера был выродившийся пустой классицизм, галантные вирши на случай. Бодлер пришел и увидел красоту в отталкивающем, новом повседневном городском быте. Красоту в безобразном. Это вам не Пушкин, хотя время почти то же. «Голой девочке бес одевает чулки» — сдвинуло мир к новому эротизму, в котором мы живем и сегодня. Я лично часто вспоминаю «Что гонит нас вперед? Тех ненависть к отчизне… А тех, в тени Цирцеиных ресниц проведшие полжизни, надежда отстоять оставшиеся дни…». Или строчки:
Для отрока, в ночи глядящего эстампы,
За каждой далью — даль, за каждым валом — вал.
Как этот мир велик в лучах рабочей лампы
И в памяти очей как безнадежно мал.
Рано облысевший, преждевременно старый Шарль Бодлер написал помимо «Цветов зла» очень немного. Эссе «Paradises atrificielles» — где он воспевает гашиш и алкоголь, переводы Эдгара По, некоторые стихи помимо «Цветов зла». И все. Однако этого достаточно. Больше не нужно. Глядя из окна на воды Великой реки, на утопленников с белыми лицами, на баржи с углем и дровами, на речных чаек, на отчаянную городскую нищету и грязь, Бодлер сформулировал, произвел на свет и записал свой новый эстетизм. Даже сегодня мы им пользуемся. Другого нет.
«Цветы зла» пронзительно красивы. Черт его знает, где и как его озарило, этого бледного вырождающегося генеральского приемного сына, бездельника, книгочия, которого семья упрекала в расточительстве. Над ним в конце концов установили опекунство. Настолько он транжирил деньги. Ему пришлось покинуть отель «Пимодан». Высшие силы, вонючий Париж и Сена внушили ему новый взгляд на мир, ведь новая эстетика есть не что иное, как новый взгляд на мир. Я понимаю в этом толк, я написал в 1977 году мои собственные «Цветы зла» — а именно «Дневник неудачника», и с тех пор послушно выполняю программу этой книги, нашептанной мне свыше.
Но Бодлер, боже мой, как же его угораздило! Он, казалось, никак не был подготовлен для такой роли. Ведь обычно из светских бездельников, транжиров ничего не получается. Землистое длинное лицо, редкие пряди закрывают череп. Поживший развратник? Человек с дурной наследственностью? Нет. Великий поэт. Только Париж с его сотнями дождей в год, и ни один дождь не похож на другой, мог породить «Цветы зла». Только эта никогда не теплая, мокрая, вонючая столица и дохлая старая, ржавая Сена. И Бодлер — городская реальность.
Впрочем, все понятно. Первый город мира, эталон города вообще, Париж развился в супергород как раз к середине XIX столетия. Неудивительно, что «Цветы зла» появились из печати около 1852 года. Городские отравленные романсы Бодлера. Помещичьей, деревенской, дворянской, латифундистской поэзии ландшафтов пришел конец. Бодлер убил ее новой городской талантливостью. Отныне настала эпоха улочек, городских фонарей, тусклой воды, блеска и нищеты города-монстра.
Вместе с Бодлером пришел только Бальзак. Вместе они совершили, литературную революцию. А в России продолжали писать Феты и Полонские. И так вплоть до Маяковского.
А после Бодлера пришел загадочный Лотреамон, он же Изидор Дюкас.
ДеСад: создатель вселенной насилия
В гостях у великана, людоеда Минского, Жюльетт (сестра Жюстины из «Злоключений добродетели») знакомится с движущимися столами и стульями — мебелью из женских тел, употребляемой Минским. Столы ползают, многими женскими попами подставляют себя под тарелки с горячими кушаньями, стулья подползают под гостей. Минский, людоед и обжора, выпивает зараз до тридцати бутылок бургундского. Минский — воплощение Зла, абсолютного и безусловного в своей абсолютности. Многие персонажи книг де Сада есть персонификации Зла. Широкая публика допускает ошибку, веря в то, что книги де Сада — о сексе. Это книги о власти. Те, кто ожидает необыкновенных порнографических сцен у де Сада, не встретит в них ни одной. Зато найдет неисчислимые сцены насилия не сексуального, но насилия властного, просто раздавливание человека насилием. В «Философии в будуаре» дочь помогает друзьям зашить влагалище своей матери, в «120 днях Содома» удалившиеся в неприступное «шато де Сенлюс» на зиму четверо безумных либертинов всячески пытают свои жертвы самыми изощренными способами. Персонажи Сада, зацепляясь друг за друга, образуют этакие цепи мучителей, связанных общей болью. Власть и Боль есть темы Сада. Кому пришло в голову первому назвать его именем сексуальное извращение? Этот человек ошибся и ввел в заблуждение весь мир.
Маркиз Донасьен де Сад был прелестным белокурым ребенком с голубыми глазами. По воспоминаниям его отца в одном из писем, у юного Сада был моцартовский темперамент — живой, непоседливый и веселый. От природы свободный, сын высокородных родителей, связанных кровными узами с принцами крови Конде, он и родился где-то вблизи нынешнего театра «Одеон» и Люксембургского сада — там находились владения Конде, их парижский дом.
В юности он был свободен и избалован, и, очевидно, ничто не служило ему запретом — ни моральные устои, ни этикет. Потом последовали его знаменитые эскапады: история с высеченной им в Аркое — предместье Парижа — проституткой, с накормленными им шпанской мушкой проститутками на юге Франции, в Марселе, высеченными им впоследствии; со всеми он совокупился в то время, как его слуга (валет) Ля Женесс, покрывал графа сзади. Собственно говоря, приключения подобного рода были вполне в духе эпохи. Знаменитый дюк де Фронсак (он жил в то же время, что и де Сад) собирал в своем особняке вблизи современной rue Pont a Choux всех шалопаев и сексуальных девиантов эпохи. Людовику XV каждый вечер начальник полиции докладывал о происходящем в доме де Фронсака. И Людовик с интересом следил за эскападами главного либертина страны. Но дюк де Фронсак никогда не попадал в тюрьму. Сад попал. И в тюрьме он стал Садом. Под натиском насилия он создал фантастическую машину насилия, противостоящую машине насилия государства. В своем воображении, разумеется.
Надо сказать, что Сад пробовал стать приличным. Его собрание сочинений включает в себя три тома пьес. Это респектабельные, нравоучительные произведения в духе своего времени, в них добродетель побеждает зло, отцы узнают дочерей и принимают их в объятия. Короче, все моральные ценности на своих местах. Это типичный XVIII век, отнюдь не блестящие произведения, хотя Сад был уверен в обратном, в том, что его пьесы принесут ему благонравную репутацию, славу и деньги.
В свое время французский режиссер Алекс Тиховой заставил меня прочесть все эти пьесы, намереваясь заставить меня написать пьесу о Саде, каковую я так и не написал. Так вот, несмотря на благонравие и политическую и моральную корректность пьес Сада, в них присутствовало и нечто общее с произведениями, принесшими Саду его мрачную славу. А именно, действие пьес в большинстве случаев разворачивалось в крепостях, темницах, донжонах. Но это не все. Таким образом, Сад на самом деле певец насилия, а не секса. Истина как будто простая. Минский — это государство. Дергая за шнуры, чтобы отдать приказание, или дергая за них, чтобы наказать или просто дать волю дурному настроению, Минский больно кромсает тела девушек, на которых закреплены эти шнуры, отрывая соски, впиваясь в мякоть кинжалами. Прихотливая, своенравная, не знающая пределов власть государства и есть людоед Минский.
Нет, де Сад не создавал своих либертинов и людоедов из мести, чтобы хотя бы на страницах книг отомстить за себя. И не извращенная сексуальность Сада отразилась в его романах, нет. Его «Жюстин», «Жюльетт», «120 дней Содома» — это реалистические портреты власти. Пьер Паоло Пазолини прекрасно понял это. И соответствующим образом интерпретировал «120 дней Содома» в своем одноименном фильме. Существует мнение, что фильм скучен и отвратителен. Я соглашаюсь с этим: да, власть скучна и отвратительна. Загляните в тюрьмы, и вы увидите, как она скучна и отвратительна.
Сад закончил свои дни в Шарантонском приюте для умалишенных. Там у него было вполне прилично обставленное помещение, любимые книги, вино, и в возрасте около 72 лет он обзавелся малолетней любовницей, дочерью женщины, которая ему прислуживала. Когда они познакомились, крошке было 12 лет, чуть позже она стала любовницей де Сада. Злые языки утверждают, что мать и дочь хотели, чтобы старый злодей оставил им свое состояние. Умер де Сад через некоторое время после визита своей, в то время уже 17-летней, любовницы. Тихо умер во сне. Дежуривший при нем по просьбе его сына врач обнаружил утром, что Великий человек мертв.
У Сада были нормальные инстинкты и нормальные вкусы, как видим. Ну чуть повышенная сексуальность. Извращенным был мир вокруг него. Его посадила в тюрьму теща, мадам де Монтрёй. (Ныне это предместье Парижа, где традиционно правит коммунистический муниципалитет. Мэр Монтрёя Жан-Пьер Брар в 1986 году сделал меня почетным гражданином Монтрёя, в тот год мне отказали в получении французского гражданства.) В тюрьме де Сад оставался, с небольшим перерывом на время Революции, всю свою жизнь. Точнее, в тюрьмах, ибо сидел он и в шато де Винсенн, и в Бастилии, и в тюремном приюте в Шарантоне. В короткий период свободы он даже стал секретарем секции Пик Парижа. Арестовали его тещу и ее мужа, прокурора Монтрёя. Он мог отправить их на гильотину. Но творец великана Минского не сделал этого. Он освободил своих врагов.
Тюрьма — вселенная Сада. Тюрьма — царство насилия государства над личностью. Лязг ключей, холодные железные койки, железные двери, решетка на окне, процедура кормления (в кормушке — руки и кусок торса баландера), вывод из камеры (руки позади), обыскивание заключенных. Все ритуалы убийства воли человека. Сад прожил в тюрьме больше, чем на воле. Все его произведения (и пристойные моральные пьесы его, и непристойные чудовищные романы — поэмы насилию) о тюрьме. Вне тюремного каземата, донжона, крепости Сад действия не мыслил. Он создал вселенную насилия, и сам, никак не склонный к насилию, всего лишь как доктор, дал свое имя одному из симптомов.
Чуть ранее 14 июля 1789 года, если не ошибаюсь — 11 июня, первые отряды парижских буржуа, бездельников и обывателей уже собирались перед крепостью Бастилией в Сент-Антуанском предместье. Сад, заключенный тогда в Бастилии, кричал из своего окна в крепости толпе, возбуждая народ: «Они убивают нас здесь!» Однако когда 14 июля толпы взяли крепость, вопреки сопротивлению графа де Луней, коменданта Бастилии, Сада там уже не было. В крепости находилось семь заключенных. Впоследствии семья де Луней эмигрировала в Россию и в конце концов дала миру юного поэта-диссидента Вадима Делоне, отсидевшего срок за демонстрацию против вторжения в Чехословакию. Умер Делоне в Париже, от последствий алкоголизма. Так вот, Сада в Бастилии не оказалось. Его перевели в другую крепость. Однако он предусмотрительно спрятал рукопись «120 дней Содома» в расселину между камнями Бастилии. Спрятал так хорошо, что нашли ее лишь в начале XX века, перемещая остатки стены Бастилии с исторического места. Впрочем, еще при жизни, выйдя на короткое время на свободу, Сад переписал «120 дней Содома», ужесточив роман.
В детстве белокурый резвый ангелок с голубыми глазами, в юности, в пору совершения сексуальных преступлений, гибкий стройный аристократ с плохими привычками, он стал в конце концов плотным стариком с мощной грудной клеткой. Портрета его не сохранилось, так же как и его останков.
Второй раз он попал в тюрьму в 1793 году, как аристократ, не обнаруженный на месте проживания в имениях. В Провансе он считался сбежавшим эмигрантом и как таковой подлежал аресту. К тому же против него выступили некоторые революционеры из секции Пик, секретарем которой он был. Сад содержался в тюрьме Пикпюс под Парижем (сейчас это часть города, существует одноименная станция метро). Туда же, к тюрьме Пикпюс, была перевезена гильотина с площади Согласия, потому что жители Парижа уже не могли переносить запах крови, стоящий над площадью Согласия. Теперь запах крови, с лета 1793 года, стоял над тюрьмой в местечке Пикпюс. Из своего тюремного окна Сад мог видеть ежедневные казни. Так что ему досталось, гражданину Саду.
В конце жизни в Шарантоне он жил уже посвободнее. Неплохой стол, вино, юная любовница. Он ставил свои пьесы, используя персонал Шарантона как актеров. Пьесы его, как мы знаем, были политически корректны, в них торжествовала добродетель.
Никаких мрачных сексуальных извращений в де Саде никогда не было, не надо путать его с Чикотило. Если он и кормил возбуждающими желание шпанскими мушками жену пекаря Роз Келлер в Аркое и проституток в Марселе и пытался сечь их розгами, он делал это для усиления желания. Их и своего. Если он совокуплялся с проститутками в то время, как его натягивал слуга Ля Женесс, то в этом нельзя усмотреть даже гомосексуализма. XVIII век был веком крайне распущенным для французской знати, и дюк де Фронсак на рю Понт-а-Шу (Капустный мост, я жил в доме на углу Понт-а-Шу и рю де Тюренн) проделывал куда более экстремальные вещи, как я уже упоминал. И король Людовик, возможно, ловил порочное удовольствие, слушая доклады своего министра полиции. В архиве преступлений де Сада ему также вменяют в вину, что он имел в обычае нанимать к себе в замок служанками 15-летних девчушек из деревни. В зиму в замке ставили не совсем невинные спектакли, в которых наряду с женой Сада Реми-Пелажи участвовала ее сестра, а также эти 15-летние служанки. Не будет ошибкой полагать, что изобретательный маркиз знал, как употребить деревенских девчонок наилучшим образом. Однако половина российских помещиков повинна в том же самом сластолюбии. Яснополянские крестьяне, говорят, до сих пор похожи на Льва Николаевича Толстого. Достоверно известно, что Донасьен Альфонс спал с сестрой жены и даже убежал вместе с ней в Италию, где его и арестовали. Это все «преступления» Сада.
А наказанию его подвергли несоизмеримому.
В мире его романов монументальные злодеи конкурируют в насилии. Но тут уже все ясно. Тому, кто видел подъезжающие к гильотине повозки, кто дышал запахом крови тем далеким летом 1793 года, а де Сад ежедневно ожидал, что его отправят на гильотину (легенда утверждает, что один раз его фамилию выкликнули, но писарь допустил ошибку в написании фамилии, и его не взяли в повозку). Такому человеку какие же еще книги писать?
Находясь в заключении в «Лефортово», в крепости XIX века, построенной при царице Екатерине II, видя ее архитектуру, где внизу, от поста линиями расходятся коридоры и вверх ведут лестницы, вижу, какой великолепной сценической площадкой могла бы служить тюрьма «Лефортово» для Сада. Сюда посадило меня российское государство — великан-людоед Минский. Как никому другому в мире, мне понятен Сад.
Странным образом у нас с Садом оказался один издатель. Жан-Жак Повер (Pauvert) купил мою первую книгу «Это я, Эдичка» в 1979 году, в мае. Посредником послужил Николай Боков, предоставивший Поверу несколько глав, переведенных на французский. К несчастью, в том же году Editions Pauvert обанкротилось. 22 мая 1980 года я прилетел в Париж, пытаясь спасти книгу. Я встретился с Повером, и он обещал мне опубликовать книгу в издательстве, с которым он ассоциируется. Что и случилось в ноябре 1980 года. Специальностью Повера был Сад. Еще в 1953 году его судили за то, что он осмелился опубликовать полное собрание сочинений Сада. На суде выступали знаменитые адвокаты, французские писатели. В конце концов с помощью Повера Сад прочно занял свое место во французской литературе. Похожий на усатого кота, Повер выпустил подробнейшую биографию Сада, основанную на документах. Так что мы с Садом подаем друг другу руки сквозь века. Через издателя. И из тюрьмы в тюрьму.
Константин Леонтьев: эстет
В 1992 году я волею судеб оказался в Черногории. Когда мы въехали в ее древнюю горную столицу — Цетинье, фактически горную деревню, над нею висел леонтьевский дымок. Печи топились какими-то горными дровами. А может, топили выкорчеванными старыми стволами фруктовых деревьев — вишен или слив, такой был терпкий, фруктовый дым. «О, дымок мой, дымок мой, дымок. Над серыми садами зимы»,— написал некогда, лет за 120 до моего прибытия в Черногорию, Константин Леонтьев. Он служил в российском консульстве недалеко от Цетинье — в Андрианополе, там же на Балканах.
Приехав в Цетинье из Титовграда, я не вспоминал Леонтьева вовсе. Поездка моя никак не была связана с ним. Но вдохнув цетиньский дымок, я узнал его: это дымок Балкан, учуянный впервые Леонтьевым.
Константин Леонтьев один из немногих «шампанских» гениев, в общем-то, удручающе тяжеловесной русской литературы. Молодым доктором офицером он участвовал в Крымской войне, подобно Льву Толстому, затем был дипломатом — провел на Балканах более десятка лет. Обожал турок, презирал и не любил европейцев, ударил французского консула кнутом. Турок любил за их нецивилизованность, живописность костюмов, оригинальность характера. Написал гениальное эссе «Средний европеец как орудие всемирного уничтожения» и эссе «Византия и славяне». В «Среднем европейце» сумел увидеть настоящую и будущую опасность человеку от буржуа-обывателя.
«Неужели Александр в каком-нибудь крылатом шлеме переходил Граник, Цезарь — Рубикон, поэты писали, герои умирали… чтобы буржуа в своем кургузом пиджачке благодушествовал бы…» —
возмущался Леонтьев. Дворянин, эстет, он предпочитал варваров-турок в шароварах, чалме и при ятагане. Собрату-дипломату, только что приехавшему на службу, он советовал завести юную любовницу — гречанку или албанку и сходить в бани прежде всего. Тогда он узнает Восток.
Романы ему не удавались. Но русский Оскар Уальд — Константин Леонтьев великолепен в своих статьях и афоризмах. «Искусство лжи» Уальда и «Средний европеец как орудие всемирного уничтожения» написаны, собственно, на ту же тему: обоим гениям, и обританившемуся ирландцу, и русскому, предпочтителен эстетический взгляд на мир. Кентавры, птица рок, Сцилла и Харибда, Александр в крылатом шлеме — вот мир Уальда и Леонтьева, вот какой мир предпочтительнее им. А средний европеец и его кургузая экономика отвратительны обоим.
Леонтьев ревновал Россию к Толстому и Достоевскому. Его собственные романы успеха не имели. Зато сегодня Леонтьев все приближается и приближается к русскому читателю. Странный славянофил, в сущности, скорее мусульманофил, Леонтьев был впереди своего времени во многом. Первый импрессионист в русской литературе, не обсосанный, не банализированный критиками (в отличие от Толстого и Достоевского), Константин Леонтьев ждет читателя во всей своей свежести. Умер он, если не ошибаюсь, около 1891 года, но, несмотря на это, свежесть гарантирована.
Леонтьев параллелен и Уальду и Ницше. Недаром его иногда называли «русским Ницше». Общая у них основная тема — отвращение к современному европейцу-обывателю. (Ницше ненавидел более всего своих компатриотов — немцев). В этом же к ним близок Уальд. Наш Леонтьев даже несколько опережает двух европейских гениев; родившийся в 1830 или 1831 году, он ранее сформулировал свои взгляды и умер на десяток лет раньше Уальда и Ницше. Правда, Ницше уже в 1888 году сошел с ума (в этот же год погиб Ван Гог) и последние 12 лет прожил в психиатрической лечебнице.
У Леонтьева была своя теория развития нации. Нацию он уподоблял растению. В жизни нации он разделял периоды: буйного роста, ясной зрелости, цветущей сложности, вторичного упрощения и гибели. Здесь Леонтьев близко сходится с другим русским прорицателем, родившимся лет за пять до его смерти и умершим через 30 — с Велимиром Хлебниковым, с его «Досками судьбы». Оба фаталистичны.
В периоды ясной зрелости и цветущей сложности создается обычно Великая культура. Скажем, Древняя Греция за какие-нибудь несколько веков своего существования (с V по III век до н.э.) дала миру около 500 культовых гениев: полководцев, драматургов, скульпторов, философов, математиков. Впоследствии эту теории развил Лев Гумилев. Он, конечно, подошел к ней несколько иначе, более по-научному, объясняя вспышки пассионарности наций чуть ли не вспышками на Солнце, но суть общая с Леонтьевым. А именно, что жизнь наций детерминирована определенными условиями, что нации рождаются и умирают, как люди и растения, имеют возраст.
Военный врач Константин Леонтьев, разумеется, исходил из естествоиспытательских идей своего времени. Он знал и любил естественные науки. Но свое время он значительно опередил. Тогда так не мыслил никто, ни в России, ни в Америке, ни в Европе.
Неудивительно, что общая масса современников относилась к писателю и философу Леонтьеву равнодушно, его едва знали, в то время как гремели Толстой и Достоевский. Леонтьев с его социальными идеями, с отвращением к европейцам и любовью к варварству, к туркам, с его импрессионизмом, был малопонятен. Граф Толстой был попроще, его романы были попроще, его видение мира: брюхатая Наташа Ростова, Пьер Безухов, тетешкающий ребенка, были свои, близкие.
В последние годы жизни, как известно, у Леонтьева появился молодой поклонник, тоже странный писатель, Василий Розанов. Ему нравился Леонтьев, реакционер и показной мракобес. Леонтьев предлагал заморозить Россию, дабы остановить процесс надвигающейся революции. Леонтьеву не вняли. Славянофилы считали его чудаком, цари, очевидно, тоже. А зря, совет был дельный. Россию заморозили уже большевики, и до поры до времени заморозка действовала. Правда, через полсотни лет после революции доморощенные средние европейцы — диссиденты — все же явились орудием всемирного уничтожения и своими стенаниями (как христиане Римскую империю) разрушили Великую Советскую Империю. Но Леонтьев этого всего уже не видел.
Велимир Хлебников: святой
В юности, где-то в возрасте двадцати одного года, я переписал от руки три тома Хлебникова. Купить себе это очень редкое издание я не мог, ксероксов еще не существовало, поэтому пришлось переписать. Тетради эти куда-то делись. Потерялись на жизненном пути. «И вот я снял курчавое чело с могучих мяс и кости… Где тот, кому молились раньше толпы?»
…Но с ужасом я понял,
что я никем не видим,
что нужно сеять очи,
что должен сеятель очей идти,—
написал Хлебников в одном из последних стихотворений. Здесь совершенно ясно заявлена основная трагедия Велимира Хлебникова: его соревнование с Пушкиным. В соревновании он победил, снял курчавое чело того, кому молились раньше толпы с могучих мяс и кости. Однако победить Пушкина талантом, средствами поэзии оказалось недостаточным. Победа Хлебникова оказалась не видна всем, видна лишь немногим. И до сих пор не видна.
Хлебников не только неоспоримый гений поэзии XX века. Он намного крупнее и больше Пушкина, заявленного гением поэзии XIX века. В XX веке было достаточное количество высокоталантливых поэтов, но все они — Маяковский, Мандельштам, Пастернак, Крученых плюс еще многие — без остатка умаляются в Хлебникове. То есть в полифонном, политематическом поэтическом мире Хлебникова звучали и мотивы Маяковского, и Мандельштама, и Пастернака, и Крученых… но их всех вместе может заменить он один. Даже Блок с его якобы уникальной поэмой «Двенадцать» может быть найден в Хлебникове без труда. Эти сразу несколько поэм, включая поэму «Ночь перед Советами», «Ладомир» и «Война в мышеловке» могут быть рассматриваемы как прототипы поэм Маяковского, и, по всей вероятности, так оно и было. Маяковский слушал учителя. Велимир Хлебников сделал столько, что хватает как раз на дюжину первых русских поэтов XX века. Причина того, что он до сих пор невидим, не признаны его поэтические размеры даже спустя 79 лет после его смерти в деревне Санталово,— причина этого не поэтическая. Это лень, глупость и тупость наших современников. Подумать только — возвеличивать довольно ничтожную Анну Ахматову (прав был Жданов в своей оценке ее достаточно жеманных и мелких стихов), бессвязную Цветаеву, небольшого Пастернака и игнорировать поэта, написавшего «Усадьба ночью чингис-хань!», мрачные строки «Войны в мышеловке»:
Воскликнул волк:
— Я юноши тело ем!
Мы старцы, подумать пора, что делаем…
…Иль пригласите с острова Фиджи
Черных и мрачных учителей
И изучайте годами науку,
Как должно есть человечью руку…
Хлебникова называют в ряду других поэтов. Но ему место впереди, одному. Одному ему стоять, держа в руках снятое с могучих мяс и кости «курчавое чело» — голову Пушкина. Конечно, он прекрасно понимал, что соперник у него один — Пушкин. Со всеми другими он и не соревновался.
Одна из особенностей поэзии Хлебникова — он связан с Азией: Индией, как ни один русский поэт. «Рабыня с родинкой царей на смуглой груди», Азия — любовь Хлебникова. В его стихах во множестве встречаются имена полководцев и героев Азии. Возможно, азиатская ориентация Хлебникова одновременно и причина отсутствия восторга по отношению к нему у законодателей нашей культурной моды. Ведь и дворянство, и позднее русская интеллигенция, и советская интеллигенция традиционно искали примеров для подражания на Западе. Потому и обласкан Пушкин, что он на самом деле — Евгений Онегин, западный щеголь в воротничках, лакавший «вдову Клико», пунши, одетый в парижско-лондонские тряпки, подражавший англичанину Байрону и французу Просперу Мериме. Обезьяна в лампасах, на коротких ножках.
Хлебников легок, фантастически красив, яростен, оригинален. В тюремной библиотеке нет его стихов. Но даже то, что вспоминается, неотразимо.
Там, где пели свиристели,
Где качались тихо ели,
Прилетели, улетели
Стаи легких времирей…
Или:
В этот день голубых медведей,
Пролетевших по тихим ресницам,
Я предчувствую: в бездне глаз
Приказанья проснутся.
Или:
Шамана встреча и Венеры
Была прекрасна и ясна.
Она вошла во глубь пещеры
Порывом радости весна…
Напрасно Вы сели на обрубок,
Он колок и исцарапает Вас,
Берет со стола красивый кубок
И пьет, задумчив, русский квас.
Или:
Мы, воины, смело ударим
Мечом по широким щитам.
Да будет народ государем
Всегда, навсегда, здесь и там!
Мелкий поэт Самуил Маршак как-то сказал, что не может прочесть зараз более двух страничек Хлебникова. Дескать, поэт великий, но тяжелый. Маршак — недоразвитый идиот, потому что стихи Хлебникова доступны детям. В них как раз детский взгляд на мир. Они лепечут по-детски, говорят строго по-воински. Они просты и трогательно наивны и мудры одновременно. Это с Маршаком что-то не так, с его головой.
Страннический, отрешенный от мира образ жизни Велимира Хлебникова в дополнение к его стихам уж вовсе сделал из него поэта-пророка. Пророки, как известно, бродят по пустыням. В воспоминаниях Петровского рассказывается эпизод, когда Хлебников и Петровский ночевали в прикаспийской степи, и Петровский заболел. Хлебников покинул Петровского, и на все увещевания последнего не бросать его, ведь он может умереть, Хлебников спокойно ответил: «Степь отпоет», и, взяв наволочку со стихами, удалился. В этом эпизоде все по-христиански и по-апостольски просто и скупо. Этот эпизод как бы из Евангелия и скупая реплика «Степь отпоет» достойна окрестностей Тивериадского озера или каменной Галилеи. И не жестокость увела Хлебникова от Петровского, но апостолическое служение делу его — созидания хлебниковского поэтического мира. Мир этот уникальный достался нам. Хлебников сродни только Ван Гогу. Как и у великого (да-да, великого, несмотря на пошлое преклонение и сегодняшней толпы. Это Пушкину не выстоять преклонения — он слишком мал, а Ван Гогу преклонение пошляков нипочем) голландца, у Велимира присутствовала в его характере изначальная наивность, религиозная простота — черты святости. Не имея угла своего, Хлебников бродил по полям и весям России, пошел с красноармейцами Фрунзе в персидский поход, лежал в харьковской психбольнице (на знаменитой Сабуровой даче, где лежали в свое время Гаршин и Врубель и я, грешный, почти ребенком), спал на полу в комнатах друзей и закончил свой век в деревушке Санталово, Новгородской губернии, в возрасте 37 лет. Позднее, стараниями его исследователя Харджиева, прах был перенесен на Новодевичье кладбище. 30 лет назад я, живя на Погодинской улице, чуть ли не ежедневно наведывался на могилу Хлебникова, помню, отнес ему на могилу и положил большое красное яблоко. В полном соответствии со святостью Велимира нет убедительных доказательств того, что это его кости лежат на Новодевичьем. Могила была общая, и спустя много лет на санталовском погосте уж никто и не помнил, тот ли это мужик, поэт ли…
По свидетельству современников, у него были светлые водянистые глаза, как будто глядевшие внутрь его самого. Он был рассеян, малословен, отношения с женщинами как у Ван Гога. Он был влюблен, рассказывают, в одну из сестер Синяковых. (Другая сестра была замужем за поэтом Асеевым.) Художник Василий Ермилов рассказывал мне, что как-то компания сестер Синяковых и их друзей отправилась на озеро под Харьковом. Сестра, в которую Хлебников был влюблен, села в лодку с мужчиной, с кем-то из гостей, и, заплыв далеко, лодка остановилась. Через некоторое время из воды с шумом вынырнул Хлебников. Он беспокоился за девушку, в которую он был влюблен, и потому стал безмолвно плавать вокруг лодки. Объясниться в любви он не умел. Вспомним, что Ван Гог тоже не умел объясниться в любви проститутке, в которую влюбился, и потому однажды принес ей в подарок замотанное в тряпицу свое окровавленное ухо. В мире святых так принято.
Святой Хлебников был замечен во время персидского похода на берегу Каспия. Он вылезал из воды, рубаха и порты облепили тело, водоросли в волосах («Дикие волосы Харькова» — как он писал). Рыбаки дали ему рыбу, и там же на берегу, разодрав брюхо рыбине, он стал поедать из нее икру.
Это не Пушкин, с подзорной трубой и в коляске путешествующий в свите генералов. Это спустя сто лет куда более мощный талант сидит на каспийском песке на земле Ирана. Дервиш, святой юродивый, библейский персонаж, уместный в Евангелии.
Светский Маяковский, тусовщик Крученых, эго- и просто футуристы, умевшие вертеться, столичные, успешно обитавшие в окололитературной столице и в Питере, обошли его в суете. Их больше печатали. (Говнюк Маяковский даже дошел в своей подлости до того, что завопил: «Бумагу живым!» — когда зашла речь об издании собрания сочинений Хлебникова), их упоминали, они мелькали. Хлебников не умел делать «промоушен» самому себе. Он прорицал, бродил, написал мистическо-математическо-историческую скрижаль «Доски судьбы», где вывел формулу периодичности Великих Исторических событий: битв, смен династий, миграций народов. Потом он умер от голода в деревне, неудачно с точки зрения «промоушен», вдалеке от обеих столиц. Если Маяковского в последний путь провожали толпы, то Хлебникова вряд ли кто провожал. Скорее всего, за гробом не шел никто.
Свобода приходит нагая,
Бросая на сердце цветы,
И мы, с нею в ногу шагая,
Беседуем с небом «на ты»…
С небом он таки был «на ты». Вот только не нашлось у него своего Достоевского. Кто бы огласил через полсотни лет на юбилее в 1972 году, что Хлебников наш святой гений русского народа.
Хлебников — это целая литература. В середине 60-х годов, бродя в Харькове по Бурсацкому спуску, там недалеко, в самом начале его на площади Тевелева я жил, я повторял: «Раклы, безумцы и галахи!» Себя я безоговорочно причислял к этим раклам, безумцам и галахам. И я не ошибся. То, что сижу сейчас в тюрьме, несомненное доказательство. А тогда молодым совсем, двадцатилетним поэтом я искал его следы в Сабурке (Сабурова дача — первый в России крупнейший психоневрологический институт, целый комплекс) и на Бурсацком спуске, где скромный стоял дом Библиотечного института, бывшей бурсы. Харьковскую бурсу обессмертил один из ее учеников — Помяловский, оставив «Очерки бурсы». Из бурсы и вышло словечко «раклы». Это бурсаки, спускавшиеся в набеге на нижерасположенный Благовещенский рынок. Вечно голодные, они хватали любую снедь и убегали. Торговки дико кричали: «Держи ракла!» Так что я побродил по дорогам Хлебникова.
Гумилев: мистический фашист
Я долго обходил его как поэта и открыл для себя где-то в начале сербских войн или перед ними. Моя жена Наталья Медведева съездила в Россию и привезла из Питера «Избранное» Гумилева.
Как личность он меня всегда интриговал. Путешественник по Африке, дважды Георгиевский кавалер, расстрелянный за контрреволюционный заговор, написавший пророческое стихотворение «Рабочий»:
Был он занят отливаньем пули,
Той, которая меня убьет…
Это сделал в блузе светло-серой
Невысокий, старый человек.
Исподволь я стал читать Гумилева. Интересно, что уже давно, еще в 70-е годы, живя в России, я забраковал поэзию его жены Анны Ахматовой. Я был согласен со Ждановым, охарактеризовавшим ее стихи как стихи буржуазной дамочки, мечущейся между алтарем и будуаром. Позднее я познакомился с идеями и книгами его сына Льва Гумилева. И вот последними пришли ко мне стихи отца. То есть, разумеется, я не раз держал в руках стихи Николая Гумилева, но доселе не мог преодолеть их кажущуюся странную детскую простоту.
К 1991 году я был готов. Мне было 47 лет, я пережил несколько озарений — одно из них в 1976 году, еще одно как раз в 1991-м на фронте вблизи Вуковара. Я понял, что стихи Гумилева — двойные, сверху текст, мелодия, а за мелодией — мистическое содержание. Потому мне в этот раз все открылось. Заблудившийся трамвай, когда «Через Неву, через Ни и Секу мы прогремели по трем мостам». «Мне улыбнулся старик тот самый, что умер в Бейруте год назад» — в это я уже верил крепко. В мистический мир рядом.
Для меня одно стихотворение «Жираф» стоит больше, чем роман Достоевского. Или «Принцесса»:
В темных покрывалах летней ночи
Заблудилась юная принцесса.
Плачущей нашел ее рабочий,
Что работал в мрачной чаще леса.
Он отвел ее в свою избушку,
Угостил лепешкой с горьким салом,
Подложил под голову подушку
И закутал ноги одеялом,—
читал я крошечной 16-летней Насте, познакомившись с нею в 98 году. «Принцесса» — это вечный роман о любви, но это также и о мистическом сродстве душ мужчины и женщины. Редком сродстве душ. «Неужели я и вправду дома?»
Великолепно гордое стихотворение «Мои читатели».
«Капитанов» я запомнил еще по моей харьковской юности:
На полярных морях и на южных,
По изгибам зеленых зыбей,
Меж базальтовых скал и жемчужных
Шелестят паруса кораблей.
Быстрокрылых ведут капитаны,
Открыватели новых земель,
Для кого не страшны ураганы,
Кто изведал мальстремы и мель,
Чья не пылью прокуренных хартий —
Солью моря пропитана грудь,
Кто иглой на разорванной карте
Отмечает свой дерзостный путь.
И, взойдя на трепещущий мостик,
Вспоминает покинутый порт,
Отряхая ударами трости
Клочья пены с высоких ботфорт.
Или, бунт на борту обнаружив,
Из-за пояса рвет пистолет,
Так что сыплется золото с кружев,
С розоватых брабантских манжет…
Гумилев разительно отличается от других русских поэтов вообще и от других акмеистов. Может быть, он и есть единственный акмеист — в конце концов, это он создал это направление в поэзии. Поэзия агрессивной жизни. Стоицизма.
Углубясь в неведомые горы,
Заблудился старый конквистадор…
…Там он жил в тени сухих смоковниц,
Песни пел о солнечной Кастилье,
Вспоминал сраженья и любовниц,
Видел то пищали, то мантильи.
…Смерть пришла, и предложил ей воин
Поиграть в изломанные кости.
Такого нет у русских поэтов. У них слезы и сопли.
Он воспел Африку.
Оглушенная громом и топотом,
Погруженная в грохот и дымы,
О тебе, моя Африка, шепотом
В небесах говорят серафимы.
Он воспел войну.
Мы четвертый день наступаем,
Мы не ели четыре дня.
О, как сладко рядить победу,
Словно девушку, в жемчуга.
Проходя по дымному следу
Отступающего врага…
Гумилев — это наш Киплинг, это наш Пьер Лоти, но, помимо этого, он один отдувается в нашей поэзии за Леконта де Лиля, за Хосе Мария Эредиа и всю парнасскую школу.
Мистическая мужественность присутствует в биографии поэта Гумилева — мореплавателя и стрелка.
А такие стихи, как «Ода Д'Аннунцио», «Ольга», там, «где ломали друг другу крестцы с голубыми, свирепыми глазами и жилистыми руками молодцы», стихи из римского быта, «Царица», могут служить поэтическими иллюстрациями к книге Юлиуса Эволы «Языческий империализм» или Конану-варвару.
Элемент протофашизма присутствует в лошадиных дозах в стихах Гумилева. (Наряду с элементами футуристического фашизма в стихах Маяковского.) Гумилев — экзотический в России поэт протофашист. Ну и разумеется, он весь пропитан Мировой Историей. Это высококультурный поэт. Его мысли высоки. Есенин, конечно, народный любимец, но он оперирует тремя цветами (зеленый, белый и черный), у Гумилева — целая палитра, тканная из истории, географии, естественных наук, путешествий, экзотики, и, конечно, все это закутано в мистику.
Бритая лошадиная голова, удой, погон, два «Георгия» на гимнастерке. Вот он, Николай Степанович Гумилев. Каждый становится тем, кого у него хватает дерзости вообразить. Вот и Гумилев. Однако вообразить себя героем опасно, ибо все вокруг героя превращается в трагедию. Большевики его расстреляли, тем самым добавив к его судьбе и стихам крепости трагедии. Еще, как и все великие мужчины, он боролся с женщиной:
Я пробрался в глубь неизвестных стран,
Восемьдесят дней шел мой караван;
И в стране озер пять больших племен
Слушались меня, чтили мой закон…
Древний я отрыл храм из-под песка,
Именем моим названа река…
И, тая в глазах злое торжество,
Женщина в углу слушала его.
Женщина распространила свое злое торжество так далеко, что спустя сорок лет молодой Бродский и поэты питерской школы поклонялись вульгарной советской старухе Ахматовой, а не ее высокородному мужу. Элегантный Николай Степанович сдержанно мерцает в вечности. Его исторические стихи — шедевры, которых нет ни в базарном Эрмитаже, ни в убогом по сравнению с европейскими музеями Музее имени Пушкина в Москве.
Близок к Гумилеву у нас только террорист эсер Борис Савинков.
Ницше: отверженный
Родился он в 1844 году в семье протестантских пасторов. В 1870-м молодой Ницше стоял как-то в мундире санитара, и мимо него прошел целый полк солдат. В ночи, в дожде, обвешанные оружием, при блеске молний. Солдаты произвели на него величайшее впечатление. Состоялась «иллюминация», или озарение. Открылись механизмы мира.
Был младшим другом композитора Рихарда Вагнера. «Кольцо нибелунга» было признано им высшим достижением и музыки, и героизма, и немецкого патриотизма. Позднее он поссорился с Вагнером. Он был влюблен в интеллектуалку Лу Саломе, эта хитрая девочка-динамистка довела его до такого состояния, что он согласился войти с нею и своим молодым приятелем в некий триумвират. Триумвират позднее рассыпался. Известна от лучших дней фотография, на которой в повозку запряжены великий философ и его ничтожный друг, а Лу Саломе в повозке взмахнула над ними хлыстом. Позднее ловкая женщина прилипла к поэту Рильке и прилипла к Зигмунду Фрейду.
Ходили слухи, что Ницше заболел сифилисом, заразившись от своей сестры, с которой якобы состоял в преступной связи. И якобы сошел с ума от воздействия на его организм ртути, употребляемой при лечении сифилиса. Доказательств слухам или нет вовсе, или они сфальсифицированы, хотя сифилис был в свое время для Европы как сегодня СПИД.
Жесточайший противник христианства. Сторонник кастовой системы общества. Отождествлял христиан с низшей кастой — «шудра».
Певец Сверхчеловека: в написанной в библейском, евангелиевском стиле поэме «Заратустра» воспел Сверхчеловека. Стиль выбран неудачно, текст выглядит анахронизмом, бородатой древностью, что снижает эффект книги.
Ницше лучше читать в цитатах. Как Мао Тзэдонга. В общем виде все его книги, пусть они в отличие от «Заратустры» стилистически современны,— афористичны, плохо читабельны. Несмотря на то, что его считают одним из лучших стилистов немецкого языка. В 1889 году бернский профессор Фридрих Ницше сошел с ума. В последней его книге есть такие главы: «Почему я самый умный из людей?», «Почему мне ведом божественный разум?» В психиатрической лечебнице Ницше время от времени приходил в себя, но ненадолго. Его многострадальная жизнь закончилась в 1901 году.
Самое сильное в Ницше — его нигилизм, парадоксализм, его перевернутый мир: «Стройте свой дом у подножья вулкана!», тогда как дом полагается строить в безопасном месте. «Падающего — подтолкни!» — хотя полагается вытащить. Самое сильное в Ницше — это один Ницше против всех и всего. Самое сильное в Ницше — это понятие Сверхчеловека, переступившего через человеческое. Собственно, это была попытка потягаться с Христом за души человеков. Недаром так много критики Христа и христианства исходило от Ницше. Как Хлебников снял курчавое чело Пушкина с могучих мяс и кости, так Ницше захотел снять Распятого в его терновом венце. Бунт удался отчасти. У Ницше верующих в него неизмеримо меньше, чем у Христа, но это отборные люди.
В такой экстремистской от природы нации, как русские, Ницше имел и имеет немало поклонников. Писатель г-н Горький взял свои знаменитые усы у Ницше. Да он и был похож на великого философа, некоторые монологи пьесы «На дне» вибрируют интонациями Фридриха Ницше. Не перестают приходить в мир новые люди, которых магически притягивает к себе безумный творец Заратустры. Эти люди высокомерны, трагичны, они плохо кончают обыкновенно. Так же как их мэтр. Ницше, умерший 100 лет назад, полностью современный человек. Вот если бы только он избрал другую форму для своего Заратустры. Ницше — гонитель Христа, гонитель заразы христианства, он говорит жизни «Да» вместо «Нет» — а ведь «нет» жизни говорит Христос и христианство. В стенах военной тюрьмы, в плену, я говорю жизни «да», я с Ницше. Сегодня мой сокамерник Алексей сказал: «Я встану на колени только перед Богом». А я и перед Богом не встану на колени. Таковы уроки Ницше. Бернский профессор, затворник, в жизни которого было мало событий. Насупленные брови над мощным носом, дремучие усы. Борец против Системы. Мне неизвестно, какого он был роста. А ведь это важно.
«Рождение трагедии», «Антихрист», «Ессе Homo», «Так говорил Заратустра» — хлесткие, сильные титулы книг. Он умел выбирать титулы.
Бернский профессор жил без женщин. Написал бунтовщические книги, похожие на «прелестные письма» Разина. Предлагал философствовать с помощью молотка. Последние двенадцать лет жизни провел в психиатрической лечебнице.
Рыжий, низкорослый Вагнер в берете. Модный композитор, как все модные композиторы (это выше и совсем не то, что модный литератор), Вагнер был, судя по воспоминаниям, нагл, высокомерен, тиранил близких, любил, чтобы его любили и льстили ему. В этом отношении (разумеется, не по таланту) он был похож, думаю, на любого самодура композитора и музыканта — на Ростроповича или даже на режиссера Любимова. Мощь вагнеровских опер трудно отрицать. Помню, я видел «Золото Рейна» в постановке французского режиссера, там ходили великаны по три-четыре метра высотой, но это не было смешно. Светлый юноша Зигфрид, боги, валькирии — все это, разумеется, действует на тебя только в том случае, если ты хочешь, чтоб действовало. В противном случае — великаны смешны. Вагнеровская бутафорика сама по себе вдохновляющая, конечно. Русский художник Васильев сумел создать ряд отличных работ, исходя из этой бутафорики. Его Валькирия над поверженным воином понравилась бы и Вагнеру и Ницше. Они бы аплодировали.
Очарование Ницше несомненно. Сама фонетическая основа его фамилии звучит для русского как ниетже, нет же, ницше — нет говорящий. Пророчество уже на уровне имени сбывается. Нет говорящий Системе. Нет говорящий христианству. Нет говорящий человеку, тому, какой он получился в европейской цивилизации. Нет говорящий Государству. Ницшеанец полностью соответствует все отрицающему, сильному сверхчеловеку, презирающему толпу и массу. Вообще-то говоря, Ницше… вот уже сто лет играет роль умного Дьявола — Богоборца. Те, кому мир мал, тесен и отвратителен,— приходят к Ницше. Познакомившись с его философствованием с помощью молотка, они получают подтверждение своим «нет»-импульсам. Тут Ницше ободряет. Ведь всегда наряду с покорностью системе живет и другая — богоборческая, отрицающая традиция. Бунта и Восстания.
Мой сокамерник научил меня системе тюремной гимнастики, точнее, это постоянное наращивание силы — борьба с тюремной вселенной посредством своего тела. Постоянно увеличивая количество серий отжиманий и количество отжиманий в серии, я с раскрытой пастью хриплю ежедневно, борюсь за свое преобладание во вселенной колючих, полутораметровых стен, железных дверей, коек и конвоя. Это все от Ницше, хотя, как мне помнится, великий немецкий философ не сделал в своей жизни ни единого физического упражнения. У Сверхчеловека из камеры №24 глаза вылазят из орбит, трясутся ноги, но он упрямо делает себя каменным. Нет же, нет же — хриплю я. Нитцше.
Сумерки богов, то, что они умерли, Ницше объявил первым. То, что христианство — деградантская религия смерти, он объявил первым. Что христианство противоречит природе человека — он объявил первым.
Куда естественнее было бы, если бы человечество обожествляло семя человеческое — истинное чудо продолжения рода. Или же попавшие на землю из Космоса метеориты — куски астероидов, прилетевшие из постоянно расширяющейся Вечной Вселенной.
Винсент Ван Гог: волосатые звезды
Свихнувшийся рыжий голландец с трубкой и с перевязанным ухом. Родился в 1853 году, жил с проституткой, еще когда нищенствовал и ходил проповедником по шахтерским городкам Голландии и Бельгии. «Едоки картофеля» — корявые люди с лицами, похожими на клубни картофеля, это из того, шахтерского периода работа. Уже тогда питал пристрастие к проституткам, ибо святых всегда очаровывает и магнитом притягивает грех. Любил свою проститутку, предпочитая не замечать, что маленькая грязная девушка и ее мать его обманывают. Брат Тео работал в Париже у галерейщика, в конце концов, очарованный мифами импрессионизма, туда приехал и Винсент. Экстремальность его жизни поразительна. 37 лет чистой пронзительной жизни, после которой остались дичайшие холсты. Его живопись, конечно, чудо. Вот южное небо где-то в Арле. По корявой дороге под волосатыми звездами топает пара пешеходов в корявых башмаках. Небо сделано все из червяков, загнутых нервными креветками — ощущение нервной силы от неба, от всей сияющей ночи на картине. Ночное кафе в Арле — красное и желто-ядовитое, какая-то прямо засохшая кремовая кровь города. И гарсон в таком белом фартуке стоит служащим из морга.
В 1980 году раскаленным летом я попал в Арль. Побывал я и в знаменитом кафе, где некогда работала возлюбленная Ван Гога, еще одна проститутка в его жизни, и куда он принес ей в подарок свое ухо, завернутое в кусок холстины. Там я сел на террасе и думал о рыжем Голландце. О том, что черты святости в нем проявлялись вот такими вот языками адского пламени. Отрезанное ухо, ржавый пистолет, из которого он выстрелил себе в голову, и был ранен, и с окровавленной головой пошел умирать к людям. Сегодня на местах его мук, как в Вифлееме и на Голгофе, выросла целая индустрия. Арль сегодня — город-паразит, как пиявка паразитирующий на памяти человека, который при жизни был для них нежелательным иностранцем. В огромных автобусах приезжают стада японцев, германцев и всяческих европейцев, жирными пальцами тычут в кафе: вот здесь… ухо… проститутке… Ван Гог.
Желтый домик Ван Гога, там он намеревался работать вместе с Гогеном,— желтый домик сохранился на холсте: снаружи и изнутри. Простые стулья, простой быт художников. Потом они рассорились. Гоген отправился на Таити. Гоген в меньшей степени свят, нежели Ван Гог. (Интересно мистическое переплетение, в звучании их имен: Гоген, Ван Гог… Что это, Гоги и Магоги по Библии, что это, на что это намек, указание?) На Таити он жил с четырнадцатилетней туземной женой, которая в соответствии с обычаями не отказывала в ласках ни чужестранцам, ни родственникам своего племени. А Гоген не очень понимал чужие добрые обычаи.
В Амстердаме организовали огромную выставку Ван Гога к столетию со дня его смерти. Потом выставка поехала по миру. Обычно такая популяризация банализирует художника. Однако Ван Гогу массы не повредили. В неверных цветах дешевые репродукции его работ продают по всему миру букинисты. На парижских набережных репродукции Голландца колышутся на ветру рядом с портретами Че Гевары и голыми задами. Винсент неубиваем.
Интересно, что светлую землю Прованса этот выходец с хмурого низкого берега океана превратил на своих холстах в нервную, сияющую землю обетованную. Великолепны его портреты: его доктора, Гоген, арлезианки.
Издали его письма. Из них предстает наивный, святой, озабоченный только искусством, чистый идиот. В самом деле, творческий замысел, с которым не справился Достоевский, природа осуществила в судьбе Ван Гога.
Ночное кафе Голландца. Сочащееся кровью — желтые лампы, бильярдное сукно, служитель морга — гарсон. Простые формы вечности. Простые формы мучительной вечности. Трудно представить более бесспорного художника, чем Ван Гог.
Набоков: отвращение к женщине
До «Лолиты» он написал девять книг. Все эти девять, а среди них «Дар», «Машенька», «Защита Лужина», могут быть охарактеризованы как обычные эмигрантские романы. Ну с прибамбасами, вроде втиснутой романом в роман истории Чернышевского, ну написанные более изощренным языком, чем эмигрантские романы, но все же эмигрантские, ни тематикой, ни мировоззрением, ни отбором героев не выбивающиеся из жизни. Случилось так, что «Дар» я прочитал еще лет в 15 или 16, в эмигрантском журнале «Отечественные записки» году в 1958-м. Журнал я взял почитать у Лизы Вишневской, младшей в семье Вишневских — репатриантов из Франции, поселившихся, приехав, на нашей Салтовке — окраине Харькова. Когда позднее, в начале 80-х годов, я жил в Париже, я опять увидел журнал с романом В.Сирина «Дар», и я перечитал роман. После «Лолиты» Набоков написал по-английски несколько тяжелых, условных, рыхлых романов: «Бледный огонь», «Ада», «Посмотри на арлекинов». Это романы типично профессорские, написанные умно, сложно, напичканные литературными изысками. Читать их тяжело. Временами в них присутствуют искры гениальности, но они подавлены потухшей золой. Набоков — автор одной книги, и эта книга — «Лолита». Не потому, что это роман о любви мужчины к девочке, то есть испорченной якобы, то есть клубничка якобы. «Лолита» экстремально интересная книга потому, что это роман об отвращении к женщине. «Гейзика» — мать Лолиты спортретирована с неподдельным отвращением со всеми ее сюсюканиями, штанами, сигаретами, с ее отвратительной душной любовью взрослой вонючей самки. Лолита так подходит Гумберту, так нравится ему потому, что она не женщина еще. Первично здесь отталкивание от мясомассивной туши с бретельками лифчиков, вонзившимися в тучную плоть, с брюхом, нависшим над трусами, отвратительной от бритых толстых ног до жирной волосатой макушки. А лица! Умащенные мерзкими кремами лица, о, эти лица булочниц!
В романе Гумберт на самом деле бежит от гиппопотамных объятий самки. Куда угодно, лучше бы в идеальную бесплотную любовь к духу юной леди, а не к самой леди. Потому что и Лолита обещает стать мясомассой Шарлоттой, «Гейзикой», как ее мать. Помню, как удручала меня грозящим призраком мясомассы Лены ее мать Марья Григорьевна. У меня случались даже наваждения, я помню, я старался гнать от себя мысли, что моя тоненькая возлюбленная станет похожа на ее мать, на толстую приземистую женщину. Роман Набокова — это погоня за вечной молодостью, а она, молодость — Лолита, убегает с другими. И старится. Душераздирающа сцена свидания Гумберта с семнадцатилетней беременной Лолитой. Старой Лолитой!
Для плоских натур, конечно, очевиден только один план книги: история влечения 37-летнего мужчины к 12-летней девочке. На самом деле история получилась куда более грустная: погоня за вечной молодостью обречена на неудачу, отвращение к женщине вечно и потому личная жизнь всегда неудачна. Неудача, крах Гумберта — это крах всех мужчин.
В «Лолите» попутно прекрасно сделан фон: Соединенные Штаты Америки. Я, помню, привез из Калифорнии в Париж кипу местных газет и изучал их потом на досуге. Фотографии школьниц, завоевавших призы на местном конкурсе красоты, соседствовали с описаниями всяческих спектаклей и вечеров пожертвований. Летние лагеря, подобные знаменитому лагерю «Кувшинка», где Долорес Гейз обучилась с верзилой Чарли первому сексу, предлагали свои услуги. Я узнал атмосферу «Лолиты».
В позднем рассказе «Запахи и звуки» (опубликован в журнале «Культ личностей») у меня есть эпизод, когда я просыпаюсь в мотеле университетского городка Итака, рано утром, от низвергающейся Ниагары в соседском туалете и как я узнаю звуки просыпающегося, кашляющего, шаркающего мотеля. О, это же сцена, когда под утро Гумберт и Лолита стали любовниками,— доходит до меня к середине дня. Я приехал в университет, где преподавал Набоков, в Корнелльский! Тут его звуки. Написав свою книгу, Набоков разослал ее в несколько издательств. В том числе и в «Олимпию-Пресс», в Париж, издателю Морису Жиродиа, ему, очевидно, последнему, ибо репутация у «Олимпии» была скорее скверная: он издавал дешевую порнографию (довольно невинную, кстати, на современный вкус). Шел 1952 год, и пуританская Америка ну никак не могла бы проглотить «Лолиту», об издательстве в Штатах, я думаю, профессор и не мечтал. Жиродиа выпустил «Лолиту» и тем изменил судьбу скромного профессора русской литературы, энтомолога-любителя.
Впоследствии Стенли Кубрик сделал фильм по роману «Лолита». Получив деньги за экранизацию, Набоков немедленно уехал в старую добрую Европу, поселился в швейцарском отеле, где и прожил последние годы жизни.
Я уже как-то упоминал, что в 1956 году, когда Жиродиа стали судить как издателя порнолитературы, Набоков отказался приехать и выступить на его процессе. Между тем Жиродиа заслуживал защиты — помимо Набокова, он в 1953 году впервые опубликовал книгу Берроуза «Джанки» и еще ряд больших авторов.
Репутация Набокова в России была одно время непомерно раздута. Особенно в советский период. Дело в том, что Набоков, как эмигрантский литератор, крайне учтив и рафинирован в своем стиле. Дорогу в СССР ему проложила «Лолита», а за нею прочли и другие его книги. Он опередил всех других писателей-эмигрантов. Однако вскоре стало ясно, что старомодная учтивость и сдержанность — качество всех эмигрантских авторов, а не достоинство исключительно прозы Набокова. Увы, Набоков все-таки второстепенный писатель. Кроме изысканной «Лолиты» у него мало что есть.
К тому же книги его разнобойные. «Приглашение на казнь» близко к Кафке почему-то, его рассказы похожи сразу на всех писателей, у него нет доминирующей темы. Даже «Лолита», казалось бы, удача, никуда не ведет. Это всего лишь очень талантливая безупречная книга, где все компоненты сложились удачно в единое целое: в шедевр.
Луи-Фердинанд Селин: желчный инвалид
Сухощавый, изуродованный на 1-й мировой войне, куда отправился добровольцем, желчный инвалид, мрачный писатель-пессимист, доктор Селин настолько ненавидел la belle France, ее порядки, ее государство чиновников и народ тоже, что соблазнился пришлыми немцами, прыщавыми блондинами, явившимися на землю Франции. Впрочем, вскоре он раскусил и немцев, и они уже не казались ему больше спасением. В книге «Из одного замка в другой» он на одном вздохе в одном многостраничном монологе карикатуризирует и высмеивает конец войны. Живописует замок Зигмаринген у Дуная и всех, кто скрывается с ним в замке: маршала Петена, премьера Лаваля и немцев тоже. И немцев еще как. В презрительных и сатирических тонах.
Начинал Селин в 1932-м. Он выпустил, ставшую культовой, книгу «Путешествие на край ночи». Она была подобна разорвавшейся бомбе, эта книга — настоящее мировоззрение злобного правого анархиста. От нее тянуло сероводородом — от этой книги. Селин получил за «Путешествие…» премию Ренодо. Гонкура — премию более престижную — он не получил. Уже тогда и только поэтому в душе его поселилась горечь. Очевидно, ему было важно стать первым. Книга впервые говорила простым, народным языком о простой, приземленной, грязной жизни. О войне, которая оказалась для Селина и его героя — грязной, неловкой и трагичной, о пребывании в роли «колонизатора» в Африке, о приезде в Америку, о работе врачом в кварталах для бедных. Последняя часть — о работе врачом — наиболее неудачная, потому что мрачные клинические приключения бедняка и бедняков так же скучны, как советские книги о колхозниках или бродвейские улыбчивые сказки о миллионерах.
Мой парижский приятель Ален Бастье, учитель, густоусый, в кепочке, поклонник Селина, скопил у себя дома коллекцию редких изданий книг Селина и о Селине, портретов и прочих раритетов, вплоть до записей голоса Селина. Для Алена Бастье Селин — бог. И еще для сотен тысяч французов. Селин, Несомненно, совершил революцию во французской литературе — он привел нового героя: брюзжащего нигилиста, говорящего языком улицы. (Так и вижу Алена, набивающего в свою машинку табак, широкое лицо простого работяги растягивается в улыбке: «Видишь ли, Эдуард, Селин — это бог».) Этот его новый герой Бенему наговорил немало интересных истин, зрение у него как у ребенка, потому он увидел множество голых королей и всякий раз восклицал, кричал, оповещал об этом.
Селин обновил французскую литературу, указав ей пример, что есть еще непочатые запасы народных слов, народного видения, народных мнений. До него французская литература говорила языком избранных интеллектуалов. У Селина чувствуется ненависть к интеллектуалам — он ненавидит Сартра и не скрывает этого в своих книгах. Селин органически честен, он такой, какой есть. И его герои — это его портрет. Никаких тут подделок. Раздраженный, желчный, ненавидящий весь мир инвалид — таков Селин. Спасает его только черный юмор. Его черно-желтый даже юмор.
Надо сказать, что «Voyage au bord de la nuit» не гениальная одинокая книга, как это принято считать. В 1933 году вышла в Париже в «Обелиск пресс» книга Генри Миллера «Тропик Рака», также революционная и беспрецедентная, на сей раз это был феномен американской и мировой литературы. В «Тропике Рака» также низкая жизнь: богема, анархическое существование, женщины, секс, впервые показанный крупным планом. Фонарик на половые органы партнеров. (Этого у Селина не было.) Появилась тогда и еще она тоже революционная книга, которая не смогла, увы, выбиться в ранг культовых и не стала революционной для английской литературы. Речь идет о книжке Джорджа Оруэлла «Down and out in Paris and London», где Оруэлл рассказывает о своем радикальном опыте жизни бродягой и клошаром в двух европейских столицах. Кстати говоря, Оруэлл дошел в своих опытах до такого радикализма, какой не под силу был ни Селину, ни Миллеру. Он не играл в бродягу. Он стал настоящим вонючим бродягой, обитателем ночлежек. Таким образом, Селин не был единственным, но он был наиболее последовательным нигилистом и правым анархистом. Для Оруэлла «Down and out in Paris and London» была случайной книгой, все творчество Оруэлла как лоскутное одеяло, из разных книг. «Прощание с Каталонией» противоположна «1984», а вот Селин продолжал в том же духе — делал черные пессимистические книги-монологи всю свою жизнь. Умер он в Медоне, в меховой безрукавке, запущенный и больной: его жена Лили, бывшая танцовщица, в соседней комнате давала уроки танца. Это был 1963 год. Селина опять начали печатать. Позади осталось сидение в датской тюрьме под мрачным грузом смертного приговора. (Однако, если бы Селин попался под горячую руку французским силам Сопротивления в 1945-м в Париже, его бы ничто не спасло. Так что ему повезло еще. Другой коллабарант — талантливый молодой писатель и журналист Бразильяк был расстрелян.)
Мировоззрение Селина можно сравнить более всего с мировоззрением русского патриота-антисемита. Такие базлающие особи встречаются в националистической тусовке. Правда, русские его прототипы лишены его таланта, им и в голову не придет перенести свое мрачное настроение на бумагу. А перенесут — будет бесталанная паранойя.
Селин очень крупный художник слова. Возможно, если чуть девальвировать слово «гений», то он — гений. Он абсолютно силен в своем романе «Из одного замка в другой» потому, что к концу войны его жизненный цинизм созрел. Великолепны описания железнодорожной станции, куда в теплушках прибывают составы, набитые молодым прыщавым пушечным мясом — солдаты всех армий мира, желающие девок. Великолепны описания прогулок Петена и Лаваля, юная похоть дочери коменданта. Книга читается тяжело, я ее читал по-французски, из-за тяжелого стиля непрерывного монолога, практически не разделенного абзацами. Этот стиль, как бы разбитый на взрывы, на порции брюзжащего бормотания,— изобретение самого Селина. Он и во всех своих книгах ориентировался на имитацию разговорной речи, а в «Из одного замка в другой» — эта имитация поразительна. Вообще все книги Селина — раздраженный полив человека из низших слоев общества. Говорит работяга, недоверчивый, злобный, инвалид 1-й мировой, не ожидающий от государства и общества ничего хорошего. Желчный инвалид, короче.
Он любил только Лили и своего кота Бебера. Кот был с ним и в замке Зигмаринген. Еще он любил свою безрукавку мехом внутрь.
Ален Бастье, школьный учитель, прав: Селин — это бог для раздраженных работяг, для тех, кто торгует на улицах, кряхтя встает на работу в раннюю рань, ругает правительство у пивных стоек, несчастлив в личной жизни, для ипохондриков, полицейских и мрачных молодых людей. А таких во всем мире многие десятки миллионов. У Селина всегда будут читатели. Доктор бедняков, Луи-Фердинанд Дестуше может покоиться спокойно на кладбище в Медоне. Инвалида будут читать всегда.
Он съездил в Советский Союз на конгресс писателей. Советский Союз ему не понравился. Селина невозможно было провести. Да и трудно себе представить политический строй, против которого он бы не базлал.
Жан Жене: вор
Когда мы въехали в предгорье Пиренеев за городом Безье, мой друг Мишель Бидо показал мне желтые цветы, обильно покрывающие склоны. Цветы располагались на слабоолиственных прутьях, кустами. Это «жене» — сказал Мишель Бидо.
Жан Жене — вор, писатель, гомосексуалист — выбрал себе фамилию цветка горных пустырей. Обыкновенно цветок появляется на склонах после лесных пожаров. Жене в литературу ввел Жан-Поль Сартр. Ввел так назойливо, насильно таща за руку, что после появления пухлой книги Сартра «Святой Жан Жене» Жене не написал ни строчки на протяжении девяти лет.
Жене нашли в тюрьме. Беспризорник, якобы служивший в Иностранном легионе, дезертировавший оттуда, Жене попал в тюрьму подростком за кражу… и потом попадал туда не раз. Он сидел во время оккупации, под немцами и остался сидеть при освобождении. Он был уже автором пары книг, когда французская общественность во главе с Сартром вытащила его из тюрьмы — добилась его освобождения.
Самые известные его книги «Наша дама Цветов» (или «Богоматерь Цветов», как кому нравится). «Дневник вора», «Кверелль из Бреста». В них реалии тюремной жизни и всегда — история гомоэротической любви или Любовей. Но не только эти запретные или полузапретные плоды делают Жана Жене замечательным писателем. Его писательская манера характеризуется мастерским использованием крупных планов. В «Дневнике вора» у него есть описание брюк любимого человека (однорукого), подробная география этих брюк от пояса до обшлагов внизу, манеры, с какой щеголь и сутенер старой школы засовывал в брюки накладку, дабы место, где должен лежать член, выглядело бы хорошо вздутым. Топография человеческого тела, география одежды, пристальные крупные планы лица, ресниц, ногтей, заусенцев — есть неповторимая манера Жене. Его лучшие книги — очень свежие, именно потому, что он умел видеть детали.
Когда герой «Богоматери Цветов», приговоренный к гильотине убийца, идет на казнь по коридору, Жене видит куст роз округ его чела. Страдания и святость тюрьмы может быть впервые обнаружены именно Жене.
Он был небольшого роста, коротышка. Физиономия мопса — простого такого типчика, сына проститутки и неизвестного отца. Злопыхатели в России могли бы звать его Шариковым. В тюрьмах же такие лица нередки.
Выйдя из тюрьмы, он некоторое время побыл «коклюшем» французских интеллектуалов, их любимой болезнью. Его водили по салонам и показывали. Но ему это скоро наскучило. Он написал несколько пьес в жанре модного тогда театра абсурда: «Балкон», «Служанки». Пьесы с успехом ставились в театрах Парижа, Франции, Европы. Однако, он никогда не прижился среди интеллектуалов рю Сен-Жермен. Он до конца дней своих жил в маленьких дешевых арабских полукриминальных отелях и водил дружбу с криминалами и гомосексуалистами. Он купил себе домик в Тунисе. Одно время его любовником был арабский юноша-канатоходец.
Когда в 1980 году я перебрался в Париж из Нью-Йорка, я первым делом осведомился у своих издателей Жан-Жака Повера и Жан-Пьера Рамзэя — жив ли Жан Жене и что с ним. Издатели сказали, что жив, но о нем не пишут. Французское общество подвергло его остракизму за то, что он политически некорректен — поддержал палестинцев в их борьбе с Израилем, поддержал «Черных пантер» — организацию черных боевиков в Америке, выступал в защиту террористов «Красных бригад» в Италии и РАФовцев — Майнхофф и Баадера в Германии. Я спросил издателей, нельзя ли организовать мне встречу с Жаном Жене. Повер и Рамзэй сказали, что попробуют попросить об этой услуге издательство «Галлимар», но, мол, надежды на это мало. В «Галлимаре» сами не знают, где живет Жене, и порою по полгода не могут с ним связаться. Так что встречи не получилось. За все время с 1980 по 1986-й — дата его смерти — французская пресса не упомянула о Жане Жене. Словно писателя нет в живых давным-давно. Такова сила политических предрассудков. Бойкот современников — тяжкая штука. Я тогда еще не предвидел, что и мне предстоит (после десяти лет успеха) стать объектом бойкота. И именно по тем же причинам: politically uncorrect. Я поддержал Ирак, воевал в Сербии, стал националистом в России — постепенно даже самые стойкие мои сторонники отвернулись от меня, ибо общество давило на них. Вначале от меня отвернулись французы — книги еще выходили, но их не рецензировали, позднее я уже не мог находить издателей для своих рукописей. Последним моим издателем стал серб Владимир Димитриевич.
Вначале встретившая меня дружественно «демократическая» Россия вскоре тоже отвернулась от меня: не могли простить мне того, что я встал к баррикаде патриотов. В 1994–1998 годах мне трудно было найти издателя. Однако вернемся к Жене.
Мне суждено было встретиться с ним не физически, а, так сказать, проститься с Жаном Жене только в 1986 году, когда журнал «Революсьён» — интеллектуальный орган Французской компартии (я писал для них с 1982 года) — заказал мне некролог Жана Жене. Ну ясно, что в военной тюрьме «Лефортово» у меня нет копии этого некролога, а спустя 15 лет я не помню, что я там написал, не удивлюсь, что написал тогда то же, что и сейчас.
Жене умер в арабском отеле в Париже. Хозяин нашел его мертвым. В отель поехал министр культуры Жак Ланг, социалисты хотели использовать последнего Великого писателя Франции. Но Жене предвидел все это. Он завещал отправить свой труп в Тунис и похоронить на кладбище городка, близ которого находился его домик. Своему любовнику-арабу, жившему в домике, он завещал эту небогатую недвижимость и авторские права со своих книг. Мой друг, хромой фотограф Жерар Гасто, съездил в Тунис и привез фотографию могильного холмика из глины в арабской земле.
После смерти о Жене написали тонны. Для общества мертвый писатель всегда предпочтительнее живого. Ведь все великие писатели и мыслители конфликтовали и с обществом, и с государством. Мой сокамерник спит, и я использую эти часы, чтобы записать мои мысли о Жене. Я враг государства, во всяком случае, мое государство ведет себя так, что оно — мой враг. В глазок смотрят.
Есть фотография: рыженький, лысый Жене стоит в холщовых брюках и сандалетах. Он похож на русского вора, имеющего несколько ходок. Окурок прилип к губе Жана Жене. Может, он вышел за пивом. Странные, бывает, рождаются ребята на свете. Самые крутые из них умеют сохранить свою какую-то тайну. Вот Сартр известен до дыр. Он описал и систематизировал все, что мог. Жене многое недоговорил, и правильно сделал.
Из последней книги Жене явствует, что он жил в палестинских лагерях беженцев и жил на партизанских базах Организации освобождения Палестины. Он пишет о своей влюбленности в юных палестинцев-моджахедов. Он любил влюбляться и умел рассмотреть, в кого влюбился. В воинов с оружием в руках, как когда-то в приговоренных к казни на гильотине бандитов. Он никогда не скрывал своих пристрастий.
В нем нет ничего от визгливого пэдэ. Это битый жизнью мужик, хитрый и недоверчивый, как и полагается криминалу. Поговаривают, что он виновен в том, что его дружок-канатоходец Абдалла разбился, упав с каната. Жене был жесток, как тюрьма.
Франция, следует знать,— это страна с древними воровскими традициями, со своим сложным чрезвычайно развитым воровским сленгом, «арго». Если вспомнить, что вор Франсуа Вийон сделал из своих конфликтов со средневековыми законами предмет поэзии уже тогда, в начале XVI века, то можно представить глубину корней воровского мира Франции. Недалеко от Нотр-Дам стоит церковь святого Джона Бедного. Она основана в XI веке, в этой церкви, повествует табличка, часто ошивался известный поэт Франсуа Вийон. Возможно, домысливаю я, он прятал здесь краденые вещи. Жан Жене в той же традиции. Однажды он ограбил церковь, и чаша вывалилась из узла, в котором Жене тащил добычу. Так его взяли.
Приехав в Париж в 1980-м, я еще застал времена, когда «Фигаро» выходила с фотографиями преступников, казненных на гильотине. Обычай этот — публикации фотографий на последней странице «Фигаро» — прервался лишь в мае 1981 года. Социалисты, придя к власти в марте, отменили смертную казнь. Последний великий бандит Франции Месрин был расстрелян полицией из засады в 1979 году. Продолжатель дела Вийона, Боно, Люпена и других великих, Месрин носил парики, любил давать интервью прессе в компании связанного инспектора полиции. Месрин ограбил магазин Картье на пляс Ван-дом. Позднее тот же магазин ограбил его наследник Бруно Шулак. Франция воровская никогда не умрет. Жан Жене — ее достойный сын.
Эдит Пиаф: воровка
Только в 1995 году мне достался в наследство от предыдущих жильцов квартиры на Калошином переулке двойной диск Пиаф. В июле того года я расстался с женой Натальей Медведевой и водил к себе множество женщин, отыскивая себе подругу. В октябре 1995-го появилась в моей жизни хрупкая тонкая Лиза Блезе, 23 лет, и я остановил свой выбор на ней. Сидя на полу, мы пили красное вино и слушали Пиаф. Я переводил подружке песни. И меня затянуло в мир Пиаф. Что я понял? Я понял, что французы на полстолетия раньше нас оценили прелесть криминальной песни. Что в подавляющем большинстве своем песни из репертуара Пиаф — криминальные, это песни, исполняемые от лица или проститутки, или женщины простого социального статуса. Типичная и в то же время шедевр песня «Милорд». Вкратце ее содержание таково:
«Я видела вас, милорд, вчера. Вы шли в дорогом шарфе-фуляре, с девушкой под руку. О господи, как она была красива! Она вас бросила… не горюйте, милорд. Жизнь как корабль — сегодня вы на корабле, завтра нет. Пейте, милорд, пляшите, милорд. О, вы плачете, милорд!»
Я бывал в городках на берегу английского канала, откуда в Англию и из Англии направляются корабли-паромы. Низкие берега, чайки, бары, ветер, проститутки как часть пейзажа. Милорд-англичанин или англизированный француз, он прощался здесь с девушкой, возможно аристократкой, девушка бросила его. Он проходит без памяти от горя мимо сердобольной проститутки, и та зазывает его в кафе, где можно выпить стаканчик. Возможно, она получает от хозяина немного денег за каждого приведенного клиента. От проявленного к нему участия милорд рыдает. Конец.
Простой сюжетец этот разыгран как современная драма. Музыкальное сопровождение делает мелодраму неотразимой. Вся неумолимость любовной драмы смягчается участием и человеческим состраданием, пролитым как бальзам проституткой на раны милорда.
Или песня «Аккордеонист», о проститутке и аккордеонисте. Юная проститутка влюбилась в аккордеониста, пальцы которого — сухие и красивые — выбивали модную мелодию «Java» (Ява). Они влюбились друг в друга и строили планы, как они скопят денег и откроют кафе. Он будет патроном и будет играть на аккордеоне, а она будет стоять за кассой. Но началась война, его забрали в армию, и аккордеонист не вернулся с войны. Проститутка безутешна, она рыдает, ее избегают клиенты и бьет сутенер. Однажды она отправляется на бал-мюзетт, и там играет другой аккордеонист ту же мелодию — «Java». И проститутка начинает неотрывно наблюдать за пальцами аккордеониста… Сделав круг, жизнь начинается сначала.
Любовь торжествует. И у второго аккордеониста такие же сухие и красивые пальцы. «Аккордеонист» шедевр.
Когда ты берешь меня в свои руки
И обращаешься ко мне шепотом,
Я вижу жизнь в розовом цвете,—
поет Пиаф в своей самой знаменитой песне, в хите всех времен и народов «La vie en rose» (Жизнь в розовом), маленькая сухонькая женщина Эдит. В личной жизни она не раз видела жизнь в розовом цвете, в числе ее любовников Ив Монтан и множество звезд. Она любила молодых мужчин. Эта сухонькая легкая пожилая женщина с плебейским лицом. Она могла бы быть сестрой Жана Жене. По происхождению они были близки.
Детство и юность Эдит прошли на улице. Когда она стала петь с подружкой, ее не раз забирали с подружкой в полицию. Если бы не голос, этой дочери французского народа была бы уготована судьба воровки, в проститутки она не вышла бы ростом и статью, хотя у французов испорченные вкусы и на рю Сен-Дени мне самому приходилось видеть солидных мамаш. Их обычно покупали юнцы. В конце жизни Пиаф покупала юнцов. Вышедшая из криминала (сейчас есть об этом книги, их можно прочесть), девушка, согласно легенде, пела как-то на улице и ее услышал поэт Жан Кокто. Якобы было так. И он устроил карьеру Эдит. Легенда красивая. И Жан Кокто оставался до конца своих дней другом «воробышка» (Пиаф).
Великолепна в исполнении Эдит Пиаф «Карманьена»:
Это приближаются, это приближаются, это приближаются
Аристократы, мы их повесим!
Триста лет вы гоняли нас на войны,
Теперь пришла расплата, мсье короли!—
в страсть этой революционной песни простая парижанка, плебейка Эдит вносит свою личную страсть, так мощно звучат слова.
Кипящей смолой классовой ненависти, мелодрамой парижских блатных песенок о любви умела страстно залить своих слушателей маленькая худенькая женщина с консервативной прической в простом темном платье с белым воротничком. В том, что Пиаф — народная певица — достигла национальной сцены и сделалась певицей национальной, французской, можно только поаплодировать французской культуре. В России признание для певицы криминального романса невозможно. Наше официальное искусство обезжирено, чопорно, антинародно, его символ — это изобретение XVIII века — костюмированная музыкальная сказка-балет. Во Франции широкая культура немедленно адаптировала криминальную лирику Пиаф, так же как криминальные романы Жене.
Еще одна великая песня «Мой легионер!». Думаю, она принесла Иностранному легиону неисчислимое количество рекрутов, стала фольклором Легиона и его гордостью.
В чем разгадка Пиаф? В трагизме ее сюжетов, в трагизме ее персонажей, в трагизме жизни, которую обречены судьбой вести ее персонажи, в трагизме ее хрипловатого, холодного и страстного (и этим благородного) голоса. В том, что душа Пиаф подлинно чистая душа маленькой воровки, не вышедшей в проститутки ростом и статью.
Когда ты берешь меня в свои руки
И обращаешься ко мне шепотом…
Я вижу жизнь в розовом цвете…
Справедливости ради следует сказать, что пришествие Пиаф подготовили менее известные, чем она, десятки народных певиц, выступавших с подобным же криминальным романсом. Достаточно упомянуть хотя бы шансонетку Мистингет. И безусловно также, что пришествие Пиаф подготовили века криминальной культурной традиции во Франции, начиная от Франсуа Вийона. Так что Пиаф и Жан Жене не были случайными чужаками и экзотикой, они уверенно пришли в 40-х годах и уверенно заняли каждый свое место на подготовленных для них тронах.
Адольф Гитлер: художник
Есть пьеса Мишимы под названием «Мой друг — Гитлер». В пьесе Эрнест Рэм все время повторяет фразу: «Адольф — художник, а Эрнест — солдат». По ходу пьесы Гитлер доказывает обратное: действие происходит до и во время «Ночи длинных ножей», когда Гитлер уничтожил всю верхушку СА во главе с Рэмом, а заодно и других своих политических противников, среди них Штрассера.
Интересно, что Рэм (во всяком случае, Рэм — герой пьесы Мишимы) прав абсолютно. Категорически прав. Главное в Гитлере не его военная служба, в конце концов, он был капралом (или фельдфебелем) всего четыре года, с 1914 по 1918. А художником он был большую часть его жизни, и до и после 1-й мировой войны.
В годы, проведенные им в Вене, Гитлер, как известно, пережил длительный период богемы. Мать его умерла, средств для существования у Адольфа не было никаких. Он рисовал картинки для туристов, а его приятель-бомж продавал их в местах скопления туристов. Сюжеты картинок были исторические, архитектурные памятники и виды Вены: собор святого Стефана и прочее. В ту пору Гитлера помнят как мрачного сутулого парня в длинном пальто и даже в котелке, то есть с претензией на оригинальность. Ночуя где придется, в ночлежках, Гитлер и его приятель-бомж в конце концов выбились из нищеты и даже смогли снять себе комнату. В те годы Гитлер много читал и, по его собственному признанию, именно в эти годы — с 17 до 24 лет — впитал в себя все идеи, впоследствии развитые им в «Майн кампф». Рисовать он никогда не переставал. Поскольку он мечтал стать архитектором, особенно охотно, и не только потому, что хотел продать их, он избирал сюжетом для картин архитектурные ансамбли. В Вене немало великолепных исторических памятников.
Существует поверхностное мнение, что якобы Гитлер был неудачливым и неталантливым художником. Мнение это основано лишь на острой неприязни к Гитлеру как политику национал-социалисту и к нацистскому режиму, установленному им. Мне пришлось видеть многие репродукции акварелей Гитлера (например, в редкой французской книге начала 60-х годов «Женщины Гитлера»), и я должен сказать, что это поразительные акварели. Как правило, они изображают некие старые архитектурные сооружения: храмы, ворота, арки. Это нечто среднее между Клодом Лорреном и сюрреалистом итальянцем Де Кирико. Молчаливая вселенная мистически загадочных архитектурных форм. Может быть, это видевшийся Гитлеру в архитектурных формах Третий Рейх. И это талантливо.
На фронте в Северной Франции связной-велосипедист ефрейтор Гитлер запоями рисовал. В вышеупомянутой книге приведены множество мастерски выполненных акварелей и рисунков, которые я даже, если бы не знал имени автора, с удовольствием повесил бы у себя над железной койкой в «Лефортово». Обстрелы, наступления, газовые атаки, а ефрейтор Гитлер рисует. Адольф пережил жуткий шок, когда в конце войны временно ослеп после газовой атаки. Он с ужасом думал, что зрение к нему не вернется.
После войны Гитлер, и это малоизвестно, долгие годы, до 1928 года, работал художником для фирмы «Мерседес-Бенц». Известно его высказывание конца 20-х годов: «Больше всего в жизни я горжусь тем, что в прекрасных линиях «Мерседеса» есть и моя работа». Как известно, Гитлер лично нарисовал и формы народного автомобиля «Фольксваген». И это талантливо.
Период с 17 до 24 лет сформировал Гитлера: прочитанные книги, встреченные люди, ночлежки, безденежье, жизненные унижения — сделали мечтательного молодого человека крепким мужиком. Антисемитизм Гитлер тоже подцепил именно в эти годы в Вене.
Солдатом Гитлер был случайно, художником он родился. Хотел стать и стал. Весь его набор идей, мифы, которыми он питался, это идеи и мифы человека искусства.
Можно с уверенностью сказать, что, если бы не политические успехи, Адольф Гитлер стал бы в конце концов значительным художником. Называть его неудачником несправедливо. Его не приняли в Академию художеств, ну и что с того? Скольких будущих талантов и гениев никуда не приняли, а большинство вообще не училось. Все поступки Гитлера и вся его политическая жизнь — это поступки и жизнь художника, artist'a, и мстить ему, делая из него узколобого ефрейтора (впоследствии капрала, для уточнения), мстить ему post mortem — несправедливо.
Семь лет московской богемы (ровно, день в день — с 30 сентября 1967-го по 30 сентября 1974 года, когда я вылетел, и куда же? В Вену!) в моей биографии, потом страшные шесть лет на мостовых Нью-Йорка, позднее пришлось нищенствовать и в Париже, с 1980 года. Этот опыт позволяет мне хорошо понять бледного юношу Гитлера в длинном пальто, венского бродягу.
В феврале 1983 года я поехал в Мюнхен, к художнице Ренат фон Гриндер, с ответным визитом. Дело в том, что после выхода моей книги «Это я, Эдичка» в издательстве «Шерц-Ферлаг» по-немецки, я стал получать письма от немецких читателей. Письма приходили на адрес французского издательства «Рамзэй», а Коринн — пресс-атташе издательства — передавала их мне. За несколько месяцев до этого Ренат фон Гриндер прилетала в Париж, посетить меня, и оказалась высокой, очень худой, бледной блондинкой. Она останавливалась у меня на rue des Ecouffes, и мы несколько дней занимались любовью. В Мюнхене она, как оказалось, жила на Odeonplatz, в самом центре старого города. Из окна ее мастерской был виден королевский дворец. Оказалось, что именно здесь произошли трагические события германской истории — 9 ноября 1923 года на соседней улочке бунтующие национал-социалисты во главе с Гитлером и генералом Людендорфом были остановлены залпом полицейских. 16 национал-социалистов были убиты, в том числе и товарищ Гитлера, шедший рядом с ним и державший его под руку, русский немец Шеонер-Рихтер. Всякий раз, проходя по этой, мощенной старыми булыжниками, улице, я находил на булыжниках букет красных гвоздик — в память о погибших далекого 23 года. Так закончился тогда знаменитый «Пивной путч», повалились тогда на булыжники лучшие товарищи Адольфа. Сам он был арестован и провел в крепости Ландсберг под стражей полтора года в компании с Гессом. Там же он начал диктовать книгу с длинным названием: «4,5 года борьбы с (перечислялось с чем)», которое его издатель Аман сократил до короткого «Майн кампф» — «Моя борьба».
Ренат фон Гриндер вполне подходила мне по всем параметрам. Она была свихнувшаяся в богему аристократка, неглупая, друзья ее были красочно одетые панковатые ребята и девушки. Помню, что мы ездили с ней по маленьким немецким городкам, где обязательно посещали почему-то кладбища. На кладбищах оказалось множество могил с пометками дат смерти от 1941 до 1945-го и местами смерти — Сталинград, Ленинград или просто: Восточный фронт. Почему-то никакой ненависти к Гитлеру я не испытывал, красные гвоздики на брусчатке понимал. А особенно понимал юного Гитлера в Вене, потому что сам пережил голодные годы в Москве. Думаю, что в Вене Гитлер пережил «иллюминацию-озарение» и от голода и от отверженности. Я пережил в жизни несколько иллюминаций, но позднее: первую в феврале 1976 года в Нью-Йорке, вторую в ноябре–декабре 1991 года в Вуковаре, на сербско-хорватской войне, первой в моей жизни.
Теперь о женщинах Гитлера, о Гитлере и женщинах. Начиная с 1942 года, и это доподлинно известно, британская секретная служба стала распространять порочащие Гитлера слухи и печатные материалы. Задача была дана выставить его монстром, найти в нем якобы ненормальности и отклонения и тем самым превратить его в глазах населения западных стран и населения Германии (это было сложнее) в опасного и отвратительного монстра. Потому печатались всякие, якобы документальные свидетельства женщин, якобы имевших секс с Гитлером, докторов о том, что Адольф Гитлер, вождь Третьего Рейха — девиант. Были свидетельства, что у него только одно яйцо, возникали свидетельства о том, что якобы он просил своих любовниц, чтобы его били, хлестали кнутом или мочились на него. Теперь уже установлено с точностью, что эти свидетельства — фальшак, запущенный в мир британской разведкой.
Доподлинно известно, что Гитлер имел нормальные сексуальные отношения с женщинами, находясь на фронте в Северной Франции. Подозревают даже, что один из сыновей мадам Мадлен ле Руа, служившей некогда официанткой в кафе, посещаемом немецкими солдатами,— сын Гитлера. Гитлер был влюблен в юную свою племянницу Гели Раубаль, она покончила с собой в 19 лет, характер отношений дяди и племянницы не оставлял сомнений, что это была разделенная любовь. Впоследствии бюст Гели стоял на рабочем столе Гитлера в его кабинете в имперской канцелярии. По всей вероятности, Гитлер предпочитал молодых девушек. Ева Браун была моложе его на 23 года. Они познакомились, когда ей было 16, а ему 39. То, что они не позировали вместе в постели, как Джон Леннон и Йоко Оно, еще не свидетельствует о том, что они не спали вместе. Нравы тогда были другие, сдержанные, к тому же Гитлер, политик по призванию, а не по назначению, видел в политике свою судьбу, и, конечно, его политическая активность была главной в его жизни. И Гели и Еву он любил, а вот как — они унесли эту тайну с собой.
Владимир Ленин: эмигрант
В первый раз Ленин заслужил ссылку всего-навсего за то, что участвовал в собрании студентов, где обсуждались вопросы студенческого самоуправления. И только. Это обстоятельство достойно упоминания. У меня было множество встреч с Лениным. Помню, что году в 1992-ом, кажется, в один из моих коротких приездов, мне позвонил фотограф из «Paris Match», друг писателя Патрика Бессона, и сообщил, что по идее Бессона хотел бы поснимать меня в квартире-музее Ленина на rue Marie Rose. Квартирой владела ФКП (Французская коммунистическая партия), рядом на лестничной площадке жил человек, надзиравший за музеем. Фотограф договорился, и в назначенный день мы встретились у дома Ленина, поднялись, вызвали консьержа-коммуниста и начали работать. Вначале попросили разрешения переставить вещи на письменном столе Ленина, и я сел за стол, спиной к камину. Клац-клац-клац — фотограф действовал со вспышкой. На кухне старозаветные трубы вентиляции должны были выводить чад с кухни Ленина. Фотограф сделал снимки на кухне. Удивили меня две узкие металлические кровати в спальне: совсем стерильные, солдатские какие-то. Фотограф поставил меня в спальне между двумя этими солдатскими кроватями и заставил взяться руками за обе спинки. Я не знаю, где сейчас эти фотографии, в 1993 году устами члена Политбюро Ги Ермье ФКП отреклась от меня. За мой национал-большевизм. Тогда, с июня 1993 года, французская пресса массированно громила заговор национал-большевиков, обнаруженный все той же прессой. Национал-большевиками называли нас — редколлегию газеты «L'Idiot International» — всего 30–40 интеллектуалов. Так что и фотограф ФКП и «Paris Match», очевидно, сочли публикацию фотоснимков моего визита на улицу Мари Роз несвоевременной.
В 1993 году, 16 сентября, я приехал в Россию. В один из дней между 16 и 20 сентября, когда Ельцин огласил свой Указ №1400, я и Тарас Рабко посетили Музей Ленина. Тарас был тогда любопытным подростком-холериком, студентом юридического факультета Тверского университета. Он затащил меня в музей. Уже в конце визита меня узнали вдруг сотрудницы музея и радушно повели показывать комнаты музея, бывшие закрытыми для обычных посетителей. (Впрочем, может быть, по каким-то причинам эти комнаты были закрыты именно в эти дни.) Удивили меня костюмы Ленина: архи-буржуазные тройки, галстуки в горошек, массивные туфли на высоком каблуке. Женщины любезно сообщили мне, что Ленин был 163 сантиметра роста, а Сталин 164 сантиметра. Я подумал тогда, как, должно быть, был далек маленький Ленин в этих жилетках и галстучках от революционных солдат в шинелях, матросов, крестьян в армяках. Ленин выглядел разительно эмигрантски, швейцарцем этаким, явившимся в мерзлую страну. К счастью для него, ему не пришлось проходить через всеобщие выборы: с такими внешними данными и в таком костюмчике он бы никогда не выиграл. Чужой. Музей закрыли сразу после октябрьских событий.
Моя книга «Убийство часового», включавшая в себя собственно книгу «Убийство часового» и «Дисциплинарный санаторий», поступила из типографии 18 сентября 1993 года. Вышла она в издательстве «Молодая гвардия». Директор издательства и моя редакторша, кстати сказать, уговаривали меня написать книгу о Ленине для серии «Жизнь замечательных людей». Возможно, получилась бы неплохая книга, но меня привлекали другие дела.
Приехав в конце октября 2000 года в Красноярск, я попросил друзей снять для меня квартиру, так как намеревался писать книгу об Анатолии Быкове. Квартиру мне нашли в центре города, в пятиэтажке на пересечении улицы Горького и улицы Ленина, за каким-то деревянным домишком, заключенным в забор. Домишко и забор были завалены снегом по самые уши. Только через несколько недель, во время оттепели, когда снег на вывеске растаял, я обнаружил, что дом, оказывается,— музей, и музей он потому, что здесь, ожидая, когда вскроется Енисей, чтобы ехать в Шушенское, бывал, жил и ночевал Владимир Ленин. Происходило это в 1897 году, за 103 года до моего появления там. Каждое утро, вставая писать книгу, я глядел на окна Ленина и здоровался с ним.
Недалекие идиоты, всякие журналисты и журналистки, вякают порой, что Ленин разрушил старую Россию. Россию, справедливости ради следует заметить, разрушила Февральская революция. Ленин в это время жил в Швейцарии, в Цюрихе. В городе этом скопилось во время войны немало беглецов из воюющих стран. Поэты, дезертиры, художники, всяческий богемный люд, политэмигранты собирались в кабаре «Вольтер», куда нередко приходил и Ленин — русский политэмигрант. В этом кафе часто выступал, читая свои стихи, глава дадаистского движения, румын Тристан Тцара, там же бывал еще один впоследствии знаменитый человек, в те годы он был лишь известен как один из крупных художников-дадаистов Италии, граф Юлиус Эвола. Впоследствии граф Эвола из дадаиста превратился в ученого эзотерика, наконец, в философа традиционализма. Его книги «Языческий империализм», «Скачка на тигре», «Борьба против современного мира» после 2-й мировой войны имели такое же влияние на правую молодежь, как книги Маркузе на левую.
Ленин наверняка встречался с Тцара и, возможно, раскланивался и разговаривал с графом Эволой. Съездив несколько раз петь в Цюрих и на швейцарские курорты, моя жена Наталья Медведева написала шлягер про кабаре «Вольтер», Ленина, Инессу и кайзеровские миллионы. Песню эту она впоследствии включила в альбом «Трибунал Натальи Медведевой». В песне фигурирует и «сумасшедший румын» Тцара. Историю кабаре «Вольтер» она слышала от меня.
В то время в Швейцарии уже не было еще одного интересного персонажа, Бенито Муссолини. Муссолини признавался людям из своего ближайшего окружения, что встречался с Лениным в Швейцарии. Однако это случилось раньше, по меньшей мере, несколькими годами, до войны. Им было о чем поговорить, ведь они происходили из одной политической семьи. Более десяти лет Муссолини был социалистом. Когда он стал приобретать первую политическую известность, итальянские журналисты, каламбуря, называли его Муссоленин, и в те годы это прозвище не могло ему не нравиться. Муссолини старательно изучал опыт Ленина, ведь Ленин первым из социалистических вождей пришел к власти. Ему для этого понадобилось только семь месяцев, в то время как Муссолини, если считать с марта 1919 года, когда была создана фашистская партия,— три года (1922), а Гитлеру и того более — 15 лет.
В чем гениальность Ленина? Ну, во-первых, приехав в Россию через пару месяцев после Февральской революции (о, как он рвался в Россию! У него были безумные планы лететь в Россию на воздушном шаре, а также ехать по фальшивому шведскому паспорту, выдавая себя за глухонемого шведа), он обратился к своей партии с дичайшей идеей — взять курс на новую революцию. Подумать только, смешной маленький, лысый эмигрант в швейцарском галстуке в горошек приехал и заявил, что революции, видите ли, не было. РСДРП имела двух человек в Петроградском Совете: Сталина и Каменева, а всего депутатов в Совете было более шестисот, и они были счастливы этим! А тут эмигрант приехал и зовет к новой революции. «Старик пересидел за границей и перестал понимать Россию»,— говорили в партии. Но Ленин неустанно говорил, убеждал, внедрял в умы знаменитые свои Апрельские (на самом деле мартовские) тезисы, и к лету преуспел в своем убеждении. Нехотя, корчась, отплевываясь, партия пошла за ним. 42-я по численности среди других партий.
Знаменитый эпизод, когда на собрании в присутствии всех лидеров тогдашнего политического бомонда оппозиции некто (грузин, кажется, Чхеидзе) призвал к союзу всех партий, мол, ведь ни одна отдельно взятая партия не сможет повести за собой массы. «Есть такая партия»,— сказал из задних рядов зала Владимир Ленин. Так ведь его заявление сопровождалось смехом! Этого советские учебники не могли опубликовать. Это вспоминает Суханов, политический противник Ленина, сторонник Временного правительства. Ленина их смех не смущал. Пусть смеются. Он гнул свою линию. Он убедил партию и стал готовить ее к новой революции. В данном случае это несомненная яркая иллюстрация того, насколько важна роль личности в истории. Без Ленина большевики удовольствовались бы своей заурядной участью 42-й партии!
Большевикам повезло с Лениным еще и потому, что он был, как говорят американцы, workaholic («воркаголик», от «алкоголя») — запойный работник. Он написал несколько возов руководств, записочек, правил, объяснений, толкований, вплоть до руководства, адресованного часовым Смольного, как держать винтовку, что спрашивать, как останавливать непрошеного посетителя.
И какие у него были нервы! Когда два идиота, Зиновьев и Каменев, выдали в газетах дату вооруженного восстания, подготавливаемого большевиками, Ленин преспокойно перенес восстание на две недели. Потом в газеты просочились сведения о том, что Ленин якобы получил от германского правительства какое-то количество золотых миллионов на дестабилизацию ситуации в России. О кайзеровских миллионах с Вильгельмштрассе орала вся желтая пресса. Ленин — германский шпион! Нынешний лидер любой партии, окажись он в подобной ситуации, подал бы в отставку, или его изгнала бы его собственная партия. Не тут-то было в случае Ленина! Силой ума, интеллекта этот хрупкий интеллигент скрутил всех в бараний рог! Какой контраст с нынешними болванами лидерами!
Большевики собрали Россию, распавшуюся в результате Февральской революции. По частям, в течение пяти лет, с 1918 по 1922 год, собрали заново. Этим праведным процессом неустанно руководил Ленин. Партия не стеснялась брать на службу бандитов, генералов, атаманов, делая их командирами Красной армии, чтобы в нужный момент повернуть против них пулеметы и уничтожить.
Нерусская пунктуальность железного делопроизводителя, нерусская трезвость, дикая работоспособность — вот Ленин. Жестокий, трезвый, фанатичный работник. Гибкий ум, лишенный тщеславия и позерства. И как отомстил за брата!
В коридорах облупленного Казанского университета я побывал дважды. На втором этаже есть аудитория с табличкой у двери, что здесь учился В.И.Ленин. Побывать в самой аудитории мне не удалось ни в первый, ни во второй мой приезд в Казань — там шли занятия студентов. Но сам университет произвел на меня впечатление именно облупленного. В вестибюле меж старых белых колонн продавали в прилепившемся киоске зеленую и желтую дрянь-воду в пластиковых бутылках да палки «твикс» и «сникерс». Впечатление захолустной отсталости.
Еще одно замечание. Ленин со своими ребятами сумели всучить России новомодную марксистскую идеологию, настолько западный, казалось бы, совсем неподходящий России товар, и преуспели в этом. Из опыта большевистской революции (точнее, ее следовало бы назвать coup d'état — государственным переворотом) производной может быть только циничная мораль: любую идеологию можно навязать любому народу, если знать методику. И приступить к делу с энергией и хладнокровием. Вспоминается Ленин после убийства немецкого посла Мирбаха, собирающийся вместе с Дзержинским к немцам в посольство, извиняться. Натягивая пальто: «Ну что ж, Феликс Эдмундович, надевайте шинель, поедем извиняться к бошам».
Лексика Ленина энергична. «Какой матерый человечище!» — о Льве Толстом. Излюбленная фраза «архиважно». Об интеллигенции: «В том, что вы жидкое говно — мы никогда не сомневались».
Бенито Муссолини: опыт неудачника
Сейчас об этом не принято говорить, но обаяние фашизма было велико в Европе в первую половину XX века. Когда в 1934 году вождь итальянских фашистов Бенито Муссолини собрал в итальянском местечке Монтрей Международный фашистский интернационал, то на нем присутствовали представители 30 фашистских партий. В 16 странах фашистские или полуфашистские национал-социалистические режимы находились у власти. Это не только Италия, Германия, Португалия, но и Польша (режим Пилсудского, продолженный черными полковниками), Австрия, Румыния, Болгария, Венгрия и другие, помельче, вроде Латвии, вроде Финляндии.
Но, конечно, первой была Италия. В марте 1919 года, после 15 лет политической деятельности в качестве социалиста, Бенито Муссолини основал вместе с группой (около 50 человек) дезертиров и перебежчиков из социалистов, анархистов, католиков, футуристов (группа в полном составе во главе с Маринетти) фашистскую партию. Учредительный съезд партии прошел в помещении церкви Сан-Сепульхро. Больше всего среди присутствующих было футуристов. (Среди прочих, помимо Маринетти, Артуро Тосканини, впрочем, уже в 1921 году большинство футуристов покинули партию.) Футуристы и повлияли больше всех на первую программу фашистской партии. Практически это социалистическая программа, где была предусмотрена минимальная заработная плата для рабочих, восьмичасовой рабочий день, ограничение личных капиталов для богатых, национализация военной промышленности.
Сын анархиста-кузнеца (папа Алессандро любил после обеда читать семье из Прудона), Муссолини родился на хуторе Варнана ди Коста, неподалеку от деревни Предаппио. У юноши Бенито, разумеется, как только он обрел сознание, появилось желание убежать из родной провинции. В начале века он это и сделал и делал не раз на протяжении нескольких лет. Он сбежал в Швейцарию, где вел жизнь бродяги и бездельника, подобную той жизни, которую вел Гитлер в Вене. Он ночевал под мостами, в ящиках для мусора и не раз арестовывался полицией. Также как и Гитлер — он много читал. Рано начал сочинять и довольно быстро сделался впоследствии на родине известным политическим журналистом.
Тут следует остановиться. Несомненно, что богемная, бродячая жизнь в богатых Вене и швейцарских городах сформировала и Гитлера и Муссолини. На этот счет имеются соответствующие признания обоих. Это были самые сильные впечатления их жизни. Самая сильная ненависть, сильнейшая жалость к себе, годы страданий и открытий. Возможно, если бы Адольф или Бенито владели бы в то первое десятилетие XX века литературной техникой, то их опыт мог бы вылиться в нечто подобное моему тексту «Дневник Неудачника». Жалость к себе, зависть, яркие озарения голода, желание отомстить, ненависть к богатым и сытым — вот какие чувства вызывал в них мир, в котором они оказались. Опыт неудачников в блестящей Вене и в Швейцарии сделали из Адольфа и Бенито радикалов. Неприветливая вселенная должна быть разрушена — решили они. Другая, благоприятная к людям из народа, должна быть построена. На самом деле национал-социалистическое и фашистское движение — это были бунты обездоленных против Системы, построенной и поддерживаемой высшей буржуазией для своих нужд. Самая суровая критика капитализма исходила от этих людей. То, что Гитлер выделил евреев как своих личных врагов и врагов его новой благоприятной системы,— не случайно. В Вене жили и работали и бросались в глаза евреи-адвокаты, музыканты, политики, бизнесмены. В Швейцарии их не было или было меньше, и Муссолини не сделал их своими врагами.
Он был журналистом в «Аванти», издателем и главным редактором в «Пополо д'Италиа». Он писал свои статьи за двадцать–тридцать минут прямо набело. Он любил эффектные красивые мундиры, фески, шинели и кожаные пальто. Он брил башку налысо, выдвигал подбородок и был главной моделью, главным манекеном и законодателем мод в Италии.
Был человек круче его. Авиатор, искатель приключений, сердцеед, авантюрист, полковник Габриэль Д'Аннунцио. В 1919 году вместе с толпами «ардити» (твердых, родственно английскому слову «хард») — ветеранов войны, Д'Аннунцио захватил город Фиуме. Фиуме ныне принадлежит Хорватии и называется Риекка, я воевал там недалеко в 1993-м, удерживал территорию Книнской Краины, помню, священное благоговение охватило меня, когда я увидал дорожный указатель — «Риекка — столько-то километров»! Так вот Фиуме с большим итальянским населением находился в самом паху между Аппенинским и Балканским полуостровами — туда глубоко заходят воды Адриатики. Красиво подбоченясь, полковник Д'Аннунцио произнес зажигательную речь, в которой оскорблял Муссолини и звал его к себе, сюда, если он не трус. «Ардити» отвечали восторженной пальбой из винтовок. Муссолини не приехал. Фиуме пришлось в конце концов сдать. Муссолини искренне почитал писателя, и робел перед Д'Аннунцио, и видел в нем соперника. В конце концов он, придя к власти, подарил полковнику роскошную виллу на озере на границе с Швейцарией. За заслуги перед отечеством. Среди заслуг числились и такие бравые выходки, как бреющий полет над Веной, куда Д'Аннунцио собственноручно сбрасывал агитационные презрительные листовки.
В 1922 году Муссолини захватил власть не благодаря широко разрекламированному походу на Рим (итальянская армия была в силах разгромить мятежников, но король не позволил), а потому, что короля убедили в том, что Муссолини, и только он, сможет надеть смирительную рубашку на «красных». Поход на Рим был лишь декоративным, скорее праздничным мероприятием, которое могло быть прекращено, если бы этого захотел король. С того дня Муссолини пришлось быть премьером и диктатором при короле.
В 1943 году союзники наконец высадились в Сицилии. А затем и в Неаполе и пошли к Риму. Король дал приказ маршалу Бадолье арестовать Бенито Муссолини. Арестовали и посадили под стражу в укрепленном пункте в Альпах; о том, как Муссолини похитил Отто Скорцени — человек со шрамом, широко известно. Бенито примчали в Берлин, одетого в потертое длиннополое эсэсовское пальто. Есть известная фотография, где Гитлер, улыбаясь, хлопает старого друга по плечу. Затем Бенито отправили в Северную Италию, где возникла под сенью эсэсовских штыков и автоматов криминальных банд странная и очень социалистическая республика Сало. Муссолини во многом вернулся к идеалам своей юности. Предательство короля и старых фашистов толкнуло его к этим идеалам. Среди крупных лидеров республики Сало были бывшие коммунисты, такие, как Бомбаччо.
Если не ошибаюсь, 24 марта 1945 года Муссолини и его подруга Клара Петаччи были задержаны на итальянско-швейцарской границе. Муссолини был одет в длинное пальто немецкого танкиста и шел сутулясь в толпе немцев — итальянские партизаны, охранявшие границу, в обмен на сдачу оружия обещали немцам свободный проход на нейтральную территорию и сдержали свое слово. Однако Муссолини, Клара Петаччи в мехах и несколько соратников Бенито была задержаны. Согласно легенде, Бенито и Клару держали вначале в разных деревушках, однако партизанский командир проникся сочувствием к влюбленным и дал им возможность провести одну ночь вместе. На этот счет существуют документальные свидетельства. Надо сказать, что Клара, избалованная актриска, дочь богатых родителей, согласно показаниям знавших ее людей, была этакой кошечкой на подушке, вечно полировавшей ногти. Но, возможно, это поверхностное мнение далеких от нее на самом деле людей. Свои последние дни жизни Клара Петаччи провела достойно: сделала попытку уйти с дуче в Швейцарию, правда, меха на ней все же были лишними, возможно, эти меха в общем потоке солдатских шинелей вермахта и сдали дуче и всю компанию. Затем эта ночь, о которой она попросила партизанского командира. О, эта ночь, 62-летний дуче и Клара наедине, уверенные, что, так или иначе, это их последняя ночь! И, возможно, утром кричал петух.
А потом приехал другой партизанский командир, по кличке «Валерио». Он имел приказ расстрелять Муссолини, чтобы не отправлять его в Милан, не сдавать союзникам. Избежать суда. Приговор был подписан Объединенным штабом партизанских отрядов Северной Италии. Валерио посадил дуче и Клару в автомобиль. Сам сел рядом с шофером. По бокам от Бенито и его девочки сели товарищи Валерио. Сзади ехал еще один «Оппель». При дороге у ворот заброшенной виллы Валерио приказал остановиться. Муссолини вывели из машины. Валерио приказал Кларе отойти. И тут маленькая актриска преобразилась в героиню римской истории. Она сказала, что хочет умереть с Муссолини, и прижалась к нему. Валерио закричал, она не ушла. Валерио взвел автомат и, торопясь, зачитал приговор. И направил автомат на пару. Бенито, грузный, в шинели немецкого полковника, и Клара в своих нелепых теперь мехах замерли. Автомат заклинило. Партизан, ругаясь, бросил оружие и, вырвав автомат у одного из своих подручных, стал стрелять. Затем трупы бросили в машину и повезли в Милан. На площади Сан-Лорето (или Лоренцо, память моя в «Лефортово» не хочет расшифровывать в неволе) трупы были повешены за ноги на мясные крюки, и толпа долго глумилась над ними. В конце концов какой-то партизанский начальник нашел оголенные ляжки Клары под чулками непристойными, и трупы срезали. Но и после этого толпа не прекратила глумление. Тела жгли сигаретами и мочились на них. Народ любит пинать мертвых кумиров. Ему в его ничтожности это приятно.
Живя в Риме зимой с 1974 на 1975 год, я вставал рано и шел через холм Сан-Николо к собору святого Петра в Ватикан. Поросший соснами, зеленый холм этот наполнен памятниками. Там есть памятник Гарибальди, окруженный бюстами его военачальников, и целая стена героев, сооруженная при Муссолини. Ну, разумеется, это фашистское искусство с его мускулистыми мужиками с большими мошонками и большими мечами. Однако Муссолини до сих пор еще добром вспоминают в Италии. Он строил заводы и города для рабочих. Об этом, везя меня в автомобиле по Южной Италии, говорил мне профессор-коммунист Пачини, и указывал в окно на заводы и города. После Бенито для рабочих или совсем не строили, или строили мало. Так что Бенито остался в их памяти.
Пьер Паоло Пазолини: ненавидимый
Я не обращал на него внимания, пока в маленьком кинотеатре на бульваре Севастополь не посмотрел наконец где-то в 1981 году его фильм «Сало, или 120 дней Содома». Тогда он меня заинтересовал. В небольшом зале было немного зрителей. Какие-то забредшие по ошибке, приняв театрик за порно-кинозал, арабы. Несколько туристов. Когда дошло до эпизода, в котором узники обречены поедать экскременты на элегантных тарелках, раздались возмущенные возгласы, и половина зрителей покинула кинозал. Осталось нас десяток. Большинство недоумевали. На солнечном свету бульвара я посетовал на себя, что не обращал на него внимания. Точнее, я знал о его существовании, видел «Страсти по Матфею», знал, что он также поэт и писатель.
В огромном книжном магазине в недрах ле Аля я нашел по-французски его книжку «Рагаццы» (Мальчики), прочитав ее, нашел, что она поразительно похожа на книжку, которую я только что тогда написал — «Подросток Савенко». Позднее я прочел его «Теорему» и был в восторге от оригинальности этой книги, написанной как одна большая ремарка к немой кинокартине. «Теорема» произвела на меня огромное впечатление.
Затем я прочел несколько его биографий. Узнал, что он был убит юным подростком-любовником на пляже в Остии в 1975-м, на грязном песке на берегу Средиземного моря. И вспомнил, как мы ездили туда с Леной Козловой в ноябре 1974 года, в пыльную некрасивую Остию — римский порт, пытаясь снять там квартиру подешевле. Ибо в то время мы жили за Терминале (вокзалом) в центре Рима и платили дикие по тем временам деньги, 90 миль лир за грязную комнату в квартире, где кроме нас жили еще 13 душ эмигрантов, в том числе три эфиопа — рабочие консервной фабрики. В Остии нам показали набитые эмигрантскими телами трущобы, где тюленями на койках лежали эмигранты. Стоило место на этом лежбище чуть дешевле, но было там отвратительно. Мы сходили на плоский берег серого Средиземного моря, все оно было загорожено сетками, посидели на пыльной, заскорузлой корке земли, лишаистая растительность покрывала ее пятнами. Мы с Еленой пришли к выводу, что Остия — препоганое место, вблизи слонялись какие-то разноростные хулиганы, и мы поспешили уехать скорее в Рим на автобусе. И вот спустя лет семь или восемь, прочитав биографию Пазолини, я узнал, что он погиб именно там, я знал местность по приметам, через год.
Его 17-летний убийца утверждал впоследствии, что Пазолини набросился на него, пытаясь изнасиловать на этом пустыре, и что он, испугавшись, стал бить его доской. Может быть, странно также, что пацан переехал тело Пазолини на его же машине «Альфа-ромео» и остановили его на дороге в Рим карабинеры. Скорее всего, он пытался украсть машину и был мальчиком-проституткой. Пазолини, ему уже перевалило за пятьдесят, имел слабость время от времени объезжать злачные места Рима, где подбирал подобных коммерсантов своим телом. Пазолини был скандальным, возможно, самым скандальным в Риме, да и во всей Италии. Член Итальянской компартии, изгнанный из партии, но оставшийся верным коммунистическим идеалам.
Известный гомосексуалист, кинорежиссер скандальных фильмов, многие из них были осуждены церковью, известный журналист, отличный поэт и все это вместе.
В любом случае, Пазолини умер на пустыре в Остии, который я волею случая за год до этого осматривал. Он умер смертью своих героев из ранней книжки «Рагаццы».
Пазолини обладал даром фокусировать на себе неприязнь общества. Он был символом, этаким рогатым Дьяволом для крайне правых сил в Италии: коммунист, гомосексуалист. Аморальный поэт. Он вызывал ненависть.
Сын офицера, которого переводили из гарнизона в гарнизон, старший брат Гвидо погиб, находясь в партизанском отряде Сопротивления, Пьер Паоло, уроженец городка Фриуле, стал учителем. Заподозренный в противоестественной связи со своим учеником, он в 24 года вынужден был бежать в Рим. В католической Италии в провинциальном городке человеку с подобной репутацией места не было. Стали выходить его книжки стихов. Случайность забросила его в мир кино, где он проявил свой яркий оригинальный талант и остался. Позднее он имел обыкновение делать книгу и фильм параллельно. Так было с «Рагаццы» и с «Теоремой». «Сало, или 120 дней Содома» была его последней картиной.
У него были личные отношения с фашистами. На демонстрациях его нескольких фильмов молодые фашисты жгли сиденья и устраивали дебош. Некий рабочий автозаправки свидетельствовал в суде, будто бы Пазолини въехал на автозаправку, вынул «золотой пистолет» и будто бы угрожал убить его, склоняя к интимным отношениям. Суд признал заявление «фантазмом» рабочего, хотя несколько заседаний суда все же состоялись, вызывая внимание всей Италии. В другой раз, на причале, увидев теплоход с подростками, Пазолини якобы позволил себе вульгарно приветствовать их. В суд на Пазолини подали родители школьников. Процесс окончился ничем. Но в результате за Пазолини тянулся шлейф скандалов. Компартия Италии не знала, что с ним делать. Еще фриульская организация ИКП исключила в свое время учителя Пазолини из своих рядов. Но он не отошел от компартии. Да и компартия нуждалась в знаменитом режиссере.
Левый Пазолини, однако, далеко не во всем был левым. Так, например, во время студенческой революции, охватившей Италию, как и многие другие страны Запада, Пазолини поместил в «Иль Мессаджеро» стихотворение, где выразил свой парадоксальный взгляд на стычки студентов и полиции. Полицейские, писал он, воняют казармой и одеты в дешевое сукно, они плохо накормлены и по сути дела — это дети народа, переодетые в форму. В то время как в них кидают камни дети буржуазии, сытые, в дорогих тряпках и джинсах.
Пьер Паоло Пазолини был небольшого роста, с темным сухим лицом, с мышцами сухого дерева. Глубоко спрятанные внутри орбит глаза. Он был как обожженный корень твердого дерева. Во всех его фотографиях видна холерическая его сила, сведенная до поры в пружину. Даже удивительно, как такого можно было убивать. Он жил в окружении небольшой группы: его мать, его подруга и актриса Лаура Бетти, его бывший любовник — актер, вот практически и все близкие. Для своих фильмов он всегда выбирал непрофессиональных актеров. Известно, что для фильма «Евангелие от Матфея» он собирался пригласить на роль Христа советского поэта Евтушенко. Слава богу, что он этого не сделал, испоганил бы навеки свой фильм этим субъектом. В «Рагаццы» и в «Маме Рома» играли настоящие римские пацаны с окраин.
Пазолини предпочитал крупные планы. В «Евангелии от Матфея» целая галерея портретов незабываемых лиц. Шокирующих типажей. Впрочем, в ту эпоху кинематограф в целом использовал крупный план часто. Однако, крупные планы Пазолини — безумны.
Все, к чему прикасался Пазолини,— получалось. Он был оригинален во всем. Даже совместная с другими кинематографистами лента, где Пазолини снял короткую новеллу «Рикотта» — историю непрофессионального голодного итальянского мужика, взятого на роль разбойника, распятого вместе с Христом, даже «Рикотта» полностью гениальна. Актер Разбойник умирает на жарком холме на кресте после обеда, объевшись лепешек с сыром. Режиссера в «Рикотте» играет у Пазолини Орсон Уэллс.
Мишима (я предпочитаю все-таки Мишима, а не Мисима) совершил свой блистательный и бесполезный жест в 1970 году. Пазолини погиб в 1975 году. Жан Жене умер и ушел в арабскую землю, не желая осквернять себя французской, в 1986 году. Гении покинули современный мир. Пазолини — несомненный гений. Каждая морщина на его яростном лбу свидетельствовала об этом. Как и Жан Жене — он имел внешность зэка, заключенного, однако у него несколько другой типаж. Пазолини погиб на самой вершине, только что закончив «Сало». Возможно, он самый мощный последний современный художник. Четверть века для эпохи — крупица времени.
Пазолини вызывал слепую ненависть к себе и как коммунист, и как гомосексуалист, и как скандалист, на него было направлено общественное внимание. Его личная трагедия — в степени, в градусах осатанения, в градусах лавы энергии. Адский огонь пылал в нем и вокруг него и выдубил его лицо.
Джон Лейденский: сексуальная революция средневековья
Когда его казнили в 1534 году, актеру Джону из Лейдена было 26 лет. Его казнь — последний эпизод в странной истории Мюнстерской коммуны, первой воплощенной коммунистической Утопии на земле.
Радикальные опыты Мюнстерской коммуны смущали даже единомышленников-социалистов. Каутский игнорировал Мюнстерскую коммуну в своей монументальной истории социализма. Советские учебники предпочитали старшего товарища Джона Лейденского — Томаса Мюнцера. Мюнцер был один из друзей Мартина Лютера, который в 1519 году прибил к дверям своей приходской церкви знаменитые 95 тезисов (осуждающие торговлю индульгенциями и остро критикующую папство) и тем самым начал в Европе протестантизм, или лютеранство.
Томас Мюнцер также основал теократическую республику в городе Мюльхаузен, где были воплощены некоторые черты коммунистического общества. Но в своем Мюльхаузене Мюнцер обошелся без таких излишеств, как общность жен, и потому оказался достоин истории ханжи Каутского и ханжеских советских учебников. Хотя мюльхаузенскую теократию все равно разгромили войска современных Мюнцеру князей, а его самого казнили.
В ту эпоху Европа кишела религиозными сектами. Половина из них (грубо оценивая, разумеется) искала спасения и возвышения-обожествления в аскетизме, в то время как еще большее количество сект находили обожествление в плотских излишествах. Так, известны неистовые адамиты, за столетие еще до возникновения у дверей церкви Лютера с его тезисами воевавшие бок о бок с гуситами и затем вырезанные своими союзниками. Адамиты практиковали промискуитет, то есть общность жен, и вырезали своих противников, справедливо считая, что кровь должна достичь холки коня, только тогда Бог умилостивится. Были еще амориты, практиковавшие всеобщую коллективную любовь. Протестантизм же, особенно пуританство (многие пуритане затем выселились в Новый Свет — в Америку), напротив, искали Бога в ограничении плоти. Только для деторождения. Европа бушевала. В 1532 году в Германии и именно в Тюрингии, куда относятся города Мюнстер, Мюльхаузен, а рядом через голландскую границу на голландской земле пристроился город Лейден, в Германии вспыхнула крестьянская война. Бушевала она вплоть до 1526 года.
А в 1534-м секта анабаптистов захватила город Мюнстер. Во главе секты стоял Джон из Лейдена. Анабаптисты отрицали обычай крещения во младенчестве и считали, что только зрелый взрослый человек имеет право решать: быть ему адептом Христа или нет. Обратиться ли ему к Богу. (Это вкратце. У секты были и другие пункты программы, если выражаться по-современному.) Захватив город, Джон и его друзья стали на больших театральных по масштабам церемониях заново крестить граждан. В храмах и столовых беспрерывно читали тексты Ветхого Завета. В столовых члены секты обедали бесплатно. Необходимые средства раздобыли, конфисковав вначале имущество «эмигрантов», тех, кто сбежал из города. Позднее конфискации подвергли имущество тех, кто медлил перекрещиваться (крещение — значит «баптизм» на всех европейских языках). В области плоти короткие несколько недель проповедовался аскетизм, затем было введено многоженство, по примеру ветхозаветных патриархов. У Джона из Лейдена было 15 жен. Портрета Джона Лейденского не сохранилось, но мне он представляется рыжим, худым, высоким парнем, и в обычае актеров того времени он должен был носить парики. Мюнстер к тому времени был уже большим городом, только что возвели величественный кафедральный собор, город был хорошо укреплен стенами и башнями. Так что действо по сценарию Джона из Лейдена могло развиваться спокойно. Некоторое время. На следующем этапе деньги были упразднены в Мюнстере. Совсем. Была введена общность имущества. И одновременно была введена общность женщин. Несколько женщин, не пожелавших подчиниться, публично казнили на главной площади. Казнили также различных преступников — папских шпионов, тех, кто пытался утаить свое богатство. В конце концов Джон Лейденский был провозглашен королем под именем Иоанна.
Все это время германские феодальные власти, конечно, пытались взять город. Вначале нападающие успешно отражали все атаки. Мужчины и женщины стояли вместе на крепостных стенах. Более того, Мюнстер сделал множество попыток экспортировать свою анабаптистскую революцию — в соседние города отправлялись «апостолы», снабженные «прелестными письмами» Джона, стремясь побудить соседей к восстанию. В нескольких городах действительно вспыхнули восстания. Однако феодалам удалось их подавить. Напрягши все свои силы, феодальная Германия подавила Мюнстерскую коммуну. Мюнстер был взят. Джон из Лейдена был пленен. Ему отрубили голову.
Мюнстерская коммуна была самым радикальным коммунистическим опытом. Были переименованы улицы города, дни недели и месяцы. Отменено хождение денег. Обобществлены женщины. По-видимому, буржуа в жилетке Каутский представил себе образ жизни анабаптистов в Мюнстере и, зардевшись, не включил их в свою историю социализма.
В конце 60-х годов XX века в Германии одна за другой стали образовываться коммуны хиппи. В Берлине в 1968 году появились «Коммуна №1», «Коммуна №2», «Коммуна Воланда». Они следовали старым рецептам: деньги и имущество у них были общие, промискуитет был признан единственно верным способом сексуального общения. Именно из среды коммунаров пришли в RAF, знаменитую «Фракцию Красной Армии», и в другие террористические организации свежие резервные силы. История обожает совпадения и преемственность. Преемственность — это коммуны. Пассионария «Фракции Красной Армии» Ульрика Майнхофф, что интересно, родилась в 1934 году, ровно через 400 лет после разгрома Мюнстерской коммуны. И окончила она, кстати сказать, Мюнстерский университет.
Сам средневековый город Мюнстер, как и многие города Германии, во время 2-й мировой войны был вдребезги разрушен авиацией союзников. Разрушен был и кафедральный собор, в котором имели место в 1534 году многие трагические сцены анабаптистской коммунистической революции. Как-то мне пришлось увидеть, живя во Франции, фильм о событиях в Мюнстере, и главным героем его, разумеется, был юный безумец Джон из Лейдена. Фильм, впрочем, изображал историю поверхностно, сосредотачиваясь, главным образом, на аспекте первой известной сексуальной революции средневековья. Помню мечущихся в соборе жен Джона, короче, сделали версию «Калигулы». А сексуальная революция между тем крайне серьезная тема. Сексуальная свобода, свобода удовольствия, может конкретно освободить человека, как не может его освободить даже запрет на частную собственность. Большинство людей имеет в жизни скудный сексуальный рацион. Введение обязательного промискуитета значительно повысило бы качество жизни.
Слободан Милошевич: битва за Сербию
Меня и Слободана арестовали в апреле 2001 года. Нас с ним арестовали с дистанцией в несколько дней. Меня — 7 апреля. Это симптоматично. Я склонен видеть в этих арестах символическое обозначение конца одной эпохи и начало другой. Я склонен видеть в этих арестах водораздел. И нас обоих арестовали «свои».
В 1992-м он принимал меня во дворце в Белграде. Под ослепительным светом фото- и телекамер мы сидели на кушетке, и перед нами на столе стояли цветы. Мы говорили о России и Сербии. (Позднее меня осудили за эту встречу добрая половина моих сербских друзей-интеллектуалов.)
Он принял власть в 1990 году, в тяжелое время распада Югославии. Уже объединенная по близорукой воле Горбачева Германия вооружала Хорватию: хорватские боевики тренировались на бывших советских военных базах в Венгрии, из Венгрии и Австрии самолеты без опознавательных знаков по ночам сбрасывали хорватам оружие. В мае 1991 года начались дичайшие вооруженные конфликты в Борово Село. Еще в 1991 году я побывал там: разрушенные элеваторы, срубленные осколками снарядов алюминиевые столбы электропередач, настолько интенсивная там была перестрелка. Отложилась Словения с промышленно развитой Любляной. Вспыхнула война в регионе, называемом «Славония и Западный Срем» (близ Вуковара). В апреле 1992 года начался, подогреваемый с Запада, конфликт мусульман с сербами в столице Боснии — Сараево. Начался он с расстрела 6 апреля демонстрации мусульман, якобы силами сербской полиции. На самом деле это была провокация мусульман — они расстреляли своих,— первая провокация в ряду последовавших многих других. С 1991 года оборонялись в своем регионе на горных плато близ Адриатики сербы Книнской Краины. Все эти войны навалились на Слободана Милошевича. Для начала три.
Бывший коммунистический босс не очень высокого уровня, переименовавший свою партию в Сербскую социалистическую партию, должен был стать вождем. Аккуратный, сильный, с тщательно остриженным седым ежиком.
Россия безропотно отдала, подарила «республикам» 27 миллионов русских и исконно русские территории. Сербы сделаны из другого теста. Они взбунтовались на местах. Уходя, югославская армия отдала им тяжелое оружие, стрелковое оружие и боеприпасы. По приказу Милошевича. Уже тогда Милошевич опасался, что с Югославией поступят как с Ираком. Потому он вынужден был лавировать, делая вид, что сербы в республиках бьются сами без помощи мамки Сербии.
Электорат Милошевича, главным образом крестьяне Восточной Сербии, заинтересованные в горючем для своих автомашин и тракторов для вывоза своей сельхозпродукции из Сербии, потерял от запрета на ввоз нефтепродуктов, немедленно введенный Западом. Однако, прирожденные контрабандисты, сербы умело обходили бойкот. Бензин, якобы идущий транзитом в Грецию, на самом деле попадал в баки сербских боевых машин и танков. Под давлением своего крестьянского электората в Сербии, с одной стороны, бойкота западных стран — с другой, и под давлением радикальных сербских патриотов с территорий населенных сербами республик (Краин) — с третьей, и под давлением сербских радикалов внутри страны (партии Войислава Шешеля — Сербская радикальная спiлка) Милошевич оставался на своем посту десять лет. Десять лет он оборонял мамку Сербию. Я, грешный, после пребывания добровольцем на войне в Книнской Крайне в 1993 году, проникшись настроениями книнских сербов, также порицал Милошевича за то, что он сдает книнскую сербскую диаспору. В 1995 году хорваты заняли Книн, и Книнская республика перестала существовать. Милая, каменистая, пахнущая дымом земля. Изо всех сил стараясь отстоять хотя бы мать Сербию, Милошевич вынужден был отказаться от помощи Книну, а позднее и Боснии, откуда были изгнаны Караджич и Младич, позднее Милошевичу пришлось сдать Вуковар — Славонию и Западный Срем, откуда все и началось. В конце концов, Запад помог албанцам в Косово и методично, скрупулезно избомбил здания, мосты, железнодорожные пути — забомбил тело самой мамки Сербии.
Оглядываясь назад в ретроспективе, вижу, что другого выхода, возможно, не было. Сербов всего 12 миллионов, они не могли долго сопротивляться военной машине западных стран. Нападению авиации всей Европы. (И это в добавление к вооруженным силам хорватов и мусульман, вооруженных Западом.) Вопрос стоял только в тактике: сразу следовало открыто воевать мамке Сербии против хорватов и мусульман, сметая врагов и не обращая внимания на последствия, на опасность вмешательства НАТО? Или прав был Милошевич, отдавая им сербские территории постепенно?
В десятилетней борьбы за Сербию важен героизм сербов, а не выбранная тактика заранее безнадежной героической обороны инакомыслящего государства против мафии государств, самовольно объявивших себя носителями международного права и последних истин международной морали.
В конце концов внутри страны сплотились силы, собравшие воедино всю усталость и раздражение нации своим же собственным героизмом, который символизировал. Милошевич. Герой проиграл на выборах. Потом героя арестовали. Теперь мафия западноевропейских государств требует выдачи героя.
В попытке выиграть битву за Сербию Милошевич имел полное моральное право после бомбардировок мамки Сербии перейти к борьбе на территории противника. Государства НАТО бомбили сербские мосты, железнодорожные пути, телестанции. Милошевич вправе был отдать приказ взрывать их телестанции, мосты и железнодорожные пути. Бывший коммунист, выученный определенным образом в недрах Югославской компартии, он оказался слишком человеколюбивым в сравнении с рафинированными улыбчивыми чудовищами из НАТО. Он не обратился к их методам.
Победа международной клики агрессивных государств над Сербией — это еще один успешный крестовый поход Запада. Мировое господство Запада, разумеется, еще нельзя считать полным — еще стоит Китай, стоит Иран, есть еще много десятков государств, или не сломленных, или никому не нужных, ввиду своей бедности. Но их все меньше. Диктатура железной пяты уничтожает инакомыслящие народы и инакомыслящих национальных вождей. Это случай Милошевича.
Вождь «государства-изгоя» (это выражение американцев, его употребляет госсекретарь Соединенных Штатов Колин Пауэлл), Милошевич бился за свою Сербию, как лев. Теперь он с достоинством ожидает своей участи. Я, лидер партии-изгоя, жду своей в военной тюрьме.
Милошевич имел неброский личный стиль. В этой неяркости причина некоторой его непопулярности. Ему не хватало взрывчатой непристойности, наглости героя. У него был стиль бюрократа. Однако это не умаляет его, он — лидер героической страны-изгоя, осмелившейся с оружием в руках противостоять коалиции мировых держав-вивисекторов и садистов.
Че Гевара: gerilliero heroico
В кроссвордах, если стоит вопрос по вертикали или горизонтали «русский поэт?», то это обязательно Пушкин. В тех же кроссвордах на вопрос «революционер XX века?» никто другой не приходит на ум, только Гевара. Совсем недавно в кроссвордах писали «революционер 2-й половины XX века». Теперь уже этого не требуется. С течением времени Че Гевара затмил как революционер даже Ленина, последний все более окаменевает как «вождь пролетарской революции и основоположник российского государства». После смерти Че в боливийской западне в октябре 1967 года его слава ширится и триумфально идет по земле. Почему? Многих, куда более удачливых революционеров Латинской Америки, его современников, начисто забыли. Хотя десяток лидеров латиноамериканских партизан вели успешные и долгие партизанские войны. Даниэль Ортега даже захватил в конце концов власть в Никарагуа в 1980 году, однако Ортега выцветает, а Че все ярче. Яростный революционер, автор своего рода Евангелия революционера «Маленькой книжки городского партизана» бразилец Маригелла, убитый в 1969 году в перестрелке, все же не достигает славы Че. Крупнейший итальянский издатель Джанфранко Фельтринелли, ушедший в подполье, бросивший весь свой капитал в революцию, основал свою городскую партизанскую колонну в Италии. Он погиб в 1973 году при попытке взрыва электростанции в Сеграте, которая должна была снабжать электричеством съезд компартии. О судьбе Фельтринелли можно написать приключенческий роман. Существует мнение, что его взорвали спецслужбы. Однако всех этих ярких людей затмил Че Гевара.
Биография ничего не объясняет. Родился в городе Розарио в Аргентине в семье богатого (ну, скажем, не бедного) адвоката. Учился на медика. Много путешествовал по Латинской Америке. Вел дневники. Один из них, «Дневник мотоциклиста», недавно опубликован в Лондоне. В юности Эрнесто Гевара был юношей, тип которого отлично сыграл в кинематографе Ален Делон. Темноволосый, красивый юноша-мажор. Судьба его зацепилась за революцию в Уругвае в 1952 году. Когда он работал там, к власти пришел левый (скорее, просто прогрессивный режим), и Соединенные Штаты Америки, конечно, не могли оставить подобный режим в покое. Состоялась интервенция, был найден вождь для контрреволюции, и контрреволюционный переворот совершился. Эрнесто, его подруга Хильда Гадеа, перуанка, и многие их друзья (в Уругвай тогда на левый режим стеклось много юных латиноамериканских левых) были арестованы. Че отсидел, кажется, чуть более месяца, его выкупили, дав взятку. Он, собственно, ни в чем и не был виноват, разве что участвовал в ночных разговорах. Затем судьба привела его в Мексику. Это Хильда познакомила Эрнесто с братьями Кастро, Фиделем и Раулем. Фидель Кастро — студенческий вождь — произвел на Эрнесто впечатление. Он уже прославился как предводитель штурма казармы Монкадо. Вытащили Фиделя из тюрьмы, как ни странно, благодаря связям его родителей. С кем поведешься, от того и наберешься, это верно, но поведешься-то с тем, с кем хочешь повестись. К кому душа лежит. Неудивительно потому, что в числе 82-х кубинских студентов, отправившихся на Кубу на шхуне «Гранма», оказался кубинский врач Эрнесто Гевара, прозванный «Че» за его (свойственную, впрочем, всем аргентинцам) привычку прибавлять лишний звук в произношении общих им всем испанских словарных запасов.
«Гранма» приземлилась не там, где хотели, и намного позже. Она причалила в Мангровых болотах и на несколько дней позже, когда ожидавшие их товарищи уже ушли. Расположившись на отдых несколько дней спустя, рядом с полем сахарного тростника (большинство начинающих герилльерос ушли в поле, изголодавшись, лакомились сахарным тростником), они подверглись нападению врага. Остались в живых после этого избиения 19 человек и Фидель. Дальнейшее известно: кубинская революция победила, и 9 января Фидель, Рауль, Че и другие «барбудос» — бородачи вошли в Гавану.
Но вот дальше начинается уже та часть истории, которая сделала из Эрнесто Гевары «gerilliero heroico», как его называют в Латинской Америке. Он читал лекции о социалистической экономике, был назначен директором национального банка Кубы, ездил на международные конгрессы, встречался с Хрущевым, алжирцем Бен Беллой и Мао. Вся эта министерская активность Че внезапно свернулась к 1965 году. В последний раз его видели в Анголе и в Конго. Потом он пропал. К тому времени второй по значению кубинский лидер Эрнесто Че Гевара был уже автором нескольких книг. «Реминисценции кубинской гражданской войны» и «Учебника партизанской войны». Если бы оказалось тогда, что он погиб где-то в Африке, то о Че Геваре помнили бы сегодня только кубинцы.
Нужной надстройкой к фундаменту Храма Славы Че Гевары послужила его боливийская эпопея, закончившаяся его смертью. Возможно, помимо желания Че эта эпопея была разыграна по лучшим канонам трагедийного искусства. Имеются в боливийской трагедии очень важные второстепенные персонажи. Это прежде всего — женщина-революционерка, шпионка Таня Бункер. (Ей удалось, ни много ни мало, проникнуть к самому президенту Боливии. Сгубили ее, раскрыв ее инкогнито, записи кубинской революционной музыки.) И это француз, левый журналист и писатель Реджис Дэбрэ. Я уже высказывался в одной из моих книг о необыкновенной важности такого персонажа, как Дэбрэ. «Gerilliero heroico» всегда необходим свидетель. Причем свидетель, умеющий связно и четко сформулировать свое свидетельство. Красивая авантюрная женщина (дочь гэдээровских коммунистов) и свидетель, могущий принести свидетельство в самый центр современного мира, в Париж, окрасили трагическую и без того историю в яркие цвета.
Че Гевару подвела Компартия Боливии. Руководство компартии отказалось поддержать партизан. По совету Москвы. Не прибыли обещанные рекруты и от леворадикальных боливийских шахтеров. Их лидер не смог собрать шахтеров, так как дело происходило в карнавал и 2/3 населения шахтерских поселков лежало пьяными. В этом всепьяном царстве трудно было отыскать своих шахтеров, в перспективе партизан. В довершение всех бед, партизанский авангард, презрев строгий приказ Че, ввязался в стычку с правительственными солдатами, и партизаны обнаружили себя слишком рано. Когда у них не были стянуты воединосилы. Еще одна случайность: как раз к лету 1967 года состоялся первый выпуск боливийских рейнджеров — воспитанников американских офицеров «зеленых беретов», прошедших школу контрпартизанских действий во Вьетнаме. Около 800 рейнджеров прибыли в район боливийского местечка Фигуэра, близ которого были обнаружены герилльерос.
Примерно в то же время в регионе появился «француз». Реджис Дэбрэ скорее всего не знал, что за ним идут по пятам агенты, солдаты и офицеры ЦРУ. Впоследствии некоторые источники обвиняли «француза» в том, что он привел врагов к Че Геваре. Это несправедливо. Однако приезд француза и его поход сквозь боливийские чащи помогли выследить Че. Но и Таня Бункер, светская красавица-шпионка в бриджах для верховой езды, привела за собой хвост. В боливийской столице, покопавшись в ее вещах, следователи нашли пресловутые кубинские революционные песни. Через некоторое время при переправе через реку (причем непрофессионально все переправлялись одновременно) Таню Бункер застрелили. Ее спутников тоже.
Француза Дэбрэ отправили домой. Чтобы он агитировал за дело латиноамериканской революции в Европе. Француз, согласно дневнику Че Гевары, и сам хотел уехать, доказывая, как он будет полезен там, в Европе. Живя в Париже, я несколько раз видел Реджиса Дэбрэ на литературных тусовках. Серый, какой-то сонный, усатый, одетый в серый костюм, он поразил меня своей обычностью. Очевидно, мне представлялось, что такой человек, как Че, должен был быть окружен разительными по внешности спутниками. Конечно, это были 80-е годы, самый конец 80-х, и Дэбрэ служил советником президента Миттерана, двадцать лет спустя после боливийской эпопеи. А тогда Дэбрэ, вместе с английским журналистом (агентом ЦРУ) вышли из окружения. И были немедленно арестованы. Реджиса Дэбрэ перевезли в столицу, в Боготу, и поместили в тюрьму. Из Франции приехали адвокаты, издатель Масперо, СМИ трубили в трубы и били в литавры. Между тем Че с небольшим отрядом в 27 человек отступал в овраг, послуживший последней сценической площадкой для его последнего подвига. 8 октября он был взят в плен, раненым, а 9 октября застрелен в сельской школе. В соседних классах были застрелены двое его товарищей. Офицеры-рейнджеры, убившие Че, были пьяны. Затем они разделили имущество Че: золингеновский нож, деньги, часы и прочие мелочи. (Впоследствии все эти люди были наказаны: их ликвидировала кубинская разведка.) Руки Че были отрублены: должны были приехать из Аргентины полицейские, потому им сохранили дактилоскопические доказательства. Тело Че было закатано в асфальт на обочине провинциального военного аэродрома. Мы много знаем о боливийской трагедии. Остался дневник Че, найденный при нем, шесть человек ушли через горы в Перу и впоследствии дали показания. Освобожденный усилиями французов года через полтора, много писал и говорил Реджис Дэбрэ. Говорил там, где лучше и не придумаешь — в Париже. Эти элементы образовали легенду Че. Но основных причин небывалой посмертной популярности Че — две: это факт, что он был уже очень известен как яркий лидер кубинской революции, и то, что он, не преуспев в результате, преуспел НЕБЫВАЛЫМ ОБРАЗОМ в постановке трагедии. Его неудача как лидера партизанской войны сделала его романтическим героем. И делает все более. Если ранее его портреты продавались, помню, на набережной Сены рядом с репродукциями Ван Гога и голой задницой туристки, то теперь Че успешно репродуцируется на майках, украшает брелки и вышел к ситуации, когда на вопрос: «Революционер?» — настоящее и будущие поколения будут дружно отвечать одно и то же: «Че Гевара!»
Чего хотел Че, чего он искал в Боливии? На самом деле он хотел совершить коммунистическую революцию на Латиноамериканском континенте. Взметнув партизанскую войну в Боливии, планировалось перенести ее через границы в соседние страны — в Перу и родную для Че Аргентину. Не получилось, но судьба получилась: стопроцентный революционер в чистом виде. Невозможно его оспаривать. Наша общая цивилизация (европейско-американская, но мы в нее тоже входим) нуждается в унификации героев, в сведении большого наследства истории к нескольким знаковым культовым фигурам. Неоспоримый Че также неоспорим, как Ван Гог.
Гоголь: бессмертные типы
В 1996 году для круглого Ивана Рыбкина была создана невнятная организация с невнятными целями — Консультативный совет при президенте, некая совещательная медуза, где предложено было участвовать всем имевшимся в наличии политическим партиям. Мы воспользовались этим и предложили кандидатами в совет десять наших партийцев. В конце концов всех наших отмели и оставили одного меня, как самого известного. Я пожелал войти в Комитет по безопасности. Удивились, попробовали отговорить, взяли. Я пришел на первое заседание Комитета. Состоялось оно в здании Администрации президента на Ильинке. Пройдя мимо перешептывающихся стражей порядка и охраны всех мастей, пройдя через раму металлоискателя, поднялся, нашел круглый зал. Зал был уже полон. Все с неодобрением и раздражением оглянулись на меня. Я уселся в задний ряд. Пришел и сел на сцене за тяжелый стол председателя Петров — бывший 1-й глава Администрации Ельцина (а до того — бывший 1-й секретарь Свердловского обкома партии) — высокий, худой и седовласый.
Я стал разглядывать зал, между тем как они выбирали всякие там комиссии. Зал был полон пожилых мужчин от 40 до 60 и выше возрастом. Подавляющее большинство имели грузную, пухлую комплекцию, более половины носили животы. Еще столько же были лысыми. Все без исключения имели начальственный вид. Пятеро или шестеро были облачены в военную форму с генеральскими лампасами. Без сомнения, все они были в прошлом крупными начальниками. И хотели стать еще раз начальниками. Спор разгорелся за единственное оплачиваемое место секретаря Комитета по безопасности, так как Петров, неведомо кем назначенный, уже числился Председателем Комитета. Петров, я быстро это понял, наблюдая за ними, хотел провести на место секретаря своего человека, в то время как в зале нашлись и другие претенденты. Они по очереди выходили к микрофону и аргументировали свою поддержку того или иного кандидата, перечисляя его прошлые заслуги: Иванов, дескать, уже работал на связи между правительством и Верховным Советом, у него огромные связи, ему и карты в руки. Сидоров, дескать, сидел в 93–95 годах в Госдуме в соответствующем комитете, вот его и следует избрать секретарем. Один вышел сам и минут 15 расхваливал себя, какой он отличный исполнительный чиновник. Они волновались, гудели, шумели, вскрикивали, вскакивали, одному генералу стало плохо, лицо побагровело, и его престарелые товарищи вывели его из зала под руки. Только я сидел, безучастный, в кожаном пиджаке, и стремительно думал, искал, что это мне так мучительно напоминает. Советская бюрократия была мне незнакома, потому меня отнесло к литературе. Гоголь!— осенило меня. Чиновники! Гоголь! Спаслись, выжили и через 150 лет после смерти Николая Васильевича живы чиновники российские, живы, крапивное племя! Неизвестно, с какими целями создал Рыбкин Консультативный совет, то ли по приказу Ельцина, чтобы иметь готовую институцию, повторяющую своей конструкцией Государственную думу. Дабы когда дума вконец достанет президента, распустить ее и передать ее функции Консультативному совету. Или же Консультативный совет был позволен и подарен Рыбкину в утешение, поскольку левоцентристская партия Рыбкина не получилась, в думу не прошла, получилась правоцентристская черномырдинская партия «Наш дом — Россия!». Как бы там ни было, Консультативный совет забили до отказа махровые чиновники. Мало изменившиеся со времени написания «Ревизора», «Носа», «Шинели» и прочих чудесных сказок Гоголя о чиновниках.
Они поворачивали ко мне блины лиц. С некоторым беспокойством. Они знали, что я, кроме всего прочего, журналист и могу живописать их драчку за место. Но охота пуще неволи! Охота было единственное хлебное место заполучить, и они стали ругать друг друга. И Петров уже еле-еле успокаивал их, так они орали! Отстойник для чиновников, соискающих место,— вот что это было, этот комитет! В конце они слаженно сфотографировались. Больше я в Комитет не ходил за явной ненужностью моего там пребывания. Я ведь хотел включить НБП в легальный процесс, а не соискал места. Мне еще долго звонили оттуда и посылали факсы: приходите, Эдуард Вениаминович, будем обсуждать интересную тему.
Гоголь «увидел» чиновников. Он нашел в их облике и нравах определенную отрицательную поэзию. «Ревизор» по сути дела, так же как и «Мертвые души» — поэма. Гоголь живописал этих могучих типов России со всеми их шинелями, калошами, носами и зеркалами для бритья. Поэзией отвратительного пропитан быт чиновников. (Чего стоит хотя бы только что прозвучавшее из тюремного репродуктора сообщение, что все больше российских чиновников стали носить часы на правой руке, как их носит Владимир Владимирович Путин.) Всякое министерство в далекой гоголевской России имело свою форму. Глядя на вновь назначенных генералов от таможни и от налоговой службы, на их помпезные мундиры и погоны, вспомнишь опять Гоголя — милейшего ипохондрика и скрытого некрофила. Гениальный писатель Гоголь, если вглядеться в его портрет, вовсе не прост, сквозь его черты сквозит тот еще маньячина, как выражается мой сосед по камере Алексей Толстых из Кунцева. Эти женские крылья двубортных волос, носик, остекленелые глаза, не то халат, не то шлафрок, затянутый на впалой груди. Подумать только, этот человек прожил большую часть своей жизни в ярко-солнечном Риме, а писал такие отталкивающие гениальные ужасы, как «Мертвые души». Сдались тебе эти российские чиновники, городничий — писал бы о небесах Италии и ее девках, но нет! Тоскливый Николай Васильевич, между прочим, запечатлел навеки в своем «Ревизоре» не более не менее как структуру нашей российской власти. Структура оставалась гоголевской и в советское время — вместо городничего был 1-й секретарь горкома, а вокруг него сидели отраслевые бешки — начальник военного гарнизона, начальник милиции, глава рыбо-мясо-треста и прочие. После якобы перестройки чиновничество России переживает грандиозный подъем — жить чиновникам стало хорошо, интересно, завлекательно. Сколько новых министерств пооткрывали! Какие возможности!
Николай Васильевич таки был маньячиной, да, Алексей. «Мертвые души» и «Ревизора» он написал на века, да что я говорю — на тысячелетия. Структура уловлена верно. И потому вечно ездит на тройке Чичиков по России, а мэры и пэры самодурствуют городничими в родных губернских городках N. В советское время встречались такие чудаки в городничих, что, блин, и на перо Гоголя незападло бы им попасть. Один выдающийся секретарь Тверского (бывший Калинин) обкома партии, в пору сенокоса выгонял всех чиновников обкома на пленэр, снабжал косами, и они у него в центре города, вокруг здания обкома партии, такой сенокос разводили, такую страду летнюю. И тотчас же ставили скирды. Весь город в скирдах стоял. В стогах.
Гоголь отрицательный писатель. В том смысле, что герои большинства его книг отрицательные люди или злые духи. Панночку, утопленницу, Вия, Старого колдуна — всю эту нечистую силу создала та же рука, то же перо, что и Чичикова, Ноздрева, Манилова, Коробочку, городничего, Акакия Акакиевича, майора Ковалева — чиновники ведь тоже злые духи. Но так как писатель первичен, а герои его книг — вторичны, то ответственность все же падает на писателя. Ну и маньячина Вы были, Гоголь! Ну, по меньшей мере, странный человек.
Выдающимся исключением в творчестве Гоголя является отличный, здоровый, полный воздуха, запаха травы, горилки, отваги, крови и казацкого пота «Тарас Бульба». Повесть эта, может быть, лучшая во всей русской литературе. (Каюсь тотчас и отбрасываю «может быть», лучшая!) Естественность, ненатужность, просторность повествования, живые, полнокровные герои, повесть эта достойна времени героического цветения нации, когда громокипящий генерал Ермолов побеждал на Кавказе, а туркестанские генералы — в Средней Азии, принося России в подарок ханства и эмираты. Очень большая загадка, как певец мертвецов и чиновников сумел вначале создать такой шедевр здоровья нации, а потом стал певцом мертвецов и чиновников? Ответ может быть один — заболел. А вирус болезни в нем уже был.
В отличие от завезенного Пушкина, Гоголь весь отечественный и самобытный. Хотя Пушкин поощрял Гоголя, а не наоборот. Он даже подарил ему сюжет «Мертвых душ». Скорее всего потому, что сам бы с ним не справился. Надоело бы, или испортил бы своим слишком легким, никак не трагическим пером.
Оноре де Бальзак: первый писатель
Это первый профессиональный писатель вообще. Благодаря ему появились понятия об авторском праве и о постраничной плате. До Бальзака писателей скорее щедро или скупо одаривали. Начиная с Бальзака писателям стали платить. Издатель Бальзака стал рассчитывать, какое количество книг своего писателя он может продать. Рассчитывали и цену издания. Соответственно и гонорар автора. На этом настаивал сам Бальзак. Короче, это Бальзак придал отношениям автора и издателя их современный вид. «Человеческая комедия» осталась незаконченной, а и вряд ли было возможно ее закончить. Слишком велик был замысел — изобразить французский мир во всем его разнообразии, всю цивилизацию, нажитую Францией со времени феодального вождя Карла Великого до короля булочников Луи-Филиппа. Больше всего удавались Бальзаку авантюристы. Он создал блистательного Растиньяка в романах «Отец Горио», «Эжени Гранде», «Блеск и нищета куртизанок», воспел контрреволюцию в «Шуанах» — короче, завалил Францию романами. Он впервые давал названия современным феноменам. Гобсек — это синоним ростовщика и скряги. Растиньяк — синоним авантюриста, Вотрен — каторжника, ибо Бальзак вывел их на бумаге навсегда. Такими. Как Бог создал мир, так Бальзак создал Францию XIX века.
Толстый господин с усиками, остриженный под низкий горшок. Батистовая рубашка с завязками под шеей, смешные штаны XIX века, толстый живот и ляжки. Пожрать любил и, как Геринг, любил безвкусные вещи: табакерки, украшенные фальшивыми камнями, экзотические палки, накидки. К концу жизни нашел себе полячку, ездил в Польшу, был французом в снегах, строил для нее дом в Париже, вошел в долги, умер неожиданно.
Романтик Виктор Гюго тоже писал об униженных и оскорбленных, роман «Отверженные», в котором есть и каторжник Жан Вальжан, и бедная Козетта, вроде бы есть те же элементы, что и в романах Бальзака. Те же, да не так сложены. Виктор Гюго все же остается романтиком, он легок и эмоционально преувеличивает, мелодраматизирует свой сюжет.
Бальзак уже пишет по науке реализма, он подробно описывает каждый буфет, его размеры и каждую его полку, дерево, из которого он сделан. Помню, что на уроках французского в средней школе №8 г.Харькова нас — учеников — истязали, заставляя читать адаптированные отрывки из романов Бальзака,— именно описание буфетов, комнат, стульев, столов и картин. Считалось, по-видимому, что такой метод поможет нам освоить нужную нам бытовую терминологию. Когда нежданно-негаданно, 37 лет от роду я оказался в Париже, мне все пришлось учить заново.
Бальзак интересен не буфетами. Современный читатель глотает описательные страницы, не читая. Он гениален типами. Союз молодого Растиньяка и Вотрена у постели папаши Горио, вызов Растиньяка Парижу: «Et maintenant, a nous deux!» A сейчас, между нами двоими!— великолепные страницы молодого реализма. Чуть позже на той же почве, как Бальзак в Париже, в новом завлекательном городском мире мегаполиса XIX века, обнаружил своих героев в Санкт-Петербурге Достоевский. В известном смысле это параллельные писатели. Растиньяк — хладнокровный и удачливый Раскольников.
Первый город мира, вавилонское столпотворение улочек и двориков, Париж вызвал к жизни новую эстетику: городскую. В поэзии раньше всех и ярче всех заявил ее Бодлер, в прозе — Бальзак. Это из Бодлера, из «Цветов зла» вышли Лотреамон и Рембо, а из Бальзака преспокойно вышел черный Селин и, развивая тему каторжников, стал большим и оригинальным писателем Жан Жене.
Толстый господин обжора и обпивоха, любитель кофе (существует даже обывательское мнение, что от кофе он и умер), всяких побрякушек, вертлявый мсье француз был Великим Писателем. И наблюдателем. Он раздвинул границы наших знаний о человеке и обществе.
Когда в 1980 году в мае я приехал в Париж, это был еще бедный город. Старые дома, кое-как приспособленные к жизни, еще имели общие туалеты на лестничных площадках: два чугунных башмака «сабо» над дырой. Вверху — ржавый бачок. Сантехника таких домов была на уровне если не XIX, то начала XX века. Моя первая квартирная хозяйка — мадмуазель Но, вполне бальзаковская старушка, прекрасно вписывалась в галерею типов XIX века, была бережливой, аккуратной и капризной. Ее сестра — мадам Юпп, тоже могла бы украсить страницы романов Бальзака. (Обе, впрочем, находили, что я — faire garçon, справедливый мальчик, и относились ко мне неплохо.) Весь драный, латаный, серые крыши, заплесневелые трубы — старый Париж, особенно его 3-й аррондисман, квартал Марэ, вряд ли претерпел большие изменения со времен Бальзака. По воскресеньям порядочные буржуа семьями посещали кафе, и папаша — краснолицый субъект с брюшком, долго водил пальцем по счету, прежде чем расплатиться, иногда прибегал к помощи калькулятора. (Вот и вся современность.) Церемонию выхода в кафе могли себе позволить далеко не все семьи. От обедающих буржуа так и несло Бальзаком, старым добрым тщеславным толстяком, его фальшивыми камнями на перстнях. Запуганные дети пинали друг друга ногами под столом.
Великий писатель работает как Бог Саваоф. Он видит вещи и явления впервые и называет их. Таким образом, Бальзак создал Францию XIX века. А так как современность никогда не бывает однородной, то, живя во Франции, я, помню, отчетливо видел куски различных эпох. Тогда как крупные фирмы и государственные чиновники жили в полноценном конце XX века, огромная часть городского населения, особенно в провинции, жила еще в бедном селиновском мире 30-х годов XX века, а некоторые продолжали проживать в бальзаковском мире. Возможно, проживают и сейчас.
Франция индустриализировалась очень поздно, в 50-е годы только, до этого она была сельскохозяйственной страной. Это тоже нужно помнить, раздумывая о Франции и ее литературе.
Джордж Оруэлл: ренегат
О книге Оруэлла «1984» я написал достаточно много и подробно в «Дисциплинарном санатории». По сути дела вся моя книга родилась из критики оруэлловского бестселлера «1984».
Интересно, что, окончив Итонский университет и, таким образом, человек привилегированный, всю свою жизнь Джордж Оруэлл провел в среде социалистического движения и только в последние два-три года жизни не выдержал и сдался. И сдал свои убеждения. Стал критиком своих убеждений.
Начал он с угрызений совести. Он стремился жить жизнью обездоленных: надевал нищенское платье и бродил по улицам и ночлежкам, пока не уставал. Тогда возвращался в свою квартиру и отлеживался. Он старался, по-видимому, изо всех сил быть честным, но все-таки возвращался. Несомненно, впрочем, что Оруэлл зашел в своих экспериментах дальше, нежели любой другой европейский писатель, его бродяжничества будут похлеще голодных дней в Клиши Генри Миллера и перешибают даже мрачного Селина. Книга «Down and out in Paris and London» незаслуженно забыта.
Оруэлл много писал для левых газет и журналов. У него были свои колонки литературной критики. Он прилежно, десятилетиями трудился поденно. Был он и честным партийцем, членом троцкистской по сути своей партии. Как таковой ездил в командировку изучать быт бастующих работяг и написал отличную книгу «Wigan's peer» (возможно, тут я делаю ошибку в правописании «Виганский пирс»,— то есть куда причаливают суда). В 1936 году поехал в Испанию воевать, с синим чемоданом. Ехал через Париж, в Париже зашел к Генри Миллеру, книгу которого он восторженно рецензировал: Миллер дал ему теплое пальто. Оруэлл почему-то воображал, что в Испании должно быть очень тепло. В Испании Оруэлл сидел в грязном окопе долгое время. Фронт не двигался. Когда задвигался, Оруэлл неудачно высунулся из окопа, и пуля попала ему в горло. Попала удачно, однако месяц он не мог говорить и был отправлен в тыл на лечение. В тылу в Барселоне он попал в разгар военных действий между анархистами и коммунистами. Впоследствии Оруэлл написал об этих братоубийственных событиях отличную книгу «Прощание с Каталонией». Вернувшись в Англию, опять засел за рецензии чужих книг, перемежая работу рецензента написанием романов. Романы получались довольно посредственные.
Дико курил, страдал от туберкулеза, который он, скорее всего, подхватил где-то в ночлежке во время своих бродяжничеств. Жил холостяком, один, хотел жениться, предлагал многим девушкам руку и сердце, но женился поздно, был уже старше 45 лет, и его жена стала его вдовой. Помимо рецензий он участвовал и во внутрипартийной и межпартийных полемиках.
И вдруг «1984» и «Ферма животных» — две жуткие сатиры на СССР и на все социалистическое движение, сатиры на социалистическую Утопию, на которую работал и которой молился всю сознательную жизнь. Зачем? Со страстью, с которой мочит своего двурогого бога доселе приносивший ему жертвы дикарь, Оруэлл растоптал в прах социализм. Особенно оскорбительно звучит «Ферма животных». Худой, сутулый, хлипкий, с вечной сигаретой, он продолжал стучать по клавишам машинки и в больнице. «1984» переиздали множество раз. Начиная с 1948 года, когда он вышел впервые, и до 1951-го, года смерти Оруэлла, роман выдержал, если не ошибаюсь, больше двадцати изданий.
Буржуазия оценила труд отступника. Такая книга была нужна. Она помогала бороться с сильной как никогда, подчинившей себе в результате войны пол Европы, Россией.
Получилось так, что Оруэлл — это автор «1984». История опустила тонкости, побледнели другие книги, мало кого интересует, что написал Оруэлл помимо «1984», что он был послушным партийным функционером социалистической партии троцкистского типа. О «Down and out…», «Пирсе Вигана», о «Прощании с Каталонией» знают только специалисты. Трагедия Оруэлла, отринувшего идеалы всей своей жизни, осталась неизвестной массам.
«1984» — разумеется, несправедливая книга. Доведенные до абсурда, ее положения легко опровергнуть. То, что секс — преступление против партии,— опровергает то обстоятельство, что сталинская России поощряла семью и секс, ведущий к деторождению — мать-героиня пользовалась почетом в советском обществе. А ранние большевички Арманд, Коллонтай, Лариса Райснер пропагандировали свободную любовь. Правда, позднее от экспериментов отказались, но еще долго физиологические нужды мужчин партии легко удовлетворяли женщины партии. На это с неодобрением указывали критически настроенные современники. Другой тоталитарный режим — национал-социалистический в Германии — обязывал своих эсэсовцев иметь двух жен для воспроизводства потомства, а за вермахтом неизменно следовали полевые публичные дома. Так что сенсационно звучащая в бестселлере фраза — ложь и подлог.
Вообще вся история Винстона Смита — как его завлекала в ловушку полиция мысли — распадается, поскольку Смит никакой опасности в романе не представляет — он послушный мелкий чиновник, винтик, и только безумная власть может подавлять таких вот винтиков. Как я уже отметил в «Дисциплинарном санатории»: какими бы бессмысленными ни казались «репрессии» Сталина и борьба Гитлера с политическими врагами — это не были бессмысленные акции. «Репрессии» преследовали определенные политические цели. Неубедительно написанная книга «1984» имеет другую убедительность: ее аргументация — в радикальных ужасах. Присутствует даже пытка с помощью крысы. Устрашения Оруэлл добивается, все-таки он талантливый писатель, хотя у него отсутствует магистральная, главная тема в творчестве. «1984» и «Ферма животных» всего лишь одна, поздняя сторона его творчества. Ренегатская. Так необходимая Западу, как впоследствии, в 1975 году был необходим «Архипелаг ГУЛАГ». Его издатель Виктор Голланц послужил лишь детонатором в оглушительном взрыве успеха Оруэлла. Далее астрономическими тиражами его стали издавать другие.
Но талант есть талант. Даже в «1984» есть за что снять шапку перед Оруэллом. За страницы, посвященные жизни «пролов». «Когда они молоды, они бывают даже красивы» — с удивлением замечает Оруэлл, и здесь слышны интонации старого мрачного Ницше, наблюдающего за «шудрами» с любопытством естествоиспытателя, наблюдающего за насекомыми.
Генри Миллер: «китаец»
У Миллера есть две удачные книги: «Tropic of Cancer» и «Happy days in Clishy». «Тропик Козерога» и все остальные нексусы и плексусы лишь неудачные, разжиженные, рыхлые повторы «Тропика Рака». «Тропик Рака» вышел в 1933 году. Выпустил его в «Обелиск пресс» издатель Каханэ в Париже, отец издателя Мориса Жиродиа, который, в свою очередь, позднее напечатал в «Олимпия пресс» «Джанки» Берроуза и «Лолиту» Набокова.
1932 и 1933 были годами богатыми и книгами и событиями. В 1932-м Нобелевскую премию получил Иван Бунин, а бывший гвардейский офицер Горгулов убил (на книжной ярмарке!) президента Франции Поля Думера. В 1932-м вышло «Путешествие на край ночи» Селина и в 1933-м «Тропик Рака».
Богемная книга о жизни журналиста и корректора в англоязычной газете в Париже, о его скитаниях, выписках и его достаточно убогом сексе. Однако этой книге суждено было стать символом освобождения для пуританской Америки, а затем и для всего остального мира. Интересно, что уже в конце 80-х годов в «Herald Tribune» появились в двух номерах отрывки из воспоминаний шефа Генри Миллера, ответственного секретаря газеты, где он работал. Так вот, шеф утверждал, что Миллер был «парень без девушек», что лично он никогда не видел Миллера с девушкой. Что жил Миллер не так уж и плохо, жалованье позволяло ему жить нормально, что свою богему Миллер придумал.
Возможно, придумал. А скорее нет. Что мог знать редактор о личной жизни своего сотрудника? Мало, то же, что и мать девушки двадцати лет знает о ее личной жизни. Миллер появился в Париже уже достаточно зрелым человеком, а книгу свою знаменитую написал, когда ему было уже под сорок. Было ли «все это» или «всего этого» не было, никак не важно. Важно, что на свет появился вот такой statement, «Tropic of Cancer». Statement о свободной жизни, о легких девушках, о незамысловатых мыслях, выпивке и странных людях. Появилось на свет Евангелие индивидуалиста. После 1-й мировой войны, после Вердена, где забивали в жертву богам Войны 80 тысяч человек ежедневно (с обеих сторон, со стороны и Антанты и немцев) — мир остро нуждался в таком Евангелии индивидуальной свободы.
Странные люди у Миллера — это более всего русские и евреи: Таня, Карл и другие. Интересно, что написавший свою «Down and out in Paris and London» Оруэлл населил свою книгу такими же странными типами: там вовсю расположились русские, официант Борис — здоровенный русский, бывший офицер. Русские населяют и парижские книги Ремарка. Странный русский всегда находится рядом с главным героем, это вторая мужская роль — он как бы supporting actor.
Подруга Миллера Анаис Нин называла Генри «китаец». В этом прозвище, возможно, заключается суть Миллера, ведь Анаис знала его как никто другой. В данном случае «китаец» выражает отстраненную, восточного характера философичность Миллера. Он не страстный Жан Жене, не желчный Селин. Его книги — книги не борьбы с миром, но книги гармонического примирения. Лысый, загорелый, всегда улыбающийся Миллер жил долго и в конце концов обосновался в солнечной Калифорнии, в районе Биг Сюр, в прекрасном, благословенном богом уголке. А тогда в Париже к своей подруге Анаис он ходил на баржу «Пениш», пришвартованную на Сене в самом центре Парижа. Анаис Нин была богатой девушкой, дочерью одного из министров республиканского правительства Испании. Ну хотя бы если судить по «Пениш», и тогда и сейчас жить на барже было роскошью. Баржа стоит дорого, на баржах живут техасские миллионеры или арабские шейхи.
Чтобы стать выдающимся писателем, американец должен покинуть Америку. Два самых крупных, самых известных за пределами Америки писателя: Хэмингвэй и Миллер,— оба долгие годы жили в Париже. (Как и Джойс — творец «Улисса», самого рафинированного произведения англоязычной литературы.) Если присмотреться,— герои произведений и Хэмингвэя и Миллера — эмигранты, перекати-поле. В них интересна их универсальность, то, что они преодолели свою американскость. Действия романов Хэмингвэя происходит в Париже, в Венеции, в Испании, в море, на Кубе, но крайне редки у него лишь рассказы, сценической площадкой которых служит земля Америки (из серии про Ника Адамса). Лучшие книги Миллера — эмигрантские. В исконной американской литературе (за исключением урода в семье — Великого Эдгара По) присутствует провинциальность. Так же как и в русской. Чтобы стать выдающимся писателем, русский тоже должен покинуть Россию.
Ну ясно, что не все проживавшие в то или иное время в Париже американские писатели стали Великими Писателями. Но многие очень известны. Так, «учительница» Хэмингвэя — Гертруда Стайн. Попав в Париж в 1980 году, я обнаружил там толпы американских писателей, издавались аж восемь литературных журналов. Традиция не прерывается. Мои первые издатели (их сразу два) Жан-Жак Повер и Жан-Пьер Рамзэй приняли меня по адресу 26, rue de Fleurus, именно там находилась некогда студия Гертруды Стайн, куда приходил к ней с визитами молодой Хэмингвэй. То есть издательство «Рамзэй» находилось в святая святых американской литературы.
Но обратимся к Миллеру. Он обогатил мировую литературу сценой с фонариком, когда герой «Тропика Рака» высвечивает фонарем влагалище русской Тани. Несмотря на постоянный голод, проблемы с деньгами и общую неустроенность, протагонисты его романа живут не грустно. По сути дела, у Миллера оптимистическое мировоззрение.
Конечно, «Тропик Рака» еще один этап в разоблачении того пуританского, затянутого в костюм, ханжеского человека, болеющего от неисполняемых сексуальных желаний, который участвовал в 1-й мировой, делал деньги в период между 1-й и 2-й войнами. Разоблачение буржуа. В конце концов, в Калифорнии, именно там, куда удалился Миллер в 1968 году, произошло еще одно разоблачение в цепи разоблачений — там стартовало движение хиппи. Появились коммуны, жившие по тем же хаотическим капризам природы, что и Карлы и Тани в «Тропике Рака». Общность дев и имущества имела место. Новые цыгане — хиппи до сих пор бродят по Калифорнии, и европейским странам, и России. Их, правда, стало меньше. Буржуа опять запрятался в ханжеские одежды и отгородился от мира этикетом, приличиями и религией. То есть временно торжествует реакция.
Интересно, что, по всей вероятности, Миллер имеет прямое отношение к возникновению движения хиппи. С 1961 года книги Генри Миллера наконец стали выходить на его исторической родине. Молодой энергичный издатель «Grow Press» Барни Россетт выдержал все судебные процессы, и «Тропик Рака» увидел свет. А за ним и другие книги Миллера. Так что вполне возможно, что первые хиппари зачитывались «Тропиком Рака» и учились по нему. Я стал автором «Grow Press» в середине 80-х годов, когда Барни Россетт продал свое издательство Anne Getti (одной из жен наследников Гетти, высокой рослой красавице), и Anne подарила издательство лорду Вайденфельду, владельцу издательства «Вайден-фельд» в Великобритании. Американское издательство стало называться «Grow Widenfeld». Они переиздали и издали три моих книги, но в конце концов загубили издательство, поскольку лорд стал издавать всех своих друзей венского и английского периодов его жизни.
«Китаец» до ста лет не дотянул, но жил очень долго. Если я не ошибаюсь (в тюрьме-крепости нет справочной литературы по Миллеру), он угас в своем имении в Биг Сюр в 80-е годы. Легенда гласит, что незадолго перед смертью неисправимый Генри пытался ущипнуть молоденькую медсестру за пухлую булку. Ну, это нормально для такого жизнелюбца, как Миллер.
Маяковский: позер
Он хорошо сыграл агитатора и горлана. Главаря, конечно, из него не получилось.
Он правильно и рано понял, что в лирической поэзии настоящей славы не будет. И потому развил тот талант, который неизбежно вытекал из самой его комплекции — он стал крупным. Как его высокая башенная фигура, с короткими ногами и бритой башкой. Но до этого он был вначале футуристом, как Уальд был эстетом, их патлатые физиономии и большие плечи неуловимо похожи, кстати. Найдите фотографии и сравните Уальда-эстета и Маяковского-футуриста. Вначале Маяковский и хотел быть новым эстетом: желтая кофта, банты под горлом.
Однако маскарад этот ему скоро надоел. Рядом творил куда более талантливый, чем сам Маяковский, Хлебников, звукоумник Крученых, Василий Каменский. Взвесив все «за» и «против», Маяковский правильно использовал свои габариты, вес и фактуру — он стал поэтом-трибуном. Эта вакансия занята в России не была.
Начинал он с заносчивых городских кубо-футуристических, жестяных стихов, с урбанизма, который приличествовал крупному молодому человеку:
«А вы ноктюрн сыграть могли бы / На флейте водосточных труб?» Эти стихи более или менее талантливы, некоторые из них напоминают американского Уолта Уитмена, отождествлявшего свое тело с космосом. В том, что революции понадобится агитатор и горлан, Маяковский не промахнулся. И в том, что понадобится только один агитатор и горлан, он тоже не промахнулся. Ленин инстинктивно не любил Маяковского, наверное считая его приспособленцем под революцию. Ленин вообще был старомодных вкусов — «Аппассионату» предпочитал. В мир искусства он никак не вмешивался — у него для этого были Троцкий и Луначарский. Чтобы не полюбить Маяковского, а это документально известно, у него должна была быть для этого особая неприязнь к Владимиру Владимировичу — поэту. Чуждый всякого позерства, думаю, Ильич распознал в Маяковском позера.
Маяковский был модным, как Пушкин. Начиная с того, что присоединился к самому модному поэтическому движению своего времени: к завезенному из Европы футуризму. Потом, когда стал ездить за границу, он обзавелся европейскими костюмами и привез, дабы угодить своей госпоже Лиле Брик, форд, «фордик», как уговаривала его хитрая Лиля. «Ну, Володечка, только настоящий фордик, а не какой-нибудь «Додэн-Буффан»» — сюсюкала Лиля. Западные авторучки, трости, блокноты — его стиль.
Мало что известно об отношениях Маяковского с женщинами до Лили. То есть отношения были, существует даже целый сборник воспоминаний женщин о Маяковском. Но ханжество советской женщины не имеет себе равных (так же как и реальная их «испорченность»), потому дальше признания, что «встречались», дамы Маяковского не зашли. Без сомнения, Лиля Брик, в девичестве Коган, поработила «Володечку». Отнести это рабство за счет каких-то грязных постельных чудес, которые умела делать Лиля? Со временем такие умения приедаются. Или вдруг появляется женщина, умеющая делать еще более грязные и поразительные вещи. Чем же держала его Лиля на крючке? Есть сведения, что якобы у агитатора и горлана был невеликий член. Скорее всего, это работа бессовестных баб, всегда готовых пнуть великого человека. Мне представляется более вероятным, что Маяковский «подсел» на Лилю, стал психологически зависим от нее — что его душевное равновесие и душевное здоровье зависело от Лили, и он боялся ее выпустить, как ребенок, учащийся плавать, боится отпустить спасательный круг. Ведь и покончил он с собой в момент, когда Лили не было в Москве.
В том сборнике женских воспоминаний нет подробностей личных отношений. Но там есть признаки, сигналы, симптомы внутренней нестабильности Маяковского. Особенно интересны в этом смысле показания последней подружки Маяковского, жены актера Яншина Полонской. Она свидетельствует, что Маяковский истерично просил ее не покидать, остаться, сию минуту быть с ним. Она пообещала появиться завтра. На самом деле «завтра» для таких, как Маяковский, не бывает. Многие второстепенные детали говорят, что внутри трибуна, агитатора, здорового дядьки с челюстями и кулаками боксера скрывался истеричный, склонный к отчаянью мальчик. В роду у него были случаи самоубийств.
Когда-то я ценил «Облако в штанах» и «Про это». Сейчас нахожу их многословными. Слишком длинно и густо размазаны чувства.
Безусловно гениальной формулой революции остался для меня «Левый марш». «Тише — ораторы, Ваше слово — товарищ Маузер!» — хотел бы написать я.
Всякие размалеванные «Клоп» и «Баня» оставляют меня равнодушными. Их могли бы написать и Ильф с Петровым. «Электротехник Жан» — это из их репертуара. «Скрылись гайки. Собственно говоря, где птичка?» — плосковатый юмор оттуда же. У Маяковского плоскостей и банальностей много.
И все-таки ему удалось выжать из своей жизни все, что было возможно. Максимум. Он отомстил женщинам тем, что оставался до конца их дней самым крупным человеком, которого они встретили. И уже древними старухами они должны были вспоминать о нем ежедневно. Ибо он был их пропуском в бессмертие. И под его сенью жили Лиля Брик и Татьяна Яковлева. Я писал об этом в других книгах, нет нужды повторять здесь. А те, кто не пошел с ним в постель, двусмысленно делали вид, что ходили в постель с ним.
Существовала ли семья втроем: Осип Брик, Лиля и Владимир Маяковский? То, что они втроем сняты в пижамах, еще ничего не значит. Хотя, с другой стороны, таких очкариков, как Ося Брик, я видел в свое время, в 1977 году, в нью-йоркском клубе «Нахтигаль», куда меня таскала моя девушка Сара. В клубе собирались садисты. Ося Брик вполне тянет на садиста. Внешний облик соответствует. Вероятнее всего, он просто делился с Маяковским женой. Кому доставалось больше, кому — меньше, неведомо. И уже никогда не будет ведомо. Жизнь у Лили получилась долгая. Впоследствии она «встречалась» даже со знаменитым чекистом Аграновым, любила красных командиров. Однако литературная слава оказалась долговечнее красно-командирской и чекистской. На Володечке она въехала в вечность.
Когда я впервые увидел Лилю молодым человеком 27 лет, она показалась мне накрашенной карлицей. Ведьмой. Злым клоуном. Потом я привык. Эта маленькая, тогда еще свежая ведьма держала распадающегося внутри Володю лет пятнадцать. Сверхчеловек, сверхженщина. Сестра ее Эльза вышла замуж за французского гражданина Триоле и жила в Париже. Возможно, она сознательно подражала сестре, но в 1928 году она познакомилась со звездой сюрреализма поэтом Луи Арагоном и стала завоевывать его. Арагон был светской звездой, человеком избалованным, у него был долгий роман со шведской аристократкой — алкоголичкой Ненси Кунард, завоевать его было нелегко. Эльза отступала, потом наступала. Она стала писать романы по-французски, ходила за Арагоном повсюду, оказывалась нужна. В несколько лет она опутала его паутиной не хуже, чем Лиля — Маяковского, а Елена Дьяконова (Гала) — Сальватора Дали. И около пятидесяти лет эксплуатировала. Умерла она в самом конце семидесятых, где-то перед самым моим приездом в Париж. В отличие от Лили, не писавшей ничего, она оставила после себя литературное наследие. Лиле же удались кое-какие записи о Маяковском, набросанные с помощью Василия Катаняна, ее последнего мужа. Вообще, если традиция знаменитых пар наблюдается в середине 20-х почти исключительно во Франции (Арагон — Эльза Триоле, Дали — Гала, Сартр — Симона де Бовуар), то пришла она из России, от первой пары: Лиля Брик — Маяковский.
Не было в жизни Володи ни эмиграции, ни войны, ни тюрьмы — самых страшных испытаний, достающихся на долю человека, потому я гляжу на него из времени, как на невинного ребенка, с высоты своих 58 лет, на него, удачливого, знаменитого и слабого. Его жизнь кончилась в 37 лет, а моя литературная слава в этом возрасте только началась.
Булгаков: льстит обывателю
Популярность Булгакову сделали вначале диссиденты. Обожествляя все ненапечатанное при Советской власти. Они начали пиарить Булгакова — мол, есть такая необыкновенная книга: «Мастер и Маргарита»,— слух опередил на много лет появление самого текста. Таким образом, почва была заранее удобрена. Время сделало так, что текст книги представал перед публикой постепенно, то в виде публикаций в журналах и наконец уже в полном издании. На самом деле это самая умная подача книги: вначале слух, затем отрывки, потом уж текст. Грамотно… Сейчас можно сказать, что «Мастер и Маргарита» любимый шедевр российского обывателя. Особенно приглянулась она москвичам, это очень московская книга: «проклятая квартира» посещается как музей, собираются поставить памятник на Патриарших прудах Берлиозу, Аннушке и чуть ли не бутылке подсолнечного масла, разлитой на рельсах. И я уверен, что поставят.
За что же так безразмерно полюбил российский обыватель «Мастера и Маргариту»? Ну конечно, за московскую атрибутику, за название московских улиц и переулков, за детали раннесоветского быта. Но только этого на самом деле мало, чтобы объяснить поистине истеричную любовь к книге. В ней есть что-то еще, что притягивает именно российского читателя-обывателя: что?
Дело в том, что «Мастер и Маргарита», во-первых, пародия на исторический роман. Во-вторых: это еще и плутовской роман, и очень-очень напоминает ильфо-петровские «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». В-третьих, добавлен небольшой элемент сверхъестественного, то есть вкрапления фантастического. Смешав и встряхнув хорошенько все эти элементы, получаем очень лестную для обывателя книгу. В «Мастере и Маргарите» обыватель с его бутылью подсолнечного масла, с его ЖЭКами и прочей низкой реальностью присоединяется к высокой Истории. К Понтию Пилату и Христу. Ну как же обывателю не любить такую книгу?! Он ее и любит с завидным простецким задором. Хотя, если считать по высокому гамбургскому счету, книга получилась вульгарная, базарная, она разит подсолнечным маслом и обывательскими кальсонами. Эти кальсоны и масло преобладают и тянут вниз и Понтия Пилата, и Воланда, и Христа. С задачей создать шедевр — роман высокого штиля — Булгаков не справился, создал роман низкого, сродни «Золотому теленку».
Вот они и ходят семьями смотреть на «проклятую квартиру» и учредили уже свой наивный культ книги. В благодарность зато, что их (и именно москвичей) присоединили к Высокой Истории: к Риму, Иудее, легионерам, к Пилату в алом плаще, к распятию и Христу. Очень-очень лестно.
Самая удачная книга Булгакова, без сомнения,— это «Белая гвардия». В «Гвардии» звучит такая гармоничная, слаженная, уютная мелодия, как в каком-нибудь «Тарасе Бульбе» Гоголя. Мелодия простая, но трудно ее найти. Для писателя обыкновенно это большая удача, если находит. Убедительна такая мелодия. И потому убедительна «Белая гвардия».
«Собачье сердце» — достаточно гнусный антипролетарский памфлет. В известном смысле эта вещь может быть сравнима с антисемитскими памфлетами Селина, но только это антипролетарский памфлет. Элементы советского быта здесь предстают без примеси истории и фантастики, не как в «Мастере и Маргарите». Это «Золотой теленок» и «Двенадцать стульев», но совсем уж злобные. Результат: несправедливая позиция. Недаром «Шариковым» клеймит и шпыняет интеллигенция своих противников: Шариковым был для них Анпилов, например. Хотя сама интеллигенция может быть не менее противна, чем пролетариат.
Результат общей деятельности Булгакова-литератора неутешительный: это большой кусок мяса искусства — «Белая гвардия» и несколько жирных и жилистых довесков к нему. И тут никакие памятники по Москве не помогут. Так же как и количество поклонников-обывателей.
Юкио Мишима: да, Смерть!
Редкий в послевоенное время правый Герой. Он мог бы служить панданом левому революционеру Че Геваре, если бы кто-то догадался классифицировать героев и расставлять их по порядку.
Самый неяпонский из японских писателей, как называли его коллеги, писатели-японцы, он парадоксальным образом явил миру аутентичный самурайский дух, совершив двойное «сэпукку» (более сложная форма харакири) в штабе Сил самообороны Японии в ноябре 1970 года.
Обычно его историю рассказывают (в том числе и он сам) в банальном контексте. Жил хлипкий мальчик — гадкий утенок. Однажды он решил стать сильным… Скорее, жил мальчик со стальной волей. Осмотрев себя однажды, он решил, что ему не хватает брони мышц. И с маниакальным упорством стал наращивать эти мышцы. Есть фотография молодого писателя: он, с коротким ежиком, в узких брюках и черном пиджаке, стоит у афиши кинофильма, которого он режиссер. Выглядит свежо и юно, и если бы не косые глазки и скулы, вполне сошел бы за американского рокера конца 50-х — начала 60-х.
Он не попал на фронт, из-за слабого здоровья, а скорее всего, по протекции: его дед был важным чиновником. Ему было бы 19 в 1945-м, он вполне годился бы в пилоты-камикадзе. Камикадзе несли на головных повязках изречение из священной самурайской книги «Хагакурэ»: «Путь самурая есть смерть». Впоследствии Мишима напишет комментарии к «Хагакурэ», книге японского самурая Дзете Ямомото, а «Путь самурая есть смерть» — станет жизненным кредо Мишимы. Этот путь приведет его в конце концов к желаемой им смерти. Странной, изуверской, ранней и героической. Возможно, это долг, замороженный на четверть века и отданный им Японии в 1970-м? Возможно, он получил отсрочку, но долг нужно было отдавать.
В промежутке он создал за эти четверть века большое литературное наследие. Исторические рассказы, пьесы для театра «но» и театра «кабуки», эссе, европейские пьесы, самые известные из них: «Мой друг — Гитлер» и «Мадам де Сад», романы героические и нравоучительные, европейские рассказы (один из них, «Матрос, потерявший благосклонность океана», успешно экранизирован, матроса играет Крис Кристоферсон, фильм малоизвестен).
Киносценарии. Особняком стоят комментарии Мишимы к «Хагакурэ». Здесь уже не литература, а этика, и эстетика, и фанатизм. Дзете Ямомото в возрасте 41 года не мог покончить с собой, поскольку ему запретил сделать это его покойный суверен — даймё. Ямомото принял буддизм и прожил еще 20 лет отшельником в травяной хижине. Создал за это время самурайский кодекс — наставление, где он свободно высказывает основные принципы самурайства. Собственно, это произведение XVII века излагало принципы военно-иерархические и, как таковое, было проникнуто духом эстетического фашизма. Чего стоят, например, советы Ямомото носить всегда с собой красную краску для лица, чтобы, пав в битве, самурай имел щеки цвета вишни. В военной Японии до 1945 года «Хагакурэ» выходила огромными тиражами, и логически книга была запрещена тотчас по окончании войны. Мишима снял запрет с «Хагакурэ». Он преподал ее современникам как вечно живую книгу.
Преподавали «Хагакурэ» и в обществе «Татэ-но кай» (не ручаюсь за правописание, прошу проверить), основанной Мишимой правой студенческой организации. Члены общества носили особую форму: высокие фуражки, и есть сведения, что они тренировались вместе с силами самообороны на их военных базах. По разрешению Накасонэ, впоследствии ставшего премьер-министром Японии. «Татэ-но кай» называли личной армией Мишимы, а форму: двубортные мундиры в талию и высокие фуражки, недоброжелатели называли опереточной, однако предназначение этих полсотни с небольшим юношей было далеко не только эстетическое. На военной базе в горах люди Мишимы стреляли. А мундиры называют опереточными до тех пор, пока они не забрызганы кровью.
Из писателя-эстета Мишима постепенно эволюционировал в правого политика. Его последняя тетралогия из четырех романов (не очень удачная, слишком жестко по-европейски структурирована) это на самом деле его политический стэйтмент, это о патриотизме, о любви к родине и императору.
Его смерть — тоже политический стэйтмент. Он приехал вместе с четырьмя своими сторонниками в штаб Сил самообороны (так называлось после 1945 года то, что американцы позволили оставить от японской армии). Он попросил провести его к генералу — начальнику штаба, которого он знал. В кабинете генерала он приказал генералу вывести войска и построить их на плацу перед штабом. Генерал отказался. В довершение в кабинет ворвались офицеры. Тогда Мишима приставил меч к шее генерала. Офицеры отступили. Генерал дал приказ собрать войска на плацу. Мишима вышел на балкон и обратился к солдатам с речью. Он говорил им о необходимости возродить имперское величие Японии, о том, что нужно сбросить путы американской оккупации. В ответ с плаца раздались крики: «Идиот!», «Уходи, хватит играть в героя!» И даже насмешки. Мишима ожидал не этого. Он думал поднять армию, а армия оказалась заражена духом «презренных торговцев из Осака». На это еще триста лет назад сетовал Дзете Ямомото в «Хагакурэ». Мишима вернулся в кабинет, прямо на балконе он опустился на колени, расстегнул мундир, поднял рубаху и сделал себе харакири. Стоявший за ним его ближайший сподвижник отрубил ему голову. Надо сказать — не очень удачно, со второго раза. И в свою очередь опустился на колени и сделал себе харакири. А его обезглавил один из троих партийцев «Татэ-но кай»… Сэппуку сделали семь человек — кровь, обезглавленные тела, мечи, кинжалы. Происшедшее заставило задохнуться в шоке весь мир. Надо сказать, что Мишима, как деловой и современный писатель, пригласил на ожидавшиеся события многих журналистов, в том числе американских. В нем соседствовала, как видим, деловая практичность и убежденный, деловой фанатизм.
В «Хагакурэ» Дзете Ямомото убеждает:
«Возможно подумать, что смерть провалившегося в своей миссии — напрасная смерть. Нет, это не напрасная смерть. Положи себе за правило: в ситуации «или — или» без колебаний всегда выбирай смерть. Ведь всегда можно найти аргументацию для того, чтобы жить. Путь самурая есть смерть».
Он советует также приучить себя к мысли о смерти.
«Ежедневно,— пишет он,— воображай всевозможные виды смерти: от меча, от кинжала, в поединке, от стрелы, от пожара, утонувшим, падая с утеса, от молнии, таким образом, когда момент настанет, ты будешь готов».
Мишима внял советам рыцаря-монаха и хорошо подготовил себя.
Удивляет в его истории только несоответствие, на первый взгляд, двух частей его жизни: знаменитого модного писателя, плейбоя и американофила со смертью патриота и фанатика. Он одевался как американец, был впереди своего времени и качался в спортзалах — известна целая книга-альбом его обнаженных и полуобнаженных фотографий, сделанных в его красивом доме с красивым двором и фонтаном. У него были дружеские отношения с американским издателем Альфредом Кнопфом, который приглашал его в Соединенные Штаты, в его доме подавали чай в пять часов, как в доброй старой Англии. На первый взгляд, это не сходилось все с Мишимой с ритуальным кинжалом в головной повязке камикадзэ, вспарывающим себе живот.
Но на самом деле эти две части его уживались. На уже упомянутом фото, где он как свежий рокер 50-х годов, плакат, на фоне которого он стоит, изображает офицера, опустившегося на колени, расстегнув мундир и рубашку — офицер делает харакири. Играет офицера — актер Мишима, он же режиссер и автор сценария. Плакат висит на стене в Гринвич-Виллидже, город Нью-Йорк. Так что он давно органично соединил свой средневековый кодекс самурая и свой американизм современного человека. К тому же существует интересная, американская по происхождению гипотеза, высказал ее бывший американский посол в Японии, что японцы никогда не простили и не простят Америке Хиросиму и Нагасаки. Что вся нация планомерно, замедленно, настойчиво убивает себя работой для того, чтобы, достигнув экономической мощи по-американски, страшно отомстить и уничтожить Америку. Сведения о том, что люди Мишимы тренировались на военных базах японских сил самообороны, я почерпнул из статьи этого американца. К сожалению, лишенный в тюрьме справочных материалов, я не помню фамилии. Возможно, его фамилия Дэвис и что-нибудь Junior.
Мишима — из тех писателей, которые больше остаются в памяти человеческой как люди необычайных поступков, подкрепляющие судьбой и кровью те идеи, которые декларировали. Крепкость Мишимы в его эссе «Солнце и Сталь», его комментарии к «Хагакурэ», делающие его практически соавтором книги, подкреплены изуверским поступком на балконе штаба Сил самообороны. Мишима поставил хорошую красивую точку в конце своей судьбы. Ведь восстание не удалось.
Подумав, решил, что буду все же называть его, как принято уже в русской транскрипции: Мисима. Так пронзительнее. Добавлю, что американизм Мисимы простирался так далеко, что он завещал, чтобы переводы его книг на европейские языки были сделаны не с японского оригинала, а с американского английского.
Александр Блок: гениальный п…острадатель
Я нашел хрестоматию для старших классов (а может, это была хрестоматия для института) по литературе в ванной комнате. Ванная была общая для всех трех семей нашей квартиры по Поперечной улице, д.22, в Харькове. Мне было 15 лет, и я обнаружил в книге стихотворение «Незнакомка». Я прочел его и сгубил свою душу. Начиналось пришествие незнакомки исподволь:
Вдали, над пылью переулочной,
Над скукой загородных дач,
Чуть золотится крендель булочной,
И раздается детский плач.
И каждый вечер, за шлагбаумами,
Заламывая котелки,
Среди канав гуляют с дамами
Испытанные остряки.
И вот она появляется:
И каждый вечер, в час назначенный
(Иль это только снится мне?),
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.
И медленно, пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.
И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.
И странной близостью закованный,
Смотрю за темную вуаль
И вижу берег очарованный
И очарованную даль.
Глухие тайны мне поручены,
Мне чье-то сердце вручено,
И все души моей излучины
Пронзило терпкое вино.
А рядом у соседних столиков
Лакеи сонные торчат,
И пьяницы с глазами кроликов
«In vino veritas!» — кричат…
Стихотворение сразило меня наповал и заставило задуматься. Я доселе ненавидел стихи. Я брал в библиотеке книги о кораблях, о путешествиях, по ботанике и зоологии. Любимой моей книгой была «Путешествие на «Бигле» и исследования Галапагосских островов» Чарльза Дарвина. Я обожал книги по истории и упивался «Крестовыми походами», переписывал в тетрадки хронологию царствований французских королей и императоров Священной Римской империи. А тут я пошел и попросил дать мне стихи Александра Блока. Пораженная библиотекарша принесла мне из хранилища небольшую книжку с веткой сирени на обложке: «Юношеские стихи Блока». Это был май месяц, лучший месяц в году для знакомства со стихами Блока. У нашего школьного товарища Вити Ревенко умерла мать, и мы всем классом пришли в его старый сад, где цвела сирень, и слышали, как в старом доме старухи отпевали покойную. И был я влюблен в высокую красавицу из барака по фамилии Лазаренко, Женя. Все это сложилось в некую общую неистовую мелодию.
Старый дом глянет в сердце мое,
Розовея от края до края,
И окошко твое…
Этот голос, он твой,
И его непонятному звуку
Жизнь и горе отдам,
Как во сне, твою прежнюю милую руку
Прижимая к губам…—
так написал об этом Блок.
Все его творчество можно озаглавить как «Мистика пола». У него были странные отношения с невестой — Любовью Менделеевой. Он был не в силах преодолеть нечто, что называется «complex of respect» — комплекс уважения к своей подруге, приросту говоря, не мог завалить ее в первом попавшемся месте и раздвинуть ей ноги. Его период ухаживания длился неимоверно долго, наконец они поженились. Но и после этого оставались телесно чужими друг другу. Благодаря такому аномальному поведению стихи этого гибкого херувима со стеклянными выпуклыми очами и гетевским носом приобрели букет, подобный старому вину, глубину вкуса. В «Незнакомке», как я впоследствии узнал, изображена дачная местность в Сестрорецке, под Питером, там был ресторан, и туда ходили проститутки, искать клиентов. Именно поэтому: «всегда без спутников, одна, / Дыша духами и туманами, / Она садится у окна». Банально, вульгарно. Но как он это раздул! Что он из этого эпизода сделал! Какое очарование греховного пола! (Лучше пола, чем секса! Секс — это что-то юношеское и спортивное. Пол — это страшнее.) Через всю жизнь Блок пронес очарование проститутками. И актрисами. Вот с ними он чувствовал себя свободным. А Люба Менделеева его угнетала. Даже когда он уже спал с ней. Потом его друг, поэт Бугаев, он же Белый, вошел в «священный» союз с Любой и с ним, подобный тому, в котором состояли Брики и Маяковский. Кто там что чувствовал, трудно сказать, возможно, Блоку была милее Люба, оскверненная, подобно проституткам, связью с другим мужчиной? Когда Блок уже давно был мертв, в 1928 году какой-то мемуарист, не помню кто, но помню сцену, встретил Любу Менделееву, толстенькую, маленькую женщину с папиросой, в коридоре какого-то учреждения вроде «Потребсоюза» или издательства, она курила. Прекрасная Дама! Любовь Блока, она была в плохих рваных чулках. Боже мой, лучше бы она умерла!
Мистика пола — вот о чем писал Бок лет двадцать подряд. Ну, разумеется, у него есть и стихи о государстве, и гениальная поэма «Двенадцать», где все же героиней, и не последней, появляется еще одна блоковская стерва — «Катька», проститутка, конечно же.
С офицерами блудила,
Шоколад миньон жрала,
С юнкерьем гулять ходила,
С солдатьем теперь пошла.
Даже в революционной поэме о пришествии Нового мира без проститутки Блок не обходится. В просторечии, по-бульварному, можно назвать его «гениальный пиздострадатель», вот он кто, этот стеклянноглазый денди с гетевским носом. Он возвел «комплекс респекта» в правило искусства. А на земле спал с проститутками. И вновь и вновь перепевал «Незнакомку»:
Я сидел у окна в переполненном зале,
Где-то пели смычки о любви,
Я послал тебе черную розу в бокале,
Золотого как небо «аи».
Ты взглянула. Я встретил смущенно и дерзко
Взгляд надменный и отдал поклон.
Обратись к кавалеру, намеренно резко,
Ты сказала: «И этот влюблен!»
И тотчас же в ответ что-то грянули струны,
Исступленно запели смычки,
Но была ты со мной всем презрением юным,
Чуть заметным дрожаньем руки…
Блок упивался холодностью женщин — мраморных статуй, ужасался им, любил их. И спал с проститутками. Он часто бывал пьян и возвращался домой на Офицерскую уже под утро. Конечно, таким он нравился женщинам. Странно, но они его боялись живого, как священного монстра. Воспоминания и Ахматовой и Цветаевой говорят именно о трепете этих дам перед Блоком. «Я пришла к поэту в гости»,— пишет Ахматова, а сама, наверное, выбирала с ужасом лучшее нижнее белье.
Блок король и маг порока,
Роль и боль венчают Блока.
Чья это эпиграмма, я не помню, но это точно. Король и маг порока. Так же как Боб Денар король наемников. Выше никто не подымался. «Незнакомка» была популярна и в Сестрорецке и в Питере. «Мы — незнакомки»,— обращались к клиентам, по свидетельству современников, две сестрорецкие девчушки — сестры-проститутки. «Помогите, барин, незнакомке»,— шептала девочка у Пассажа.
А Люба Менделеева послужила только для того, чтобы заложить психологический механизм, основать эту пагубную страсть к проституткам. Сослужив свою службу, она могла уходить в «Потребсоюз» в драных чулках, эта Люба. Не она Прекрасная Дама Блока. Его Прекрасная Дама — та, из сестрорецкого придорожного кабака.
И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.
Блок повлиял на меня навсегда. Аристократичный мистик — он заразил меня любовью к стервам. Вот эта подброшенная неизвестно кем в ванную книга (ванная не работала, так как не была подключена горячая вода) пятнадцатилетнему пацану сорвала башку. В нужный момент подбросили образ женщины, а у меня ведь не было никакого. Потому впоследствии в моей жизни и появлялись неумолимо стервы, в шляпах с траурными перьями. Елена Козлова была моей «незнакомкой», и я честно ее со страстью обожал как волк. Позднее появилась певица Наташа Медведева в стиле Блока. «Незнакомка» жила со мной и пела в ресторане «Распутин», пила мою кровь, и все было согласно Блоку. Нет, я не жалею, что подобрал ту роковую книгу.
Нет-нет, я нисколько не иронизирую. У пацана из рабочего поселка не было образа («имиджа», как сейчас говорят) желанной женщины. И вот Дьявол подбросил книгу. Подметнул.
Блок, конечно, не Великий поэт. Он поэт специальный. Его специальность — мистика пола. Как таковой он гениален в своей специальности. Это круче порнографии.
Родован Караджич: президент мертвой республики
В 1992 году осенью я попал в Пале — столицу Боснийской Сербской Республики. Вначале я, правда, встретился с генералом Радко Младичем; генерал в голубом тесном ему костюме на три пуговицы выглядел, я помню, переодетым крестьянином. Часа три, наверное, генерал, разложив карту на столе, втолковывал мне, какие военные заводы перешли в руки хорват и мусульман, а какие остались у сербов, и в конце концов попросил у России вооружение: вертолеты «Ми-24» и еще всякие военные мощности. Затем мы поговорили о возможности поставлять Югославии нефть и нефтепродукты по Дунаю. К середине разговора я понял, что меня принимают за другого, возможно, за представителя Кремля, но не стал разочаровывать Младича. Через сутки я уже был в Пале. Ночевать меня привезли в деревянное, мерзлое, не отапливаемое шале, где не функционировала канализация. А спать я улегся, выпив все содержимое бутыли сливовой водки, внизу, в ресторане (ресторан как-то работал, хотя горячих блюд не было), и навалив на себя все белье и одеяла из своего и соседних номеров. Как раз догорел обрезок свечи, выданный мне внизу, в ресторане, чтобы добраться до номера. Утром в окне обнаружилось ярчайшее солнце и роскошная природа гор: это были места, использовавшиеся в 1980 году для Олимпийских игр в Сараево. В коридоре я познакомился с пожилой женщиной в нескольких вязаных кофтах. Она неплохо говорила по-английски и пригласила меня к себе на кофе. У нее оказалось в комнате нечто вроде керосинки. Кофе она приготовила отличный. Дама назвалась Биланой Плавшич, впоследствии она сменила Караджича на посту президента Боснийской Республики, еще позднее представляла Сербию в слепленной искусственно из враждующих сторон Боснии, а сейчас сидит в тюрьме международного трибунала в Гааге — отправилась туда добровольно. Плавшич находила позицию Караджича чрезвычайно агрессивной, она считала, что с Западом следует быть вежливее и дипломатичнее, а уж Младича и вовсе она считала ястребом. Как ныне видно, все сербы — и ястребы и голубки — равно не устраивали НАТО и Соединенные Штаты, потому и голубь оказался в тюрьме, а ястреб и умеренный Караджич где-то прячутся. Тогда я покинул Пале: столичные сплетни и интриги, неизбежные в молодых республиках, меня не прельщали, к тому же грозила постоянная опасность быть вовлеченным в эти интриги, потому я с удовольствием уехал на передовую. В сербский плацдарм в самом городе Сараево — в квартал Гербовицу, где не отказал себе в удовольствии попасть сразу в несколько перестрелок. На пути обратно идущую впереди в темноте машину подбили. Затем я надолго застрял с четниками в Еврейски Гроби, ходил с ними в атаку (предместье Сараево — Еврейски Гроби названы так по находящемуся там старому Еврейскому кладбищу), пережил тысячу приключений, ходил по брошенным в грязь мусульманским лиловым знаменам с лилиями, получил в подарок от коменданта округа Вогошча пистолет фабрики «Червона звезда». И оказался опять в Пале очень нескоро. Я сидел, помню, в военной столовой и обсуждал, как мне попасть через Париж в Москву к 24 октября — в это день должен был состояться 1-й учредительный съезд ФНС — Фронта национального спасения. За соседним столом сидели какие-то робкие парни, явно не сербы. Журналистов же в эту сугубо сербскую элитарную столовку обычно не пускали. Она находилась в одном доме с аппаратом правительства. Один из парней подошел ко мне, представился: режиссер-документалист Би-би-си Пол Павликовски. Он читал мои книги по-английски и хотел бы сделать предложение. Он снимает по заказу Би-би-си фильм о Караджиче и боснийских сербах. Он хотел бы, чтобы я проинтервьюировал Караджича для части эпизодов фильма. Участие в качестве интервьюера русского писателя, известного на Западе, сделает фильм живее. Я поинтересовался, сколько понадобится времени: три дня. После этого они направляются в Белград. Я согласился.
Мы начали в тот же день со знакомства с Караджичем. Он появился в военной столовой через час. Высокий, полный, серый костюм-тройка, галстук, очень длинные седые с русыми волосы. По виду настоящий сербский профессор, каковым он и был. Профессор психиатрии и поэт. Должна была выйти вскоре его книжка в издательстве города Нови-Сад. Мы поговорили с ним о сербских издателях, у меня к тому времени вышло несколько книг в Белграде и одна книжка в Нови-Саде. Мы поговорили об Америке, часть жизни Караджич прожил там, мы поговорили о Билане Плавшич, профессор Караджич сказал с улыбкой, что Билана хорошая женщина, но, к сожалению, либералка… Беседой мы как бы обозначили общие вехи нашей жизни и обозначили символы.
На следующий день рано поехали на высоты над Сараево. Там над городом на склоне, усыпанном 12,7-миллиметровыми гильзами тяжелого пулемета «браунинг», мы стали. Он показал мне в бинокль и без бинокля (ориентир — слева от столба дыма) его собственный дом. Там у него остались все книги, и они только год назад закончили с женой оборудование приемной… Началось все 6 апреля — вдруг толпа мусульман, размахивая флагами, организовалась в демонстрацию за независимую мусульманскую Боснию. Раздались выстрелы, якобы стреляла сербская полиция. Но это была провокация, мусульмане не жалеют своих нисколько, расстреляли своих, чтобы вмешался Запад. До этого никаких массовых выступлений не было. Ну, конечно, тлели подспудно искры, выходили всякие подпольные журнальчики, еще в 70-е годы брошюра этого полоумного Алии Изигбеговича о создании мусульманского государства в Боснии, первого мусульманского государства в Европе. Но тогда это было достоянием десятков, ну сотен полоумных. В основном мусульманских интеллектуалов.
— Прочтите мистеру Лимоноф ваши стихи?— вмешался Павликовски. Его ребята с волосатыми микрофонами и камерами обступали нас. Солнце передвинулось, и охрана Караджича заставила нас отойти от панорамы дымящегося Сараево, так как нас могли подстрелить снизу снайперы, теперь, когда солнце передвинулось.
— Знаете, у нас достаточно сил, чтобы в несколько дней взять Сараево,— сказал Караджич.
— Почему же не берете?
— Не хочу раздражать Запад. Дело в том, что я достаточно прожил в Америке, чтобы понять, как с ними работать. Они очень чувствительны к вопросу прав человека, например. Если мы возьмем Сараево, нас станут обвинять в геноциде «мусульманской нации» и всех других грехах. Я предпочитаю действовать осторожно и постепенно. Многие наши меня не понимают. У меня выросла сильная оппозиция во главе с моими генералами. Они хотели бы захватить все, что можно, и уж тогда договариваться. Их не волнует западное общественное мнение и последствия. Но мы и так владеем семьюдесятью двумя процентами территории Боснии… Генералы… Они забыли, что это я сделал их генералами.
Караджич не называл имени Младича, но я знал уже, что между ним и Младичем идет борьба. Остаток дней мы посещали блиндажи, посетили день рождения целой воинской дивизии: как средневековые воины, сидели меж дивных гор под парусиновыми тентами и произносили тосты и здравицы. Я сидел между раненым отличным полковником Бартолой, похожим на мужицкого Христа, и Караджичем. За Караджичем сидел Младич. Когда съемки окончились, оказалось, что можно попытаться пробиться в Белград на вертолете. Западная авиация уже установила тогда контроль над воздушным пространством Боснии. Потому летели, следуя рельефу местности, прижимаясь к склонам гор и поверхности ущелий. Расстались на военном аэродроме уже ночью.
Дальнейшее известно. В споре о том, как надо было работать с Западом, остались не правы все. И голубь Билана Плавшич, и умеренные президенты Караджич и Милошевич. Ближе всех к истине оказался все-таки ястреб Радко Младич. Несмотря на то, что для войны всеми способами с коалицией стран хозяев мира, с коалицией «мэтров» у маленькой Сербии не было сил.
Где-то он скрывается сейчас, лохматый, седой профессор Караджич? Может, замаскировавшись под крестьянина, сидит где-нибудь в сливовом саду, потягивая кофе? Президент исчезнувшей с карты республики. Однако все они доблестно бились, им не стыдно, они могут, отходя в мир иной, сказать себе, что сделали все, что могли. Все лежат мертвые и порубанные, как в битве при Косово.
Рудольф Нуриев: блистательный
Подозреваю, что он был Великим танцором и актером. Только судьба не свела нас с ним достаточно близко. Чтобы разобраться. В Нью-Йорке у нас оказались общие знакомые, эмигранты из Питера: Шмаков, Минц и Лена Чернышева. Шмаков — писатель и балетный критик, Минц — характерный актер, исполнитель всяких ролей, где не требовалась молодость, но нужна была сила, так он исполнял Дроссельмейстера. Лена Чернышова приехала из России уже балетмейстером. Трио это делило одну большую квартиру на Колумбус-авеню. А я жил рядом на Бродвее, в отеле «Эмбасси». Шмаков поощрял меня, мои литературные труды, он был одним из первых читателей моего первого романа «Это я, Эдичка». Он дал прочитать рукопись романа Михаилу Барышникову, а тот даже таскал с собой мою рукопись на репетиции. Рукопись его шокировала. Мне, конечно, льстило, что очень известная тогда звезда Барышников был шокирован моим романом. Позднее он даже пару раз приглашал меня в компании Шмакова к себе в квартиру на Парк-авеню. Помню, что там были везде ковры, несколько собак, кошки и не было или почти не было алкоголя. С Нуриевым Шмаков обещал меня познакомить, как только он появится в Нью-Йорке. Лешка Минц тоже обещал, поскольку он был соучеником «Рудика», как он его называл, по училищу имени Вагановой, они даже жили в одной комнате в дорматории. Лешка здоровый мужик, с носом картошкой, никогда не скажешь, что педераст, но-таки был педераст, даже намекал, что спал с Рудиком. Но, возможно, это было неправдой, а как было, уже ни у кого не узнаешь, и Лешка умер, и Рудик умер, и умер веселый и капризный Шмаков. Рудик в Нью-Йорке появлялся в те годы нечасто, дело в том, что два балетных светила — эмигранты из России — поделили сферы влияния. Нуриеву досталась Европа, а Барышникову — Америка. Этому разделению сопутствовали всяческие интриги, плюс разделение поклонников и «группи». Шмаков, Чернышова и Минц оказались среди «группи» Барышникова, так что, я думаю, они преувеличивали свои возможности, когда говорили о том, что познакомят меня с Нуриевым. Они ведь были из чуждого стана.
Рудольф Нуриев меня интересовал как человек экстравагантный и независимый. А тут еще я посмотрел очень талантливый фильм Кена Рассела «Рудольф Валентино», где Нуриев играет Валентино — американского актера, звезду 20-х годов. Фильм показался мне безупречным. С тех пор я его не видел и проверить свое мнение не могу, но, думаю, я тогда не ошибся. Это не сверхшедевр Пазолини, но вполне красивый фильм в своем жанре, с ослепительным Нуриевым, в окружении ослепительных и развратных голливудских типов своего времени. Ловкий, изящный, скуластенький Рудольф блистательно танцует в фильме, стуча лаковыми штиблетами, празднично улыбается и не сбивается ни разу. Само его присутствие, гибкого, блистательного, живого, делает фильм прекрасной драгоценностью, оставленной нам. (И, упаси боже, я не гомосексуалист, мой восторг чисто эстетический.) Все мои годы в Нью-Йорке, числом шесть, я так и не встретил Рудольфа Нуриева, не встретил я его и потом в Париже. Хотя у него была там квартира на набережной Вольтера. Балетных знакомых в Париже у меня не было. И потому на той территории я не бывал. Я порой видел его улыбающуюся ослепительную физиономию в иллюстрированных журналах в светской хронике. В том своем балетном мире он все время что-то вытворял, был дерзок. И не перед кем не снимал, что называется, шляпу. Заметил я и то, что он довольно гордо говорит о себе. И о стране, откуда убежал. Это мне понравилось, я запомнил позицию. Он лишь развязно сетовал, что в России балетный танцор получает нищенские деньги.
Хотя они и делили мир по сферам влияния, ясно было, что Рудольф — существо более высшего порядка, чем Барышников. Миша — трудяга и плебей, с короткими ногами, не имел и грамма той аристократичности и талантливой дерзости, которая видна была в Нуриеве. Как арабский гордый скакун и орловский рабочий тяжеловоз, отличались эти две звезды. Барышников тоже снимался в фильмах, но что это были за фильмы — политизированная агитка о танцоре из Питера, который в поисках свободы бежит из СССР на Запад. Тьфу, гадость какая! Когда смотрел, было стыдно за него.
Как-то я заметил, что Нуриев пропал. Пропал из журналов, из светской хроники. Однажды пришел мой приятель, рыжий художник Игорь Андреев, и сообщил, что теперь он гуляет по утрам по набережным Парижа с Рудольфом Нуриевым! Я ему вначале не поверил, но оказалось, что да. Игорь женился на француженке, и ее родители купили им квартиру вблизи Pont Neuf — в самом центре Парижа. У Игоря родился ребенок, потому он каждое утро брал коляску и вывозил ее на набережную. Там на набережной Вольтера ему неизменно встречался человек в куртке с капюшоном, и они бродили, разговаривая. Игорь познакомился с ним сам. Игорь Андреев с кем хочешь познакомится, тем более что доверие (тогда) внушал общий для обоих русский язык. По словам Игоря, Нуриев выглядит плохо. Он болен (позднее мы узнали из газет, что у Нуриева AIDS, или СПИД по-русски). «Удивительно,— сказал Андреев,— но этот башкирский «чурка» — отличный русский патриот». Я позавидовал Игорю, посоветовал ему записывать свои беседы с Нуриевым и когда-нибудь издать книгу. Еще я попросил его взять с собой однажды на прогулку меня, но пожелание так и осталось пожеланием. В те годы меня уже захватило и загипнотизировало извержение вулкана на востоке. Я редко бывал в Париже. Я мало что запомнил из рассказанного Игорем. Якобы к Нуриеву приехала сестра из России, и якобы ей он завещал свою квартиру и все свое состояние. И Игорь негодовал по этому поводу, что какой-то необразованной «дуре» из Башкирии достанется квартира на набережной Вольтера…
Прошел год или больше. Некто переслал мне из Парижа в Москву газетную заметку, где сообщалось, что состоялся аукцион личных вещей известной звезды, ныне покойной, танцовщика Нуриева. Перечислялось, какие вещи за сколько проданы.
«Среди других,— заканчивал свою статью журналист,— на аукцион была выставлена и книга Эдуарда Лимонова «Это я, Эдичка» на русском языке с пометками Нуриева. В момент смерти она почему-то оказалась на ночном столике умирающей звезды»,—
с удивлением закончил журналист. Не сообщалось лишь, продана ли книга.
Так что он со мной тоже хотел познакомиться. Не пришлось. Впоследствии в академии имени Вагановой мне показали его класс.
Юлиус Эвола: Маркс традиционализма
В шестидесятые он стал модным. В его римскую квартиру приходили испуганные молодые паломники — интеллектуалы, члены радикальных правых партий. На аудиенцию у папы традиционализма. Это как если бы марксисты могли бы, трясясь от волнения, нанести визит Карлу Марксу.
Старый аристократ разговаривал с робкими юношами и занимался своими делами. Расхаживал по квартире, обедал у них на глазах. Неряшливо хлестал куриный суп, принесенный батлером в драном фартуке, пил вино, обгладывал кости и утирался салфеткой. Скорее всего, он нарочно эпатировал посетителей своими манерами. Барон был хулиган, он всегда был хулиганом, и тогда, когда рисовал дадаистские картины. Дело в том, что первую и международную известность барон Эвола приобрел как яркий художник-дадаист. Репродукции его работ включаются и, очевидно, всегда будут включаться в обзоры дадаистского искусства.
Аристократы часто бывают хулиганами. Сикст Анри де Бурбон Пармский, самый легитимный наследник престола Франции (если бы Франция стала королевством, он имел бы более всех прав и занял французский престол), вел себя за столом как изголодавшийся рабочий. Мне пришлось с ним обедать пару раз. Он не церемонился, пожирал хлеб, ломая его, крошил, густо мазал маслом, пил вино с гавканием и удовольствием. Это буржуа всегда чопорно испуган. Только рабочие и аристократы ведут себя в жизни естественно.
Старый хулиган Эвола глодал курицу, бросал кости. На стенах висели его картины, периода дадаизма. Штаб-квартира дадаистов была расположена в Цюрихе, как уже упоминалось. Там, в кабаре «Вольтер», среди разноплеменных эмигрантов и дезертиров и родилось движение «дада». Лидером его был румын Тристан Тцара, но мобилизованный студент-медик Луи Арагон также входил в его ряды, как и барон Эвола. В кабаре «Вольтер» хаживал Ленин, и очень вероятно, что барон Эвола и Ленин были знакомы.
В двадцатые годы Эвола занялся изучением эзотерической литературы. В 1932 году он уже автор великой для традиционалистов книги: «Восстание против современного мира». Примкнув к фашистскому движению, барон Эвола нашел идеи Муссолини слишком вульгарными. Под покровительством радикальных итальянских фашистов Эвола некоторое время издавал традиционалистский журнал. Он встречался с Гитлером, попал в Вене под обстрел и остался после этого навсегда инвалидом. Он был другом знаменитого «Черного принца» Боргезе — известного героя войны, фашиста и специалиста по подводным атакам. (После войны Боргезе, опираясь на радикальные правые группировки, замышлял переворот в Италии, но переворот провалился, и принц бежал в Аргентину, где и умер от злокачественной пневмонии.) Помимо «Восстания против современного мира» Эвола написал такие книги, как «Скачка на тигре» (1962), «Языческий империализм», «Метафизика секса». Я читал их все в 80-е годы в Париже по-французски. Позднее издательство «L'Age d'homme» переиздало «Восстание…» и «Метафизику…». Вся моя библиотека, увы, или валяется где-то в «cave» (подвале) моего друга Мишеля Бидо в пригороде Парижа, или сожжена его квартирантом-солдатом во время затянувшейся поездки Бидо в Таиланд.
Вкратце, для тех, кто не слышал его имени, традиционализм Эволы сводится к следующему. Золотой век был вначале, и налицо регресс человека от года «зеро» до сегодняшнего времени, называемого в индуистской традиции «Кали-юга». Где-то на севере была область «Туле», где первая иерархическая кастовая структура общества впервые зародилась: король, жрецы, воины, земледельцы. Была вертикальная связь с небом. Впоследствии в мире было несколько эпох, когда изначальная структура возрождалась — Римская империя, священная империя ранней Европы, организации рыцарей-аскетов… Никакого Дарвина, разумеется, Эвола не признавал (как и я, впрочем), к социализму, так же как и к этническому национализму, испытывал отвращение. «Скачка на тигре» — великолепная критика современного общества. Книга оказала на меня в свое время сильнейшее впечатление. «Восстание» более общая, насыщенная эзотерической терминологией — как красивая сказка, длиной в целый том. (Написана она под большим влиянием французского ученого Рене Генона, ориентолога и эзотерика, осевшего в Каире.) «Скачка», однако, призывает к аскетическому хладнокровию монаха, а не к пробуждению ярости воина. Так что юноши, внимавшие мэтру, в то время как он обгладывал курицу и хлебал суп, уходили от мэтра неудовлетворенными. Он призывал их к холодной позе презрения, а они хотели переделать мир по образу и подобию идеологии традиционализма. В 1969 году прогремел взрыв на Пьяцца Навоне, унесший огромное количество жизней. Впоследствии другие взрывы сотрясали Италию. Их исполнители вышли из праворадикальных организаций, следы вели в правое подполье, к ученикам мэтра Эволы. В конце 60-х — начале 70-х годов следователи побеспокоили и старого барона. Его вызывали для дачи показаний. Его, впрочем, быстро оставили в покое. Левому профессору Тони Негри повезло меньше. Его обвинили в том, что он был вдохновителем, идеологом «Красных бригад», и приговорили к 30 годам тюремного заключения. (Он, впрочем, успел сбежать во Францию, а потом на льготных условиях сдался властям.) Эволу сажать было не с руки. Старый человек, живая легенда. Да и к насилию он не призывал, только объяснял.
Барон Эвола верил в то, что «раса есть понятие духовное», хотя солнечные арии — героичны и положительны, а лунные, теллурические расы, такие, как семиты, или ацтеки, или негры,— носители низкого, подземного, ночного, животного начала. Тоже самое Эвола говорит о женщинах в своих книгах. Расист и женоненавистник, аристократ барон Эвола являет своей философией единственный идеологический баланс социализму и марксизму.
Лев Толстой: писатель для хрестоматий
Есть анекдот: в эпоху дисидентства мать, чтобы заставить сына прочесть «Войну и мир», перепечатала книгу на машинке. Думаю, что привлекательность шестой слепой копии на самом деле не подвигнет современного юношу на чтение этой тяжелой многотомной конструкции. Литература вообще стареет. И нужно плюнуть в лицо тем абсурдообожателям литературных памятников, тем уродам, кто утверждает, что понимает и получает наслаждение от чтения «Божественной Комедии» Данте в примерном переводе профессора Лозинского. Стареет литература стремительно, а особенно постарела дофрейдовская литература. Именно тогда произошло резкое деление: дофрейдовская и послефрейдовская литература. Новая европейская литература: Селин, Миллер, и это не случайность, родилась в 1932–1933 годах, тогда именно, когда современный мир абсорбировал Фрейда, независимо оттого, читали ли труды Фрейда Селин или Миллер. Старения избежали безусловные гении: Бодлер, Бальзак, творцы вневременные, а вот поденные чернорабочие литературы пострадали очень.
«Война и мир» большая халтура, задуманная как эпопея о Брежневе «Малая земля», или как она там называлась. Интересно, что написана «Война и мир» примерно в тот же период, когда Достоевский объявил Пушкина национальным гением. Нужно было иметь национального гения, положение цветущей империи обязывало, и необходимо было иметь национальную фреску, эпопею. Как героически мы защищались от французского нашествия. Добавив модного тогда (но самую чуть-чуть, малость) натурализма — светские господа у Толстого говорят по-французски, Толстой, с божьей помощью, приступил. И слепил халтуру, такую же халтуру, как второй михалковский гимн для второго Совдепа г-на Путина. Ведь роман — одно сплошное общее место. Карикатурные гусары, светская молодежь — Долохов — полудикие и провинциальные, карикатура и Пьер Безухов — как характерный актер из советского фильма, толстый, очки. Наташа Ростова — дочь «хороших» родителей, как ученица привилегированной школы,— такой, в сущности, затертый штамп, что от нее ничто не запоминается. Платон Каратаев — мужик, представитель русского народа, все штампованные и уже встречавшиеся поодиночке нам у десятков других русских писателей. Вся эта труппа собрана вместе, чтобы в расширенном составе проиграть условные события вокруг 1812 года.
Такой детский драматический спектакль получился. Тут даже и не столько вина национального Льва Николаевича, сколько жанр ущербный: роман-эпопея. Колосс на глиняных ногах. Халтура такая же, как «Старик и море».
Артиллеристский офицер Лев Толстой начинал, впрочем, хорошо: с талантливых «Севастопольских рассказов». Но его романы — литературная халтура. То же, что я высказал о «Войне и мире», можно сказать об «Анне Карениной» и «Воскресении». Они собраны из конструктора литературных штампов. Бытует мнение, что «Анну Каренину» Толстой написал из чувства ненависти к жене Софье Андреевне. Возможно, что и так, но, говоря о книге, та мораль, те побудительные мотивации, исходя из которых действуют герои книги, эта мораль светских семейств XIX века нам далека, как условия жизни на Луне. Сегодня, когда иная веселая москвичка может за день побывать в постелях трех разных мужчин, проблемы мадам Карениной кажутся достойными улыбки. Это не значит, что нужно равняться на веселую москвичку. Это значит, что мораль общества изменилась. Что, почитать тогда Великих Писателей как памятник архитектуры и старые книги? За выслугу лет? За патину времени?
Я в свое время внимательно прочел «Смерть Ивана Ильича». Ничего, кроме скучного любопытства, не испытал. Дело в том, что героизация обычного человека никогда не может удаться. В нем нет ничего интересного, в обычном человеке. Он не достоин ни жалости, ни удивления. Потому и неудача.
Лев Толстой остался в памяти народной прежде всего как большой чудак. Пашущий барин, непротивленец злу насилием, писатель, которого церковь подвергла «анафеме», как густобородый, седобородый, обильнобородый старичок, возможно, не совсем в здравом уме. По-видимому, он перенял непротивление злу насилием у индийца Махатмы Ганди, но в национально-освободительной борьбе индийского народа против английских колонизаторов непротивление злу было единственным возможным оружием. Сегодня подобные методы называют гражданским неповиновением. В России того времени общество по-разному решало проблему борьбы с кромешным самодержавием: народовольцы решали бомбами, буржуазные либеральные партии пытались идти легальным путем. Непротивление злу многих раздражало, но так как русская интеллигенция всегда была охоча до изуверства, то так же как она шла в хлысты, она шла и в толстовцы. Граф проповедовал учить народ, даже написал несколько аляповатых книжек для народной библиотеки. Все это, как и почтовые открытки с фотографиями Льва Николаевича, босиком идущего за плугом,— все это укладывается в рамках «чудаковатый барин», в чудаковатовстве русские баре успешно соперничали с известными своей эксцентричностью англичанами. С английскими барами. Открытки-фотографии Толстого, кстати говоря, пользовались большой популярностью. Их продавали, как фото Элвиса Пресли. Я видел многие десятки этих коричневато-желтых раритетов с уважительными надписями, что-то вроде: «Граф Лев Николаевич Толстой в деревне такой-то за плугом», «Его сиятельство граф Лев Николаевич Толстой на террасе своего яснополянского имения за самоваром», или «Его сиятельство Лев Николаевич Толстой в своем яснополянском имении принимает почетного гостя, господина N, литератора». Рядом с Львом Николаевичем обычно, одетая в черные юбки и широкие шляпы, Софья Андреевна — конь с яйцами, по-видимому, попортившая ему немало крови. Именно от нее бежал восьмидесятилетний старец и заболел на станции в деревне Астапово, именно телеграмму о его смерти получила Софья Андреевна, а бесенята Ильф и Петров спародировали ее в известном «Графиня с изменившимся лицом бежит к пруду».
В юности Лев Толстой был гулякой. Тургенев вспоминает о периоде, когда Толстой останавливался у него на квартире, кажется в Москве, как Толстой приходил под утро, полупьяный, и грохался спать и спал до полудня. Известно также, что, как заправский феодальный сюзерен, еще лет до сорока Толстой имел привычку портить девок в деревнях, соседних яснополянскому имению. Утверждают, что до сих пор окрестные колхозники гордятся происхождением от графа Льва Николаевича и некоторые могут похвалиться соответствующими чертами — нос картошкой — бульбой, характерный обезьяний лоб, крупные уши.
Может показаться, что я недолюбливаю Льва Николаевича. Дело тут не в этом. Просто, на мой взгляд, творчество Толстого — банально, он не создал ничего удивительного. Одно эссе К.Леонтьева «Средний европеец как орудие всемирного разрушения» затмевает для меня все пухлые тома Толстого, полные воды. Что он сумел создать, и в этом он впереди своего времени — он создал свой «имидж». Профессионально, из чудачеств, из фотографий-открыток «Лев Толстой за плугом», «Лев Толстой за самоваром», из толстовства, из церковной анафемы: слепил так здорово, что любой современный пиаровец позавидует. Имидж работает до сих пор.
Толстой — писатель для хрестоматий, как Пушкин — поэт для календарей. Но он мало дает душе, от него не задыхаешься. Он не шампанский гений. А большинство собранных под этой обложкой священных монстров — шампанские гении. Толстой — плоский художник. Плоский и скучный, как русская равнина. Если бы не его персональные экстравагантности, вряд ли он был бы в этой обложке бок о бок со священными монстрами. Особенно спас его в моих глазах последний побег до Астапово. Возможно, его посетила «иллюминация», и он увидел пошлость, ровную пошлость своих книг? Мы этого не узнаем. Вообще умереть в бою, в пути, под забором почетно. Умереть в своей постели постыдно.
Так что ленивый мальчик прав. Читать хочется то, что интересно, что открыл, отщипнул — вкусно, оказывается, ну и читаешь дальше. А картинки сражений посредством слов, так лучше посмотреть исторический телефильм или панораму Бородинской битвы. Лучше какого-нибудь причмокивающего Эдварда Радзинского поглядеть. По таким ленивым мальчикам и нужно определять, живая или мертвая уже книга, талантливая или нет. Дайте мальчику и проверьте. (Маловероятно, чтоб он отложил бы мой «Дневник неудачника».) Ориентироваться надо на мальчиков.
Лев Николаевич правильный писатель. Правильный для государства и Отечества. Написал на безопасную тему — о событиях далекого прошлого, как Михалков, хитрый унаследованным умом предков, выживавших при любом режиме, делает свои фильмы о бесспорном прошлом. По всей вероятности, Толстой в его время страдал уже «синдромом Солженицына» — ему хотелось своей «Войной и миром» навязать его видение истории. Как Солженицын, он изготовил тяжелое «Красное колесо» своего времени: «Войну и мир». Возможно, в XIX веке это был крик моды. Сегодня это неповоротливое, тяжелое сооружение, даже в тюрьме жаль тратить на «это» время. Как мексиканский сериал.
Константин Леонтьев в свое время написал остроумную статью: «Два графа: Толстой и Вронский», в которой доказывал, что без большой литературы великая нация как-нибудь проживет, а вот без строителя, созидателя, служителя государства Вронского — нет, не проживет. Это правильно. Прожили бы мы и без Льва Толстого.
Однако к кому бы тогда ездили писатели? Было модным ездить к старцу в Ясную Поляну. О приезжавших писали газеты. Благодаря объемным своим произведениям Лев Николаевич стал литератором тяжелого веса, что-то вроде Царь-пушки и Царь-колокола. Вот ему и поклонялись. Ездили и генералы и сановники. Авось чего скажет. И он всем что-нибудь говорил.
Хэмингвэй: росла ли шерсть на груди?
Человек сделал себе огромную писательскую карьеру на том, что писал исключительно об эмигрантах. Самая худшая его книга — последняя: «Старик и море». Вымученная, неинтересная, псевдо глубокомысленная. По ее поводу он получил Нобелевскую премию.
Самая лучшая, начатая в конце 50-х и так не законченная, предпоследняя: «Портативный праздник» (в принятой в России транскрипции «Праздник, который всегда с тобой») — книга воспоминаний о Париже. Восхитительная, с многими вкусными деталями, как эмигрант, проживший в Париже без малого 14 лет, удостоверяю. Свидетельствую. Простая. Самые лучшие книги — простые.
Хэмингвэй приехал в Париж в 1921 году, родившийся в 1899, он таким образом имел на счету 22 года. До этого он успел попасть на 1-ю мировую войну, в самый ее конец, в качестве санитара. Служил в Италии. Всего несколько месяцев. В 1918-м был осыпан осколками. Раны были несерьезные, но тело оказалось все покрыто мелкими белыми шрамами. По-видимому, это отпугивало девушек, так как Хэмингвэй впоследствии жаловался на эти некрасивые шрамы. Вместе с большим Хэмом приехала в Париж его первая жена. У пары родился сын по кличке «Бэмби». В Париже тогда обитала (как, впрочем, и в 80-х годах, когда там жил я) многочисленная американская литературная колония. Большой сырой юноша, тогда он носил только усы, Хэмингвэй числился корреспондентом «Торонто стар», сам он был из Оак-Парк — или Дубовая роща, неподалеку от Чикаго. Можно сказать, что такое назначение в Париж было настоящей синекурой, а если учесть Атлантический океан, то это было покруче, чем получить назначение собкором «Комсомольской правды». Хэмингвэй крутился среди англоязычной писательской колонии и чувствовал, по-видимому, себя как рыба в воде. Он сумел понравиться тетке Гертруде Стайн и стал у нее частым гостем в ее квартире на 27, гае de Fleurus, там, где эта улица выходит к бульвару Распай. За углом помещается лучшая в мире (якобы) школа по изучению французского «Альянс Франсэз», а в самой квартире Стайнихи недолгое время в 1980 году помещалось издательство «Рамзэй», там-то я, развалясь в кресле, выцыганил у моих издателей Повера и Рамзэя еще 9 тысяч франков и, бросив взгляд на книгу фотографий Мэрилин Монро «Джентльмены предпочитают блондинок», сам придумал новое название для своей книги «Русский поэт предпочитает…».
Хэмингвэй ходил к Стайн, чтобы знакомиться с влиятельными литераторами. Тетка Гертруда познакомила-таки его с Шервудом Андерсоном, с уже знаменитым тогда молодым Скоттом Фитцджеральдом и его женой Зелдой. Знакомствами Хэмингвэй оброс, однако, видимо, у него был не очень уживчивый характер. Менее чем через год Хэмингвэй выпустил небольшой памфлет «Весенние потоки», где иронически отозвался о большинстве своих парижских знакомых литераторов, в том числе и об Андерсоне. Так что одной чертой своего характера — общительностью — он был приспособлен к жизни, другой же — злым языком — разрушал то, что приобрел общительностью. С Андерсоном он оставался в натянутых отношениях до конца дней своих.
В конце концов ему удалось дебютировать в литературе. Его романы «Прощай, оружие!», «По ком звонит колокол», «За рекой в тени деревьев» — это романы об эмигрантах, о людях, живущих не в своей собственной стране, впрочем, главный герой обычно все равно американец. Чтобы стать Великим Американским писателем, американский писатель должен покинуть Америку и уехать в Париж. Два писателя испробовали этот рецепт, и у обоих он удался: Хэмингвэй и Миллер. Можно добавить к ним третьего — поэта Томаса Стернза Элиота: американец, он уехал в Великобританию.
Очевидно, американская действительность лишена универсальности, герой же эмигрант придает литературному произведению универсальность. Романы Хэмингвэю не очень удаются. Его стиль точных мускулистых описаний для романа не подходит, в конце концов он надоедает. Все романы Хэмингвэя недоделаны, скомканы и смяты. Но зато он величайший мастер рассказа. В книге «Мужчины без женщин», это сборник рассказов, есть рассказ «Киллеры». Рассказ представляет собой практически непрерывный диалог. За диалогом просматривается сюжет. В придорожное кафе являются два гангстера-киллера, они ищут шведа Андерсена, чтобы его убрать, но в кафе только старик-хозяин и его помощник — подросток. Диалог точен, циничен, быстр и трагичен. Ничего лишнего. Я считаю рассказ «Киллеры» шедевром. (По нему сделан, кстати, отличный фильм.) Хэмингвэй, возможно, один из лучших стилистов в американской да и вообще мировой литературе. Он тщательно следит за собой. Он ввел в большую литературу диалог и поселил его там навечно. Он сделал диалог правдоподобным, немногословным, приближенным к жизни. Снабдил его всеми возможными интонациями. «Yes,— he said» до Хэмингвэя не имело легитимной прописки в литературе, после него имеет. Дело в том, что Хэмингвэй убрал из литературы — литературу. Во всяком случае, стремился убрать.
Он много пил, много ел, вот только не курил, боясь потерять обоняние, незаменимое, как он считал, для писателя. Ему бы показалось оскорбительным, если бы он увидел пингвиновское издание «Портативного праздника»: бюст писателя, блюдо с устрицами, куски французского хлеба «багета», бокал с белым вином, карандаши, блокнот и… сигарета в пепельнице рядом с синей пачкой «Житан». Обложка неплохая, но ляпсус налицо.
Он много раз женился, кажется, последняя его жена Мэри Хэмингвэй была шестой. Признавался, что по-настоящему любил только первую — Хэдли. От всех жен от считал своим долгом иметь детей, или это традиции того времени? Но он имел детей от всех.
Постарел он быстро, непонятно, от излишка ли это алкоголя, или просто гены были такие, раностарящееся тело предусмотрено было в генах? Есть его фотографии в шортах, где он на съемках какого-то фильма, экранизации, кажется, «По ком звонит колокол». Животастый, как гиппопотам, складки, дряхлые ноги, короче, «старик Хэм», а ведь на снимке ему едва пятьдесят лет.
В юности он занимался боксом. Даже кого-то научил боксировать с тенью. Ходил на боксерские (там держали пари) спарринги в Зимний цирк. (Впоследствии я жил недалеко от Зимнего цирка, и, кажется, в 1982 году Тьерри Мариньяк повел меня туда на 1-й чемпионат Европы по таиландскому боксу.) Я не думаю, что Хэмингвэй был способным боксером. Просто он был сырой верзила, такой по комплекции, как Довлатов, так что если он замахивался да еще знал два-три удара, то вот и боксер.
Побывал я и в том помещении, где помещалась американская библиотека (она же книжная лавка) «Шекспир энд компани», где тогда работала Сильвия Бич. Мой друг Леон с компаньоном купили магазинчик на рю Одеон (по-моему, я не ошибаюсь, в любом случае на улочке, идущей к Одеону) и стали продавать там издания «Дилетанта» и других тогда нонконформистских издательств. Я пришел поздравить с новосельем и узнал, что именно здесь и помещалась книжная лавка Сильвии Бич. Куда приходил Хэмингвэй.
В 1936 году Хэмингвэй был в Испании, где тогда шла война. Однако, вопреки легендам, был он там недолго и большую часть времени провел в мадридском отеле, вместе с другими журналистами интернациональных изданий. В 1944-м журналист Хэмингвэй, вопреки запрету командования, умудрился с небольшой коммандос упросить французского генерала Леклерка взять его в Париж с передовой колонной. По пути Хэм и его американцы чуть не отправились на тот свет, натолкнувшись на отряд особенно злых эсэсовцев. Все обошлось, эсэсовцы все равно отступали по приказу своего командования. Хэмингвэй же оккупировал, примчавшись на пляс Вандом, отель «Риц», где и засел в баре. Потому слухи о военных доблестях Хэмингвэя сильно преувеличены. (Тут, признаюсь, меня подталкивает к разоблачению и моя личная воинская ревность. Я как-никак побывал на пяти войнах плюс на месте конфликта в Таджикистане.)
Раз уж дошло до разоблачений. Из той же отличной книги «Портативный праздник» возникает впечатление, что Хэмингвэй был ужасно беден. И это впечатление противоречит воспоминаниям самого Хэма: он не только постоянно ходил в кафе, он еще и работал в кафе. Мог позволить себе отпуск в горах. А дело в том, что сам он был из состоятельной докторской семьи, получал приличные деньги от своей газеты «Торонто стар», и очень приличные. Ведь ему удавалось порой интервьюировать таких звезд, как сам французский премьер Клемансо. Но основные поступления семьи шли от родителей Хэдли, она была из очень состоятельной семьи, и родители пересылали дочери и внуку Бэмби кругленькие суммы. Так что мифология должна быть разрушена. Хэмингвэй жил в Париже как плейбой какой-нибудь. Это не умаляет его литературных заслуг, однако в сравнении с ним я просто вел нищенскую жизнь в Париже, особенно первые лет пять.
Хэм много путешествовал. На корриды в Испанию, в зеленые холмы Африки. Его книги, не в пример книгам Миллера, вполне приличные, особенно романы, не несли в себе нигилистического анархизма, потому никаких препятствий в их публикации у Хэма не было. С 1929 года, со времени публикации «Прощай, оружие!» (кстати, названия для своих книг он всегда умел выбирать отличные), он имел и все увеличивающуюся славу, и деньги. Так что путешествовать было на что. В поисках тепла и хорошего рома он поселился на Кубе, еще во времена Батисты. Кстати, сержант Батиста вначале был неплохим правителем для Кубы, у него были в 40-е годы даже прогрессивные устремления. Лишь позднее он позволил американским гангстерам прибрать остров к рукам. И они охотно разместили на Кубе два своих традиционных бизнеса: проституцию и игорные дома. Так что, когда Кастро (с помощью американки, своей любовницы. Она дала ему денег на покупку шхуны «Гранма» и оружия) высадился на Кубе, американское правительство смотрело на эту авантюру неоднозначно. Им хотелось развалить криминальный рай, созданный их соотечественниками на Кубе. А Кастро тогда еще не высказывал тех марксистских, а главное, советских симпатий, которые он высказал впоследствии (вынужденно). В 1960 году Хэм все же убрался с Кубы, от греха подальше. С игорными домами и проституцией у него не было на Кубе проблем. Но с «барбудос» (бородачами) могли появиться. Хэм обосновался в Кэтчупе, штат Айдахо. Там его стали осаждать папарацци и паломники, поклонники его творчества. В 1961 году Эрнест Хэмингвэй покончил с собой, засунув дуло двуствольного ружья в рот и нажав на крючок большим пальцем ноги. Мозги Хэмингвэя прилипли к обоям вместе с частями черепной кости и скальпа. Отец Хэмингвэя также покончил с собой. Его внучка, Марго, известная модель и актриса (я видел ее в фильме конца 70-х — «Мистик», где играет и ее младшая сестра), также покончила с собой в день смерти деда, кажется, в 1995-м, также застрелившись. Доктора говорят, что Хэм был очень испит, болен, истощен нервно и предпочел уйти из жизни. Правда, способ был выбран варварский, изуверский.
Период расцвета так называемой критической биографии (с 70-х годов, я полагаю) не оставил ни одного неоскверненного трупа. Выдающиеся критические биографы копались в могилах и в полном смысле в грязном белье великих людей. (Так, были опубликованы показания горничной отеля, где Уальд и его граф Дуглас (Бози) предавались греховной любви, пятна дерьма на простыни сделались достоянием читателей всего мира.) Не пощадили и Хэма. Обвинили его в том, что он будто бы был никудышным мужчиной, потому так часто менял жен. Еще при жизни один писатель-наглец обвинил Хэма в немужественности, в том, что у Хэма «волосы на груди не растут». К сожалению, я сейчас не помню, кто это был (кажется, Гор Видал, но вряд ли, он был слишком молод, лет на 20 моложе Хэма). Дело чуть не дошло до драки.
Мифологизация священных монстров совершается по своим законам. Сохраняются самые яркие шокирующие эпизоды или даже слухи. Отбрасываются мелочи и детали, мотивировки поступков. Участвовать в гражданской войне в Испании можно было и фланируя по мадридским улицам от отеля до, как сейчас говорят, «брифингов» в Министерстве информации. Мне был известен немец-тележурналист, получивший международную премию за репортажи из Боснии. На самом деле означенный немец не вылезал из белградского отеля и был постоянно пьян. На репортажи посылал серба-стрингера, и тот за несколько сотенных долларовых бумажек регулярно подставлял свою шкуру. Но это уже не о Хэмингвэе, прошу прощения.
Хэм породил множество подражателей. Портреты Хэма в свитере крупной вязки, бородатого, с трубкой и седым ворсом, украшали стены комнат советских интеллектуалов. Были у него и серийные копии. Одного из них, француза Ромена Гари, европейского Хэмингвэя, я вывел под именем Давида в рассказе «Замок». «Я участвовал в трех войнах, написал 21 книгу, был женат шесть раз»,— говорит Давид в моем рассказе. Европейский Хэмингвэй и в самом деле застрелился из маузера в декабре 1980 года, и его некролог в «Le Mâtine» соседствовал со статьей о моей первой книге.
Зигмунд Фрейд: доктор Фройд
Начал свою карьеру этот монстр с того, что лечил шизофрению операцией… в носу. Якобы удаление некоей перепонки в носу должно было излечивать пациента. Доктор Зигмунд Фрейд был экстремистом и в юности. Экстремистом он остался до конца дней его.
Помимо трех томов Хлебникова, я в возрасте 21 года переписал еще и большую часть «Введения в психоанализ», настолько поразительной показалась мне тогда эта книга. Мне дал старый пухлый засаленный том, обернутый в хрустящую кальку, Толик Мелихов, директор магазина «Военной книги» в Харькове. За прошедшие с тех пор почти сорок лет ко мне прибывали различные сведения о старом венском докторе. Мое установившееся еще в 21 год мнение о Фрейде не менялось с тех пор. Этот священный монстр оказался поразительным водоразделом между старым и новым мирами.
Он перечеркнул все прошлые знания о человеке.
«Человек не добренькое существо, озабоченное благом ближнего, о нет!— писал венский доктор.— Он озабочен как раз обратным: поживиться за счет ближнего, отобрать у него плоды его труда, использовать его как сексуальный объект, обратить его в рабство и даже убить его».
(Точнее эта цитата приведена у меня в книге «Убийство часового».)
Конечно, психоанализ неточная наука. Однако какой удивительный прорыв совершил Фрейд! (Марья Николавна Изергина, чудесная женщина, жившая в поселке Коктебель, в Крыму, учила меня говорить «Фройд», будто бы именно так правильно.) Он не открыл наличие либидо, конечно, но он его сформулировал. Так же как сформулировал подсознание. Подсознание, конечно, всегда существовало, как земные океаны. Фройд его только сформулировал, назвал, выделил в особый мир. Далее, он назвал ряд однотипных реакций либидо человека на однотипные ситуации (Эдипов комплекс, например). Короче говоря, Фройд навел порядок в доселе беспорядочном мире сексуальных влечений, хотя бы в нем. Он высказал также ряд догадок о связи либидо индивидуума и его снов. На все, что он определил, он наклеил этикетки.
Опять-таки повторю то, что уже говорил в «Убийстве часового». Чингисхан в своей «Великой Ясе», за семьсот лет до Фройда, сказал:
«Высшее наслаждение для человека — победить врага, отобрать у него его богатства, седлать его лошадей, сжимать в объятиях его жен и дочерей».
Фройд повторил о человеке то, что знал уже Чингисхан. И наверняка до него, до Чингиса, уже знали. Но потом не повторяли, забыли истинные побуждения, причины, воздвигли гуманизм: для самообмана. У Фройда нет гуманизма. Нет никаких сомнений в том, на какой он стороне баррикады. Еще в юности, в частном письме другу, он назвал себя конкистадором, завоевателем. После Фройда поучительно прочитать какого-нибудь зеленого Тургенева, его асексуальную Асю, которой никто не решился задрать юбки, ведь именно этого она хотела, выпендриваясь. Тургенев считался еще смелым писателем: его «Отцы и дети» вызвали такое колебание воздуха в русском обществе! А между тем роман, якобы нигилистический и крутой, населен просто евнухами какими-то. Базаров, хваленый нигилист с железными челюстями, так и не удосужился, извините, вы…ть жеманную даму Одинцову. И жалко, сопливо умер, заразившись трупным ядом.
До Фройда большая часть человеческого опыта была спрятана с глаз долой, секс не признавался, изгонялся, вымучивался. Ну, есть скабрезные произведения и XVII века, но это или скабрезный лубок, или пошлая порнография. Респектабельный герр Фройд в воротничках взял либидо под руку и провел его в приличные салоны. Вот что он сделал. (В салонах в глубине шкафа за другими книгами уже лежал Сад, но его боялись давать в любые руки. Он проник контрабандой.)
Это представление либидо в приличное общество создало возможности. Литература, созданная земельной аристократией Европы и России в XVIII–XIX веках, сразу пожухла, поблекла и лежала теперь жалко, в ней преобладали светские условности. Такая литература представлялась теперь недостаточной.
То, что сделал Фройд — это был переворот в понимании человека. Это была революция. Не мгновенная, но революция в конце концов. Старый мир сломали.
Я до сих пор не могу согласиться до конца со странным доктором из Вены. Когда речь идет о том, что раннее детство детерминирует всю жизнь человека. Якобы неврозы есть следствие детского травматизма. Исходя из опыта, знаю, что как бы рано ты ни взял себе женщину, даже и в 16 лет, она достается тебе уже готовой, сформированной чем-то и кем-то, и все попытки переделать ее обычно не удаются. Большее, что можно сделать, это научить женщину держать столовый прибор иначе. Однако мой грустный фатализм не идет так далеко, чтобы верить в то, что испуганная в чреве матери девчонка навеки будет испуганной.
Вообще старые доктора XIX века с моноклем, с воротничками из чего-то твердого (целлулоид, что там, пластины китового уса?), с эспаньолками, в сюртуках и во фраках крайне действуют на мое воображение. Такой мог бы меня уговорить на любую операцию. Жаль, что таких докторов уже нет. Нынешние доктора какие-то неказистые. Слишком обыкновенные, у них нет дистанции с пациентом, они над ним не возвышаются. Какое может быть доверие к человеку в мятых брюках мешками? Никакого.
Фройд дожил до самого конца 30-х годов. Вынужден был искать убежища в Англии. Его ученики и соратники апостолами разъехались по всему миру. Особенно большое количество фрейдистов во время 2-й мировой войны нашли убежище в Соединенных Штатах. Они завоевали Соединенные Штаты, и сегодня эта страна может похвалиться как самым большим числом практикующих психоаналитиков, так и наибольшим количеством психоанализируемых ими клиентов. Часть своего времени американцы проводят на диванах, где лежа рассказывают своему «пси» или «аналитику» о своих проблемах. Ну, понятно, нередки и связи между докторами и пациентами.
Фройд, конечно, на всю эту вульгаризацию не рассчитывал. Он завоевал, как и подобает конкистадору, темную (вот уж воистину — виртуальную) страну подсознания, а что там за привратники вводят и выводят больных туда и оттуда, это уже была не его забота. Вокруг него, как и вокруг любого гиганта, сформировался свой двор, я уже упомянул, что в его свите неизбежно оказалась и Лу Саломе, женщина, которую любил Ницше, а потом Рильке. А такие дамы не ошибаются относительно величины мужчин.
Часть его выкладок, возможно, неверны. Ну и что с того? На самом деле он проделал крайне важную для человечества работу: дал названия некоторым инстинктам и желаниям, некоторым движениям и отвращениям, организовал сексуальный мир. С этим миром нужно ведь было что-то делать. Ведь если поколения естествоиспытателей — Бюффон, Линней, Дарвин и иже — в поте лица своего классифицировали животный и растительный миры, то внутренний мир человека был до Фройда неопознанным и неназванным. Был terra incognito. После работ доктора Фройда он стал называться океан Подсознания. Фройд заставил человечество осознавать свою звериность, свою чувственную отрицательность. Он был хорошим взрывом добропорядочной голубоглазости XIX века и «буревестником» века XX — века железа и крови.
Эдгар По: поэт и девочка
Загадочная личность. Чем-то похож на Гитлера на дагерротипе, который сохранился. Absolute beginner, то есть человек, до которого никто так не писал. Странная биография, странная жизнь с 14-летней любовницей и ее матерью. Странная смерть: найден на улице города Ричмонд в бессознательном состоянии. Якобы выпил до этого стакан вина.
Оставил после себя только шедевры. Стихи: достаточно упомянуть мрачного «Ворона» и «Аннабел Ли». Холодные трагичные шедевры.
Шелковый тревожный шорох
В пурпурных портьерах — шторах…
Девочку его звали Вирджиния, и она действительно умерла, как Аннабел Ли. Он был безутешен. И еще он оставил после себя рассказы. Шедевры: «Колодец и маятник», «Падение дома Эшеров», «Убийство на улице Морг» и многие десятки других. Как absolute beginner он основоположник и современного детектива, и жанра thriller'a, и современной научной фантастики. Его стиль сухой, холодный, нарочито отстраненный, документальный, исторический, фактический. Это из Эдгара По выросли Конан Дойл и Стивенсон, один унаследовал научную холодность стиля Эдгара По, создал «интеллектуальный детектив», другой — его приключенческую историчность. Возможно, ни Конан Дойл, ни Стивенсон никогда не востребовали свою причастность к Эдгару По, но те, кто читал всех трех авторов, могут, пораздумав, согласиться, что в моем утверждении нет преувеличения.
Есть еще один писатель, который явно и точно в долгу перед Эдгаром По. Это аргентинец Хорхе Борхес. Причудливый стиль его казался дико оригинальным и мне тоже, пока я, поразмыслив, не «узнал» стиль Борхеса: это стиль Эдгара По, примененный на сто лет позже. Такой «ретро» стиль сообщил яркую оригинальность и даже загадочность творениям Борхеса, так как он писатель середины и второй половины XX века. У Борхеса есть и прямые реминисценции с «Колодцем и маятником» и иными шедеврами По. Еще один писатель работал в стиле По, это итальянец Италло Кальвино. Однако он предстоит мне слишком манерным и маньеристским. «Ретро»-стиль ради стиля.
Я плохо знаю биографию Эдгара По. Да и в биографии этой, знаю я, есть множество белых пятен. Кажется, По пришел из журнализма. Однако его естествоиспытательский прямой стиль невозможно объяснить только репортерским ремеслом. Как бессознательные червяки и запятые Ван Гога, черный бархат стиля Эдгара По — печать гения. Четкий Бодлер, внимательно следивший за англоязычной литературой, выбрал только Эдгара По (и гашишина де Квинси) и успешно пропагандировал его, был от него без ума. Я — тоже, у Эдгара По бесстрастный голос Левитана.
Помню, еще мальчиком меня заинтересовала связь «безумного Эдгара» с мелкой девушкой Вирджинией. В этой связи, я уловил, есть объяснение загадки Эдгара По. На самом деле общаться и жить с ребенком могут только особые души. Ну ясно, педофилы покупают любовь за деньги. Тут речь не об этом, тут речь о печати на челе, о сродстве душ, о рае земном в объятиях девчонки. Известно, что Чарли Чаплин в 54 года женился на Уне 17-ти лет. Впоследствии они имели, кажется, восьмерых детей и счастливо прожили до самой смерти Чаплина в 91, кажется, год.
История Эдгара По иная. Как я уже упомянул — еще мальчиком меня волновала жизнь проклятого поэта в маленьком домике с девчонкой и почему-то матерью этого ангела. Я смутно размышлял, как они там жили и устраивались. Матери 14-летней возлюбленной могло быть от 32 до 40 лет. Скорее всего, мать неистово верила в яркий гений По и отдала ему дочь. В 1982 году я написал довольно плаксивый роман «Последние дни Супермена», где протагонист — 45-летний мужчина, больной раком, волею обстоятельств живет с 15-летней «панкеткой», английской девчонкой. Роман меня не удовлетворил, потому провалялся у меня в бумагах 13 лет, до тех пор, пока нужда не заставила меня вспомнить о нем. В середине 90-х годов его приобрело у меня и опубликовало издательство «ИМА-пресс». А через несколько лет в партию пришла вступать особая, святая девочка, ей едва исполнилось 16 лет. Так у меня появилась моя Вирджиния. Я верю, что слова имеют убойную силу. Что мысль изреченная и записанная неизбежно будет принята к сведению Высшими силами. Теми, что засасывают вселенные в черные дыры и заставляют астероиды со свистом миновать Землю. Я высказал пожелание о подружке, и вот оно было услышано. «В королевстве у края земли».
Благодаря стараниям графа Якова Шутова, члена НБП, пишущего в «Лимонке» под псевдонимом Робин Бэд, мне удалось внести ясность в биографию По. Родился он в 1809 году в городе Бостоне. Отец был юрист, ставший актером. Пил. Мать, потомственная актриса, туберкулезная. В 1811 году Эдгар осиротел и был взят на воспитание негоциантом Алленом, богатейшим во всем штате Вирджиния. Так как был похож на ангелочка. Был окружен гувернерами и негритянскими слугами. Возможно и вероятнее всего, был приобщен к обрядам «вуду». Слушал рассказы друзей отчима — моряков. Был отправлен учиться в Англию, по возвращении поступил учиться в Ричмондский университет. Изгнан из приемного дома из-за симпатий со стороны жены хозяина в 17 лет. Издал первый сборник стихов. Завербовался в армию, за год дослужился до старшего сержанта (ангелочек?!). Тем временем оказывается, что жена Аллена без него не может и уговаривает негоцианта дать отступного за Эдгара, что и происходит. Когда он возвращается, она уже умерла от туберкулеза. В 1829 году По издает второй сборник стихов. Опять уходит в армию, поступает в военную школу Вест-Пойнт, но практически дезертирует в 1831 году. Издает третий сборник стихов. Умирает Аллен. По остается без средств. Идет в репортеры: он театральный критик и занимается уголовной хроникой. В 1833 году первый успех: получает 100 долларов за рассказ. В 1840 году выходят два тома его новелл, женат на двоюродной сестре Вирджинии, девочке 14-ти лет, и она больна туберкулезом. В 1845 году издает еще один сборник стихов. В 1847 году умирает Вирджиния. Дико пьет, даже по американским меркам, несколько рюмок виски, бренди в день для пуританина, а уж для литбогемы… Употребляет еще и опиум. Стихотворения: «Ворон», «Колокола», «Аннабел Ли», «Улялюм», «Эльдорадо», «Моей матери». Проза: «Падение дома Эшеров», «Золотой жук», «Убийство на улице Морг», «Бочонок Амонтильядо», «Низвержение в Мальстрем», «Маска Красной смерти», «Король Чума» — все шедевры. Писал много статей на общие темы, философский трактат «Эврика». Выступал с лекциями. Под конец жизни был очень популярен. Посещал Нью-Йорк, Балтимор. Умер 7 октября 1849 года в Ричмонде от кровоизлияния в мозг, найден на скамье городского парка. Ненавидел торгашеский Север. Любил аристократический Юг.
Главнейшие высказывания: «Посрамим торгашей, создав в Америке царство разума», «Смерть прекрасной женщины — самый поэтический в мире сюжет» и (последний крик замуровываемого в рассказе «Бочонок Амонтильядо»): «Ради всего святого, Монтрезор!»
P.S. Автор сожалеет, что при композиции текста об Эдгаре По он мог воспользоваться в основном своими собственными смутными воспоминаниями. По сему он, возможно, допустил ряд фактических ошибок. Однако, сколько бы ни были серьезны мои провалы в памяти, я не допустил ошибок в структуре мифа Эдгара По. А именно его миф и мифы других Священных монстров человечества являются предметом этой книги.
Фоменко/Носовский: великая ревизия истории
Эти люди не только еще живы, но и доступны, хотя мне не удалось встретиться с профессором Московского университета Фоменко по моей собственной вине. Фоменко/Носовский включены мною в компанию священных монстров, поскольку я твердо верю, что их «Новая хронология Руси» будет неукоснительно завоевывать все большее количество сторонников. И в конце концов разумная русская власть закажет этим ученым учебники и будет преподавать новую Русскую Историю в вузах. (Что касается «Новой хронологии Англии и Рима», то эта часть трудов Фоменко/Носовского представляется мне менее убедительной.)
То, что создали Фоменко/Носовский,— это более чем гипотеза. Они справедливо утверждают, что на самом деле достоверная история Руси да и всего мира гораздо короче. Что примерно с 1000 года до 1300 года от Р.X. исторические события дошли до нас в виде смутных мифов. Только с 1300-х годов сохранились самые древние письменные памятники. Достоверной история становится с XV–XVI веков всего-навсего. Что, второе, сохранилась в подлиннике только копия Радзивилловской летописи, содержащей в себе отрывки из ранних русских летописей, увиденной Петром I в 1708 году в Кенигсберге, с которой ему сделали копию. Другие летописи — Лаврентьевская и прочие — все в подлинниках не сохранились. Радзивилловская летопись сделана на бумаге с филигранью XVII века. Отдельные листы в ней отсутствуют и одновременно есть лишние. Нумерация страниц исправлена. Подменены те страницы, где описывается как раз «норманнская теория» призвания варягов на Русь. Третье. Российскую историю записали немцы, в частности, противник Ломоносова профессор Миллер. Он же и напечатал в своей редакции 1-й том первого русского историка Татищева. Рукопись Татищева сильно отличалась от опубликованной Миллером. Татищев писал на основании старых рукописей, которые он несколько лет собирал и копировал в Сибири,— он привез несколько подвод из Сибири, все книги пропали. Фоменко/Носовский утверждают, что по специальному заказу Романовых русская история была фальсифицирована.
Для чего это было сделано? И о каких именно фальсификациях идет речь? Для того чтобы сообщать легитимность и преемственность передачи власти от Ивана Грозного к Романовым. Михаил Романов был сыном Романа Захарьина-Юрьева, сына Ивана от первой его жены — Захарьиной. Для этой цели Романовы приказали искусственно удлинить правление Ивана Грозного до 1587 года, объединив в это якобы правление царствование четырех царей (включая самого Ивана). Фоменко/Носовский блистательно доказывают в «Хронологии», как были замазаны стыки этих четырех царствований, таким образом биография Грозного и приобрела тот шизофренический характер, который она имеет в учебниках. Начав как «либерал» и «прогрессист», царь последовательно становится психопатом, вербует опричников, потом громит Новгород, совершает казни, назначает вместо себя Симеона Бекбулатовича царем. Все эти контрадикции прекрасно объясняются сразу четырьмя характерами, объединенными под личиной одного человека.
Основное и самое интересное для меня открытие Фоменко/Носовского — их утверждение, что татарского ига не было. Что существовала империя Восточной Руси и ее постоянное войско — Орда, и существовали гражданские правители — князья, что время от времени тот или иной князь отказывался платить войску дань, и тогда Орда снаряжала на земли этого князя карательную экспедицию. Что татаро-монгольское вторжение на самом деле было карательной войной русского постоянного войска — Орды, базировавшегося на востоке Руси, против княжеств Западной Руси. Что на месте отсталых монгольских кочевий в месте, называемом родиной Чингисхана, были и в XII и в XIII веках отсталые и немноголюдные монгольские кочевья. Что греческим словом «монголион», что значит «великий», на старинных картах обозначали пространства Восточной Руси, где во главе со своим военным вождем (императором) располагались постоянные русские войска (Орда). И только позднее, как и многие другие географические названия, Сибирь, например (сравните с расположением города Симбирска), монголион отъехал на Восток. Оказалось, что не сохранилось ни одного документа, выпущенного Ордой на монгольском языке. Что все грамоты и ярлыки якобы монгольских ханов написаны на старорусском с вкраплениями неизвестных слов. Фоменко/Носовский на основании множества фактов приходят к выводу, что Русь была славянско-тюркской державой. От этих только фактов дух захватывает. А Фоменко/Носовский уверенно продолжают: потому на месте Куликовской битвы не было обнаружено остатков копий, стрел или скелетов и черепов,— сообщают они,— что битва произошла не в Тульской области, на том поле, которое принято считать Куликовым, а в центре Москвы, на Куличках. Именно в Москве похоронены Пересвет и Ослябя — герои Куликовской битвы, именно там есть огромное количество черепов и скелетов погибших воинов, собранных в Донском и Симеоновом монастырях. Именно вождь Куликовской битвы Дмитрий Донской в 1382 году, через два года после Куликовской битвы, возводит в Москве каменные стены, церкви и укрепления. В Москве имеются Кулички, или Куличково поле. Правильно, говорят Фоменко/Носовский, битва состоялась чуть ли не вблизи Красной площади, скорее всего, там на Красном холме стоял шатер Мамая. Москвы тогда еще не было. Девичий монастырь, упомянутый в сказании о поле Куликовом, на самом деле Ново-Девичий, Непрядва это Неглинная, а Доном тогда называли любую реку. Дмитрий Донской победил Мамая и на этом же месте выстроил Москву, сразу каменную, а то, что она была якобы основана в 1147 году, это все московское тщеславие. Уф! Это еще не все! Фоменко/Носовский приводят в своей книге репродукцию старинной иконы, изображающей Куликовскую битву. На ней оба войска выступают под знаменами с хоругвью — белый круг и в нем голова Христа! Монголы под хоругвью!? Да, утверждают Фоменко/Носовский, то, что вождь «монголо-татар» носил имя Мамая, не должно нас смущать. В те времена русские имели прозвища. Мамай — это производное от «мамки», «Батый» — от «батьки», ведь зовут же до сих пор казаки своих атаманов «батько». Да и похоже, что казаки — это остатки самых настоящих войск постоянного русского средневекового войска — Орды!
Как у японцев в некий период их истории могучий военный вождь сёгун стал выше императора, так Орда с ее ханом-императором повелевала гражданскими князьями. Потому и требовался ярлык на княжение. Как церковь, Орда требовала себе 10% от мужчин (брали мальчиков и подростков) для пополнения войска. В Орде ведь не было женщин.
А где располагалась Орда?— спрашивают Фоменко/Носовский. И сами отвечают на вопрос: Орда располагалась никак не в Монголии. Анализируя путешествия Гильома Рубруха, Плано Корпини и Марко Поло, они определяют, что Монголия находилась сразу же за… Польшей. Странная Монголия. Анализ путешествий западных посланников, проделанный Фоменко/Носовским, приводит их к выводу, что столица ханов «монголиона» г.Каракорум, остатки которого безуспешно ищут уже много веков и в далекой пустыни Гоби и в Китае, на самом деле располагалась чуть ли не в низовьях Дона, где до сих пор существует станица Старокаракорумская.
Начали Фоменко/Носовский с того, что, следуя по следам ученого, узника Шлиссельбургской крепости, Морозова, сравнили лунные и солнечные затмения, упомянутые в старых русских летописях, с реальными астрономическими и с датами. И с остолбенением обнаружили, что большая часть этих затмений не могла быть видна на территории России, но могла быть видна… только в Египте или в Византии. У них возникло множество вопросов и подозрений. Я уже упомянул о Радзивилловской летописи, увиденной Петром I в Кенигсберге, и анализе, которому подвергли летопись, копию, сделанную для Петра, о нестыковке листов, о переделанной нумерации страниц. Так вот, вместе с эпизодами норманнской теории призвания варягов на Русь, летопись удлинена еще и на эпизоды, очень напоминающие раннюю историю Византии.
Путем сравнения дат правления, основных событий царствований русской и византийской истории Фоменко/Носовский неопровержимо доказывают (скептики? Ну они согласятся с тем, что зарождается глубокое сомнение в официальной версии истории), что византийскую историю наложили на русскую. Зачем? Возможно, когда это касается Радзивилловской летописи, то из романовского тщеславия…
Уф! Еще раз. Самозванец был не самозванцем, а легитимным царем ордынской династии. Лжедмитрий I не был убит и сожжен (обычай неслыханный на Руси!), но спасся и продолжил свою историческую жизнь как Лжедмитрий II, недаром его признали и Марина Мнишек, и его мать Мария Нагая. Годунов был легитимным царем, а не был из каких-то там бояр. Это только немногие из поразительных исторических выводов, к которым пришли ученые Фоменко и Носовский.
Основной их вывод: история была всегда, разумеется, были и события. Но за далью ближнего к нам второго тысячелетия, за границей 1000 года нашей эры, только исторический туман. Там есть, конечно, события, но мы их не знаем. Официальная версия Скаллегера и историков его времени безосновательно растянула мировую историю, заполнив длинноты повторениями и отражениями в прошлое хронологически близких к нам исторических событий.
Еще один удар по устоявшейся версии истории выглядит крайне правдоподобно, хотя и стоит уже, собственно, за рамками истории Руси. В прошлом году я обратил внимание на сообщение израильских агентств новостей, на сенсационное сообщение, от общей небрежности прошедшее незамеченным. Коллектив израильских археологов, занимавшийся сорок лет (!) раскопками в Синайской пустыне и в святых для евреев местах, признался, что не удалось, тотально не удалось найти никаких археологических свидетельств пребывания в этих местах городов Иерихона, или Содома и Гоморры, или вообще каких-либо исторических артефактов. То есть не было древней еврейской истории, Ветхий Завет лжет, никуда не вел Моисей, так получается.
Но задолго до этого сообщения Фоменко/Носовский уже писали в первых изданиях «Хронологии»: в Палестине не было никогда древних городов. Иерусалима не было там. Иерусалимом называли Константинополь, вот что говорят гениально Фоменко и Носовский. Тогда понятным становится путаница со взятием Константинополя войсками крестоносцев в 1204 году. Якобы они попали не туда, жадность, дескать, привела их не на освобождение Иерусалима от неверных, а на разграбление Константинополя. Нужно очень недооценивать фанатизм освободителей Гроба Господня, чтобы обвинить их в такой степени жадности, заставившей их сделать крюк в несколько тысяч километров к северу. Иерусалим и был Константинополь.
Но это еще не все. Фоменко/Носовский замахнулись и на Христа. Согласно исследованиям Фоменко и Носовского, Христос на тысячу лет моложе. Он родился и был распят где-то между 970 и 1010 годами «от Рождества Христова». Действо это произошло в городе Константинополе (он же Иерусалим старых летописей). Там на горе в Стамбуле до сих пор есть место, называемое гробница Юши или Исы. Иса или Юша пророк — и есть Иисус. Другого не было. Возможно, в дело были вовлечены и римляне, но только не Западной, но Восточной империи. Фоменко/Носовский дают по этому поводу отличные объяснения. (Среди прочих и то, что никаких городов в Палестине не существовало.) Вскоре после истинной исторической смерти Иисуса-Юши-Христа и начались крестовые походы европейских рыцарей, имевшие целью освобождение гроба Господня. Предположить, что европейские христиане дожидались более тысячи лет, чтобы вдруг, взбесившись, пойти наконец освобождать тысячу лет назад созданную реликвию, глупо. Только свежие гробы вызывают такие страсти.
Уф! Древний Новгород, считают Фоменко/Носовский, тот Новгород, который разгромил Иван Грозный (один из царей, выведенных под этим именем), не мог этот Новгород быть тем городом — современным Новгородом, стоящим на реке Волхов. Новгородом — старой столицей Руси — был Ярославль. Именно там были снесены крепостные стены (видны их следы), именно туда могла добраться карательная экспедиция из Москвы за время, упоминаемое в летописях, именно там есть так называемое Ярославово городище.
Разумеется, чтобы сменить мировую хронологию, повернуть резко руль корабля Истории, необходима как минимум Мировая Революция, и смена хронологии тогда возможна в приказном порядке. До этого новой хронологии предстоит быть яркой, ошеломляющей новой верой, в которую хорошо бы обращались ежегодно тысячи особо верующих. Тех, кто формирует мнения. Я верю в то, что история короче. Я верю в то, что Христос младше на тысячу лет. Я верю даже в то, что Рим по своему стратегическому положению (вдали от моря, еле судоходный Тибр) не мог быть Вечным городом. Когда я жил в Риме зимой 1974/75 года, я обратил внимание на то, что античные храмы и постройки и старый Колизей выглядят подозрительно молодыми. Прогуливаясь по Риму, я не мог отделаться от этой мысли.
Гийом Аполлинер: несчастный в любви
Тадеуш Костровицкий, поляк, ставший французским поэтом Аполлинером, вывел свой псевдоним из имени своей матери Аполлинарии Костровицкой. Она была замужем за итальянцем. Еще в 1966, если не ошибаюсь, году, в Харькове подруга дней моих суровых Анна Рубинштейн принесла из магазина «Академкнига», где работала, томик стихов Аполлинера. В переводах Артема (?) Сергеева. Впоследствии, уже в Нью-Йорке, Бродский сообщил мне, что Сергеев — почитатель моего таланта как поэтического, так и прозаического. «Какой Сергеев?» — спросил я и услышал в ответ: «Тот, что перевел Аполлинера». В переводах Сергеева (потом во Франции я проверил по подлиннику то, что помнил, и даже подстрочный гул, настроение, оказались верны) Аполлинер был великолепен. Уже четвертое десятилетие я с вдохновением повторяю:
Кривоногий крестьянин и усталый вол
Медленно бредут сквозь туман осенний
Мимо притаившихся убогих сел.
О крестьянской любви, об измене,
О тех, кто полюбил, а после разлюбил,
Напевает песню крестьянин кривоногий.
О, туман осенний, ты лето погубил,
Два мокрых силуэта бредут по дороге…
Шаталась по улицам Кельна,
Всем доступна и все же мила,
В кабак низкопробный окольно
Дорогой окольной брела,
Голодала, падала с ног,
Сутенеру все отдавая,
Был он рыжий и ел чеснок,
Уезжая с Формозы в Шанхай,
Он ее из борделя извлек…
Много разных людей я знаю,
Не распутать судьбы их нить,
Влага подлая, даль сырая,
Но сердца могут пламя хранить
И душа трепетать, пылая…
На дворе постоялом живешь ты близ Праги,
На столе твоем розы, в душе твоей праздник.
Ты сидишь за столом, сочиняя какую-то прозу,
А потом забываешь о ней, заглядевшись на розу.
Аполлинер для XX века французской поэзии крупномасштабный гений. В нем есть все. И авангардистская драма «Груди Терезия», предвосхитившая сюрреализм (Аполлинер вообще подвел Францию к сюрреализму). И стихи «Алкоголей», простые, немудрящие, как приведенное выше стихотворение о кривоногом крестьянине. И порнографическая повесть о приключениях румынского Луки Мудищева, князя Вибеску,— «Тысяча палок».
Стихи его, привольные, разговорные, льющиеся без усилий, соблазнили меня в 1966 году своим талантом. В моем сборнике стихов «Русское», вышедшем в издательстве «Ардис» в 1979 году (Анн-Арбор, штат Мичиган), если приглядеться, может быть, можно обнаружить влияние того томика Аполлинера в переводах Сергеева. Недаром Сергееву впоследствии понравились мои стихи. Здесь речь идет, конечно, не о подражании и даже не о подстрочном гуле, но об открытии объектов поэзии — так, кривоногий крестьянин может быть объектом поэзии или красная перина еврейских эмигрантов.
«Вот семья, неразлучная с красной периной,
Ее, словно душу свою, они чтут».
По всей вероятности, ему не везло с женщинами. В юности он был влюблен в гувернантку Анну. Когда работал домашним учителем у богатого барина-провинциала. Девушка не отвечала ему взаимностью. Позднее он грустно пишет от ее имени:
…что жил один поэт. В меня влюблен он был
И только я одна, старуха, вспоминаю,
Как был он некрасив.
Как молча он любил!
Не повезло Аполлинеру и с художницей Мари Лорансен. (Ее полотна известны и место в истории искусств у нее есть.) Своенравная Мари ушла от него, бросив ему: «merde!» — говно!
Объяснить недружелюбность женщин к нему трудно, внешность у него самая обычная, ну разве что полноват — банальный грех мужчин того времени. Спортом тогда никто не занимался, спорт, так же как и «бронзаж» — загар, стали прививать во Франции перед 2-й мировой войной такие аристократы и спортсмены, как Антуан де Сент-Экзюпери. А вообще-то внушительный выпяченный торс был нормальный атрибут француза того времени.
На войну Аполлинер пошел добровольцем. Что делает ему большую честь. Конечно, как доброволец он мог рассчитывать после войны на французское гражданство. Он был ранен в голову, есть фотография, где он сидит в форме, забинтованная голова запрокинута, хороший нос, усы. Вполне героический мужчина-артиллерист. Умер он чуть ли не от простуды, но скорее от последствий ранения, в ночь, когда был подписан мир в ноябре 1918 года. На улицах пьяная толпа, ликуя, кричала «Смерть Гийому!», имея в виду, конечно, германского кайзера Вильгельма II, а Аполлинер в бреду вопил, что это смерть ему, и в ужасе вскакивал с койки.
Этот польский эмигрант еще раз обогатил французскую поэзию. После Бодлера, Рембо, Лотреамона — еще и Аполлинер! Поистине счастлива французская поэзия. У нас таких дерзких гениев было куда меньше, хотя один Хлебников затягивает на очень много. Он все же масштабнее Аполлинера в своей эпике. Вообще французы умеют ценить своих гениев. Они их подают красиво, объясняют, раздувают, опять объясняют. Русский гений растет как сорняк, наш буржуа-обыватель воинственно агрессивен, он свой ночной горшок, свое подсолнечное масло, свой советский тухлый быт ценит выше любого гения.
Но это уже не об Аполлинере. Он написал тогда гувернантке:
«Величье времени дарует блеск поэтам,
и даже красоту оно дарует им».
Он знал, что так и будет.
Оскар Уальд: conversationalist
Году в 1988-м, если не ошибаюсь, приехал в Париж Андрей Поляков, он же Мейлунас, приятель моей нью-йоркской юности. Он выведен в романе «Это я, Эдичка» под именем Кирилл. Остановился в отеле на rue des Beaux arts. То есть изящных искусств. Эта короткая улочка в центре Парижа упирается одним концом в здание школы des beaux arts, отсюда и название. Отель, в котором Андрей остановился, оказался знаменит тем, что в нем умер Оскар Уальд. Во времена Уальда он назывался Hotel d'Alsace, ныне он называется отель des Beaux arts. Разбогатевший на спекуляциях с commodities поляков, юноша образованный и уже тогда искривленный гепатитом снял номер, где умер Уальд. Ну, конечно, там все было преобразовано, в этом отеле,— из него хозяева сделали конфетку. В каждом номере своя особая мебель, свои цвета обоев и обивки. Отель успешно делал деньги на памяти самого известного гомосексуалиста в мире. Богатые гомосексуалисты со всего мира готовы были заплатить любые суммы за честь жить в отеле. Мы? Ну что мы, выпили на балконе над Парижем пару бутылок «Дон Периньен» за упокой души толстого Уальда. Андрей приехал с австрийской аристократкой, на которой он впоследствии женился.
Последние годы жизни Уальда прошли в отеле «Альзас». Хозяин ему симпатизировал. Умершая незадолго до этого жена Уальда Констанс (от позора она уехала из Англии и жила с детьми, переименовав их из Уальдов в Холлондеров), завещала ему крошечное содержание. На это Уальд и жил. Денег ему всегда не хватало. Шли первые годы XX века. Толстый, неряшливый господин бродил по парижским кафе, отыскивая в кафе англичан и американцев, пытался познакомиться, усаживался, если позволяли, за столик. Даже в эти времена он не утратил своего таланта красноречия и щедро изливал его на слушателей за рюмку абсента. А вероятнее всего, ему требовалось человеческое общение. В таком виде его встречали в те годы десятки англичан и американцев: потертое пальто, несвежие воротнички и манжеты. Он всегда был полным человеком, в последние годы жизни, по-видимому от неразборчивого питания, он выглядел грязным толстяком. Он ничего не писал, страдал апатией и безразличием. Если бы не мсье Циглер (надеюсь, я не ошибся, вспоминая фамилию этого почтенного человека) — владелец «Альзаса», Уальд оказался бы на улице. Нравы, толпа, государство умеют расправиться с инакомыслящим. Мстительный маркиз Куинсберри оставил его в покое, его сын и любовник Оскара лорд Дуглас, он же «Бозе», маленькая сволочь и приживалка в канотье, в конце концов рассорился с Уальдом. Случилось это после публикации «De Profundis» — гневного, обличающего любовника памфлета. А ведь несколько лет после выхода Уальда из тюрьмы они пытались опять жить вместе. Лорд Дуглас издал пару книжек стихов.
Уальд свалился и лежал под присмотром хозяина «Альзаса». Можно полагать, что hotelier лечил, пытался лечить ирландца — английского bad boy — на свои деньги. Тогда отель d'Alsace, кстати говоря, был дырой, дешевым заведением, так что особых доходов он не приносил. Перед смертью за несколько дней тело Уальда вдруг вздулось все, а в минуты смерти, когда он страшно хрипел и раздувался, вся эта масса вдруг лопнула, и гной забрызгал стены.
Ужасная судьба! Я несколько раз посетил кладбище Пер-Лашез, где ходил поклониться и его могиле. Ограды не было. Прямо из земли вырастал серый куб, на котором был выбит рельефный серафим работы скульптора Эпштейна. Тогда, в 80-е годы, шли разговоры о переносе останков в Великобританию. Однако я не знаю, чем закончилась история. Перенесли ли?
Уальд начинал блистательно. Отпрыск богатой и славной ирландской фамилии, он купался в литературе и искусстве еще ребенком. Его мать была писательницей. Он учился в элитном Оксфорде. Пухлый «мажор» — вот как можно охарактеризовать его в переводе на современную шкалу ценностей. Где-то лет до тридцати он больше шалопайствовал, ходил на все тусовочные мероприятия, на концерты (на один из них он пришел во фраке, сшитом в виде контрабаса), даже основал движение «эстетизм». Он поехал с лекциями об эстетизме в Америку, там в провинциальных городах он объяснял джентльменам-фермерам, что такое эстетизм. Фотографии этого американского турне показывают нам Уальда длинноволосым, горбоносым верзилой, чулки до колен — выше некие бриджи из бархата, бархатный жилет со многими пуговицами. Жилет был лиловый. Удивительно, как американцы не линчевали проповедника эстетизма из Англии.
Удивительно, но за всем этим ничего не было. Несколько десятков стихотворений, проект пьесы. Он говорил всем, что пишет пьесу из жизни русских террористов. Впоследствии он ее написал. Но пьеса была никудышная. Шли 80-е годы XIX века. Как раз время взрывов, терактов, «Народной воли» в России, вся Европа глядела на нас. (Справедливости ради следует сказать, что и в Германии, например, примерно в те же годы были два покушения на кайзера Вильгельма I.) Я хочу сказать, что Уальд не был еще никем, а уже был главой школы. Вернувшись в Англию, он долго развлекал своих друзей рассказами о наивной и чистосердечной Америке, приходившей в ужас от его снобистских лекций. Он вращался в модных кругах среди людей искусства (среди его ближайших друзей был живописец Уистлер), и даже среди них он выделялся как великолепный conversationalist, то есть «разговорщик» — искусство вести беседу. Небывалых высот в этом жанре достигли именно англичане, так, Брэммель — величайший денди — числился и одним из лучших conversationalist Великобритании.
Уальда многие и держали в Англии за, прежде всего, conversationalist'а, и были крайне удивлены, когда он выступил со сборником стихов, перепевавшим классические образцы. Мотивы Греции прежде всего и библейские сюжеты. Сборник стихов был необходимым минимумом для молодого «гения». Позднее Уальд стал довольно успешно создавать пьесы. Спустя более чем столетие его пьесы до сих пор идут и в Англии, и в России, и в Европе. Однако идут скорее из уважения к общей славе автора. К его громкому имени, достигнутому не в драматургии. Пьесы Уальда, честно говоря, посредственны. В них действуют светские герои, ситуации XIX века, образованные рантье того времени ведут всяческие вполне дебильные разговоры. Пьесы Уальда, как пьесы Сада, поражают своей банальностью. Репутацию же Уальду создали роман «Портрет Дориана Грея» (также устарел к 2001 году и он, и выглядит жеманным, приспособленным к ментальности наших прабабушек), его афоризмы, его статьи, и в первую очередь блистательные «Искусство лжи» и «Судьба рабочего класса при социализме» (в названии этой статьи я безусловно ошибаюсь. Я, однако, уверен во второй части названия, а именно: «при социализме») — и его трагическая судьба. Главным образом его трагическая судьба.
Если Уальд-эстет забавно выглядит, в нем есть этакая юношеская лошадиность (хотя щеки его уже обещают стать котлетами), то, достигнув 30 лет, он пополнел и сделался мишенью юмористических газет и журналов. Его любили изображать как «мадам Уальд» — жирное тело в пышных кринолинах, или в виде толстой «Саломеи» (название одной из его пьес), держащей на подносе голову Уистера, с которым он поссорился. Превращение разительное, представьте разжиревшего вдруг Маяковского в балетной пачке. Гомосексуалистом Уальд, вероятно, стал в Оксфорде, в дорматориях этого элитарного университета учили этому, во всяком случае гомосексуализм в английских учебных заведениях известен как феномен и прославлен в литературе. И это именно в Оксфорде, будучи приглашен как его выпускник погостить, выступить и пообщаться в кругу себе подобных, Оскар Уальд познакомился с лордом Дугласом, сыном маркиза Куинсберри, юным студентом. Литературный мэтр и юный студент были замечены в склонности друг к другу. Иллюстрированная «Оксфордская газета» публикует карикатуру, где изображена прогулка на лодке: на корме за веслами сидит Уальд в виде толстой тетушки, корма грузно осела в воду, а на носу — высоко вознесенный под кружевным зонтиком, находится лорд Дуглас, или «Бозе» уальдовских писем — капризная девочка. Характер отношений ясен был всем. Однако гомосексуальная связь тучного Оскара и его эльфообразного любовника, возможно, осталась бы одной из многочисленных подобных связей светской Англии, если бы не отец лорда Дугласа. Маркиз Куинсберри, каким его изобразила «Газета велосипедиста» в самом конце XIX века,— задиристый человек с длинными баками, в клетчатом костюме (брюки до колен), чулках и дорожных башмаках, стоит, держась за руль велосипеда с неровной величины колесами. Помимо велосипедного спорта маркиз Куинсберри был разносторонним спортсменом и увлекался также боксом. Маркиза возмутила связь его сына с Уальдом, которого он почему-то считал чудовищем разврата. Хотя к тому времени Уальд был мужем Констанции Уальд и отцом двух детей и помимо связи с Дугласом о его однополых любовях мало что было известно обществу. Ничего, по сути говоря, неизвестно.
Маркиз Куинсберри выполнил в судьбе Уальда ту же роль, что и прокурорша Монтрёя, его теща и мать его жены Рене-Пелажи мадам де Монтрёй в судьбе маркиза де Сада. В конце концов это он — маркиз Куинсберри — засадил Уальда в тюрьму, исковеркал ему судьбу и одним махом вознес в святцы современного мирового искусства. После множества перипетий Уальда судили как растлителя лорда Дугласа. На суде вскрылись всяческие позорные подробности, как, например, свидетельства служанки загородного отеля, где Уальд и Дуглас останавливались. Служанка заявила, что простыня в их номере носила на себе пятна экскрементов. И может быть, именно это свидетельство привело Уальда в тюрьму.
Как чуть ранее Достоевский, Уальд в цепях был заключен в Reading prison (в Рэдингскую тюрьму), где провел в заключении два года. Здесь он написал прочувствованную балладу «Ballad of Reading Gaol» — о судьбе офицера, убившего возлюбленную и казненного. Баллада мрачная, ее дисциплинирует нечто вроде припева: «Любимых все убивают. Те, кто слабее — трусостью, изменой, те, кто сильнее — кинжалом и шпагой». Начинается она сценой казни:
Не didn't wear his scarlet cap
'cause blood and wine are red…
Свою тюрьму Уальд перенес тяжело. Ему, выросшему в роскоши, среди картин, книг, красивых вещей, было, разумеется, страшновато окунуться в мир удручающего насилия. Это позднейшие страдальцы, разночинцы: Селин в датской тюрьме (год прожил он под смертным приговором за коллаборационизм), Жан Жене, как рыба в воде чувствовавший себя в тюрьме, выросший в тюрьме — для них тюремный опыт был лишь одним тяжелым опытом в ряду других. Тюрьма сломала эстета Уальда. После тюрьмы он уехал во Францию, в Дьепп, затем в Италию. Уже в Дьеппе он встретился с лордом Дугласом. За столиком кафе на фотографии Уальд и его возлюбленный «Бозе», но уже с чуть крючковатым носом, в канотье, ущербный маленький гриб. На отдельных фотографиях «Бозе» похож на ленинградского юношу-авангардиста, какого-нибудь Африку. Та же стыдная подлость во взоре. Они прожили деньги Уальда в Италии и расстались.
Итак, остались блестящие афоризмы, пара статей (сказки его меня в восторг не приводят) и трагическая судьба. Этого достаточно, чтобы быть Великим. Всякий раз, проходя через таможню, меня так и подмывает швырнуть им: «Nothing to declare, except my talent».
Ровер Денар: полковник Боб, солдат удачи
У меня есть фотографии, подаренные мне им. Цветные фото. Одна из них: полковник Боб принимает рапорт на Площади Раппортов под пальмами. Денар — в белом костюме: четверо офицеров с шашками по стойке «смирно» по четырем углам площади. Место действия: Коморские острова, а именно остров Большой Комор в Индийском океане, время действия: 1978 год, через год после удачного государственного переворота 1977 года, когда наемники во главе с полковником Денаром, высадившись с рыболовецкого траулера на ночной пляж, захватили президентскую резиденцию, армейские бараки и государство. Сместив левого президента и пристрелив его, Денар поставил на его место президента Али Салеха, а сам стал его серым кардиналом, министром внутренних дел, командиром элитных войск и фактическим хозяином страны. От свергнутого президента он оставил себе его жену и «Ситроен».
Газетчики пронюхали о государстве наемников в конце концов, хотя Коморские острова, в старину называвшиеся островами Воюющих Султанов, лежат между Африкой и Гибралтаром. В удалении от редакций «New York Times», «Figaro» или «Le Monde». Боб Денар всего лишь сменил фамилию на мусульманскую, надел чалму и остался на месте. Двенадцать лет существовало государство наемников, порождая слухи и легенды. По истечении этого срока Денар и Али Салех поссорились. Доподлинно установить, что же произошло в 1989 году в резиденции президента Али Салеха, теперь трудно. По этому эпизоду состоялись несколько судов. Судя по всему, Денар или один из его лейтенантов застрелил Салеха. В том, что Салех мертв, нет сомнений. Мертв как труп.
Я встретился с легендарным полковником Денаром весной 1994 года, в помещении редакции крайне правой газеты «Minute» в Париже, на rue la Chanelle. Я ждал его в вестибюле, так как это был воскресный день, все двери закрыты, к тому же полковник не знал кода дверей. Он появился в светлом плаще с атташе-кейсом, чуть прихрамывающий серый волк. Я открыл ему дверь изнутри, представился, он с привычным недоверием пропустил меня вперед… Так началось наше знакомство.
Архетип воина, он родился около 1928 года в Бордо, в семье богатых крестьян. К 15 годам умел отлично охотиться и, как он сам утверждает, служил проводником партизанам из отрядов Сопротивления. В 1944-м вывел их на отряд отступающих эсэсовцев. Таким образом, перед нами французский патриот с младых ногтей. Однако это не помешало ему быть обвиненным в попытке подготовки покушения на премьера Франции Мендес-Франса и отсидеть полтора года в военной тюрьме. Он был освобожден в 1957 году. Вопреки позднейшим слухам, Денар никогда не служил в Иностранном легионе и не был тем более ни солдатом, ни офицером 1-го REP, особого парашютного полка Иностранного легиона, расформированного в 1962 году. После того как полк принял участие в мятеже армии в Алжире, за французский Алжир и против де Голля. Робер Денар служил в особом подразделении военной жандармерии, в чьи обязанности входили и контртеррористические операции. 1964 год застает его в Конго. Разгар деколонизации. Бельгийцы уходят и оставляют страну в буквальном смысле на произвол судьбы. Три больших города Конго: столица Леопольдвиль, Стэнливиль и столица меднорудного региона страны Катанги — Кольвези — брошены бельгийцами, несмотря на то, что в них осталось многочисленное белое население. Спасаются кто как может. Набирают отряды военных специалистов «коммандо». Коммандо — 1, 2, 3, 5 и так далее. Спецы поступают из соседних Родезии и Южной Африки. Англоязычных мерсенарис (наемников) возглавляет бухгалтер из Южной Африки Майк Хоаре, впоследствии получивший прозвище «Бешеный Майк». Руководителем франко-бельгийской компании «Union-Miniers» («Объединенные шахты»), владеющей всеми медными рудниками в Катанге, нанимают франкоязычных коммандос. Руководит последними капитан Фолькез. Вот он как раз бывший офицер 1-го REP, 1-го реджимента парашютистов Иностранного легиона. А минометным взводом командует у него Робер Денар.
Бельгийцев (1.600 женщин и детей) выводит из Стэнливиля бельгийский плантатор, уроженец Конго Джек Шрамм. В те годы он становится мгновенно известен, телекамеры и фотокамеры запечатлевают марш через страну к родезийской границе. Отстоять Катангу не удалось, потому вместе с колонной Шрамма отступают тысячи катангских черных жандармов, принявших участие в мятеже. Робер Денар должен был помочь Шрамму вторгнуться в Конго со стороны Анголы. Однако португальцы отказали ему в транспорте. Денар сажает своих людей на велосипеды, и они вторгаются… Однако судьба не благоприятствует восстанию. В конце концов все наемники и колонны беженцев пересекают границу Родезии, сдают оружие. Занавес.
Тем временем в Стэнливиле и самом Конго возгорается борьба между тремя лидерами — президентом Патрисом Лумумбой, генералом Чомбе и Мобуту. Наемники и Боб Денар работали на Чомбе. Лумумбу убивают еще тогда. Чомбе сажают в Алжире (пилот самолета был подкуплен), и он в конце концов умирает в алжирской тюрьме. Хозяином Конго становится Мобуту. И остается им под именем Мобуту Сесс Секу до 90-х годов.
После Катанги Денар следует за своим шефом капитаном Фолькезом в Йемен. Там они обучают искусству войны монархические силы. Монархический Йемен воюет против Йемена республиканского. В мусульманской стране, где трудно с женщинами и нет алкоголя, Денар долго не удерживается. К тому же он любит Африку, он не раз признавался в любви к этому континенту.
В последующие годы путь Денара проследить довольно трудно, поскольку он щедро использует псевдонимы. Под именем полковника Бугро он служит военным советником у Омара Бонго, молодого президента республики Габон, верного союзника Франции, если верить газетам, и не только у него, рыщет по всей Африке и замешан в, по крайней мере, полдюжине политических покушений. В 1975 году Денар возглавляет попытку государственного переворота в республике Бенин, против президента Кереку. Спас Кереку только случай. Вот как все происходило. На аэродроме приземлился зафрахтованный самолет с наемниками. 90 наемников, из них 30 белых и 60 черных. Из дверей по веревкам спустились вооруженные люди. Захватили контрольную башню. И вот тут-то сразу случился срыв. Разоружив охрану, наемники должны были захватить транспорт, стоявшие обычно в изобилии у аэропорта такси, и на них отправиться в точки назначения: к президентскому дворцу и к военной базе. Но планировавший coup d'etat Денар не учел одного. День вторжения выпал на воскресенье, и в этот день никаких посадок самолетов в аэропорту захолустного африканского городка Котону — столицы Бенина — не предвиделось. Поэтому ни одного такси не оказалось. Часть наемников выступила по назначению на своих двоих. Внезапность вторжения исчезла. В довершение неудачи президент Кереку ночевал не в своей резиденции, а у любовницы в другом конце города и уже утром выступал по национальному радио, призывая бенинцев вооружиться и отразить агрессию. Утром же начался обстрел аэропорта, во время которого самолет, на котором прилетели наемники, был выведен из строя. Они еле выбрались из Бенина. Улетев на индийском самолете, приземлившемся для заправки в Родезии. Там их арестовали.
Но уже в 1977 году полковник Денар рецидивировал и, высадившись с траулера, захватил Коморские острова. Впоследствии на суде, уже в 1994 году, судья спросил Денара: «Мсье, но почему же вы не остановились на бенинской неудаче, а совершили экспедицию на Коморы?» — «Никогда нельзя останавливаться на неудачах, мсье»,— невозмутимо реагировал Денар.
Постепенно он превратился в живую легенду. Последний Корсар Республики — называли его. Поскольку многие его авантюры были на руку Франции и в некоторых из них он явно работал рука об руку с французскими спецслужбами, он вызывает неподдельное уважение судей.
В 1993 году он наконец появляется на французской земле. Он картинно опускается на колени и целует землю родной провинции Бордо. Говорит о том, что он крестьянин, что его всегда тянуло к земле, что он намеревается жить в провинции и заняться сельским хозяйством! Занавес, казалось бы, занавес! Блудный сын, постаревший, идет с кнутом за овцами. Умилительная картинка.
Может, ему самому так хотелось. Однако в начале марта 1994 года в его большой беседе со мной я заметил, что ему уже скучно. Он не был еще готов признаться себе, что не быть ему, солдату и авантюристу, мирным крестьянином никогда, что это самообольщение. Уже в той беседе он поинтересовался, не нужны ли азиатским республикам СНГ такие специалисты, как он. Еще он спрашивал о том, где можно вложить деньги в сырьевые предприятия, у него есть небольшие сбережения. Он бы вложил деньги в рудники или месторождения. Я обещал разузнать.
Двадцать шестого марта 1994 года я улетел в Россию и во Францию возвращаться не собирался. В 1995 году, однако, журнал «Солдат Удачи», русское его издание, собравшееся отметить свою 1-ю годовщину, связалось со мной: «Вы знакомы с Денаром. Пригласите его на наш праздник. Мы оплатим расходы». Я стал связываться с Парижем, с друзьями. Они нигде не могли его найти. И вдруг в сентябре, если не ошибаюсь, я увидел арест Денара: он еще раз попытался захватить Коморские острова и провалился в этом намерении. «Нельзя, мсье, останавливаться на неудаче»,— вспомнил я его ответ председателю суда.
Современный авантюрист, солдат, ведущий свою родословную от предводителей боевых дружин средневековой Европы, человек, чья профессия есть война и военные операции, Робер Денар такой же священный монстр, как Ван Гог или Че Гевара. Как показали события последнего десятилетия: локальные войны в Югославии, в Карабахе, в Приднестровье, Абхазии, Таджикистане — нужда в таких воинах, как Денар, не исчезла. Напротив, увеличилась.
Щеточка усов, малиновый берет, пистолет на поясе, опирается на палку, стоит рядом с другим офицером на желто-красной земле Африки. Вдали хижины, и далеко стоят с ружьями африканские солдаты — такой снимок был у меня, если его не изъяли при обыске. Пока я дописываю историю Денара, справа от меня пованивает «дальняк». Мое письмо к легендарному полковнику Бобу конфисковано у улетавшего в Париж 8 февраля французского писателя Тьерри Мариньяка. Моя судьба переплетается с его судьбой таким образом.
И конечно, Денар француз до ногтя на пальце. Он не забыл захватить с собой в Котону ящик шампанского, чтобы отпраздновать победу: переворот в Бенине. Те бутылки достались солдатам президента Кереку. Но 24 бутылки шампанского «Дон-Периньен», взятые с собой в 1977-м на Коморы, он с товарищами-таки осушили за победу. И хороша та фотография, с которой я начал рассказ о нем: расставив ноги по-хозяйски, седовласый полковник в белом костюме под пальмами принимает рапорт своих вооруженных сил.
О, воплотившаяся мечта mercenary! Скольким солдатам удачи снились эти пальмы и белый костюм! Недаром полковник пытался вернуться в «Парадиз наемников», как называли Коморы, в свой рай в 1995-м.
Борис Савинков: террорист
С Иваном Каляевым они были знакомы с детства. Савинков называл его «Янеком», в «Воспоминаниях террориста» он пересказывает многие свои разговоры с «Поэтом», такова была кличка Каляева. У них были трогательные отношения верующих братьев, Савинков любуется Каляевым.
Удивительные вещи узнаешь о человеке в «Воспоминаниях террориста»; безропотно таская свои тяжелые и опасные снаряды, в которых взрывная реакция вызывалась всего лишь повреждением стеклянной трубки, эти самоубийцы были вполне нравственными и чистыми людьми. Несмотря на верную смерть или во время теракта, или, если уцелеешь,— на виселице, руководитель боевой организации Борис Савинков всегда находил людей, готовых на «террорную работу». Люди на такое есть всегда. «Воспоминания террориста» написаны фактически спокойным стилем, между тем повествуя совсем о неспокойных вещах. Евно Азеф и Борис Савинков собирали группы людей, финансировали операцию, находили химиков, изготавливающих динамит, образовывали каждый раз организованную преступную группировку с целью уничтожения ключевых фигур царской администрации. Наружное наблюдение велось эсерами — членами боевой организации, замаскированными под извозчиков или продавцов товаров вразнос. Однажды даже по инициативе Азефа создали для прикрытия семью: Борис Савинков — муж, революционерка из Харькова Дора Бриллиант — жена, Сазонов — кучер, Иваневская, старая революционерка,— кухарка. Несмотря на то, что Савинков в книге множество раз пеняет себе на несовершенство своего метода наружного наблюдения, думаю, Азеф и Савинков превзошли многие современные спецслужбы в этой области. Кропотливая работа сбора сведений о выездах того или иного сановника, конечно, резко контрастирует с легкостью доступа к намеченной цели. Подошел и кинул: Сазонов кинул снаряд в Плеве, Каляев — в великого князя. Сейчас информацию о выезде министра, где он будет, можно легко получить из сообщений информационных агентств, но вот поди приблизься к министру, он отделен если не батальоном охраны, то прочно недоступен.
Евно Азеф, судя по воспоминаниям Савинкова, был на стороне революции в первую очередь. Удивительно, но до сих пор считается, что якобы истина так и не установлена или что он был и провокатор, и революционер. Он был революционер, а сдавать он вынужден был второстепенных людей и второстепенные покушения, для того чтобы продолжать террор. Это очевидно даже только из книги Савинкова.
Что двигало Савинковым, Каляевым, Сазоновым и другими эсерами-боевиками? Упоение от собственного могущества, возможность конкретно продемонстрировать это могущество?
Умиляет, что у них, как и у простых смертных, многое не получалось. Что взрывались их доморощенные снаряды при зарядке и разрядке. Что у исполнителей не выдерживали нервы: кто-то уходил. То есть все как у современных людей.
Савинков, судя по «Воспоминаниям» и по романам «Конь бледный» и «Конь вороной», имел интимную связь с плаксивой и крайне депрессивной Дорой Бриллиант. Интересно, что в «Воспоминаниях» и романах Бриллиант получилась разная. В «Воспоминаниях» — героический друг и товарищ. В романах — душная, противная и вызывает отвращение. Вероятно, Савинков жил с ней с отвращением, но нуждался в ней. Тут какая-то загадка. Пола? Страха? Страха, и от этого необходим секс?
То, что после Февральской революции Савинков стал комиссаром Временного правительства, а потом с правыми эсерами кооперировался с Колчаком — нормально. Он был мощным человеком, а тут подвернулось поле деятельности. Большевикам он не принадлежал по типажу, слишком светский, большевики были попроще.
Удивительная, конечно, глыба был этот человек. Просто национальный памятник. И Каляев удивительный, просто удивительный и правдоподобный русский тип наивного верующего. Похож на него наш поэт Сергей Соловей, получивший 15 лет за рижское дело, только что осужденный, 30 апреля. (Заговорщики, возможно, все одинаковые, независимо от того, что они заговаривают, замышляют.)
На самом деле «Воспоминания террориста» глубже и мощнее книга, чем все тома Достоевского. Будучи участником «террорной работы», Савинков-Ропшин еще и большой писатель — у «Воспоминаний» бесхитростный и единственно возможный тон. Савинков неуловимо близок чем-то к Гумилеву — оба империалисты, вояки, европейцы, эстетически близкие к фашизму. Не к идеологии фашизма муссолиниевского образа, но к фашизму футуриста Маринетти, который воспевал орудийные разрывы и кустистые цветы пулеметных очередей. «Воспоминания террориста» героическая дофашистская книга. Как ни прикрывались эсеровские сверхлюди общественными делами, на деле это был поединок кучки суперменов с элитой государства. И Каляев, и Сазонов, и Савинков, и Азеф — ослепительные фашисты, готовые совершить свои пахнущие кровью и тюрьмой подвиги, на стороне людей идеологии. В самом Савинкове, в его бесстрастности, коротко стриженной, как у Гумилева, голове, виден стоический ницшеанец. Весь облик изобличает презрение. Интересно, что Блюмкин, убийца посла Мирбаха, попавший в стихи Гумилева как
«Человек, среди толпы народа
Застреливший императорского посла,
Подошел пожать мне руку,
Поблагодарить за мои стихи».
Эсер Блюмкин, будучи за границей по чекистским заданиям, уже большевик Блюмкин, просил с почтением выведать у Савинкова, какого Савинков мнения о нем, Блюмкине. Как видим,
«Много их, сильных, злых и веселых,
Убивавших слонов и людей»,
поддерживались идеологией бешеной страсти, идеологией исключительности экзальтированной особой человеческой личности. Не обязательно называть себя фашистами. Хотя у Гумилева есть прямая «Ода Д'Аннунцио».
Барон Унгерн фон Штернберг: черный барон
Это о нем в песне, написанной после Гражданской войны, Дмитрий Покрасс воодушевленно дирижировал медью военных оркестров, и губы выдували:
«Белая армия, черный барон
Снова готовят нам царский трон».
Все верно, барон Роман Федорович Унгерн фон Штернберг, именно он был монархистом. Потомок многих поколений отмороженных немецких рыцарей из Прибалтики, Унгерн был гением, пришествие которого проповедовал другой аристократ, Юлиус Эвола. Аскет, монах, неистовый воин-традиционалист, буддист (буддистские ламы считали его воплощением чудовищного, многорукого, украшенного черепами Махагалы — бога войны, защитника буддизма). Барон Унгерн, отступая под натиском красных частей из Забайкалья, захватил столицу Монголии Ургу. Он восстановил власть духовного правителя страны, слепого Богдо-Гегена, вырвав его из заточения, наголову разбил и, преследуя, вырезал китайские войска. На недолгое время Унгерн стал безжалостным диктатором Монголии, большинство монгольских племен сплотились вокруг него. Как Константин Леонтьев верил в неиспорченность, примитивную простоту турок и ставил турецкий мир куда выше европейского, так Унгерн верил в святую неиспорченность азиатских племен, хотел объединить их и повести на Запад, сперва на Москву, для спасения Российской короны, потом далее на Запад. Роман Федорович барон Унгерн даже заключил брак с китайской принцессой императорской фамилии и, по всей вероятности, предполагал, что этот брак подтвердит как-то его притязания на лидерство над азиатскими племенами. Все эти мечты далеко не были лишены основания. В Забайкалье барон Унгерн командовал азиатской дивизией, в составе которой были буряты, монголы, башкиры, даже тибетская сотня и даже разбойники хунхузы. «Дикая дивизия», в свою очередь, была частью войска атамана Семенова. Семенов, полубурят, возглавлял Забайкальское казачье войско и маневрировал в поисках финансирования и оружия между японцами и омским правительством Колчака. Унгерн не любил Семенова, его барыжничество вызывало у аскета-барона отвращение, не жаловал он и любовницу Семенова Машку. Известно, что Роман Федорович назвал так свою кобылу. Фанатичный, суеверный, аскетичный барон Унгерн был жутким Махагалой и для своих подчиненных. Известны случаи, когда он вешал офицеров и солдат за мародерство, зверски наказывал за пьянство. Желтый халат, на котором были нашиты генеральские погоны армии Российской империи, перстень с черным камнем на руке, светлые глаза безумца, небольшие, как у Николая II, усы и бородка, светлые волосы, худ как вешалка — вот портрет барона, захваченного красными в плен. Его сфотографировали. Халат хранится в недрах музея Советской Армии, что помещается в русском Пентагоне, в Доме Советской Армии. В плен его взяли в 1922 году. Судили. Процесс широко освещался в российской прессе. На суде обвинителем был Ярославский. Приговорили, как и следовало ожидать, к расстрелу. А до этого он потерпел поражение — потерял Ургу, неостановимые красные войска, в составе которых были и монголы, взяли столицу бешеным приступом. В этом приступе участвовал, был пулеметчиком молодой красноармеец Сухэ-Батор, будущий вождь советской власти в Монголии. Это в его честь переименуют позднее Ургу в Улан-Батор. Есть отличная книга Юзефовича «Самодержец пустыни» и менее достоверная, романтичная, но интересная книга поляка Оссендовского, который лично попал к Унгерну в Монголии. В книге Юзефовича приведены интересные редкие документы и письма Унгерна. Из документов и писем воссоздается облик человека, знавшего, что делает. Спасение от диктатуры среднего человека России и Европе должны принести азиатские племена, в которых жив дух традиционализма, иерархического подчинения, кастовости. Потомок крестоносцев, судя по письмам, был отлично подкован, он как-то сумел разобраться, что красные в конце концов (несмотря на их якобы революционность) несут России ту же диктатуру среднего обывателя. Читал ли барон Унгерн Леонтьева, был ли знаком с его теориями? Он мог быть знакомым с теорией Леонтьева, но, вероятнее всего, пришел к тому же выводу самостоятельно, практическим путем.
Фигура одинокого обрусевшего тевтона, командира «Дикой дивизии» и диктатора Монголии, привлекла к себе внимание уже его современников. В 20-е годы, еще до прихода Гитлера к власти, в Германии были сделаны фильмы и книги о нем. В Берлине были обнаружены, после битвы за Берлин и взятия его советскими войсками, около тысячи трупов людей тибетской расы, одетых в немецкую военную форму, известно, что «Аненербе» — общество, специальная служба, занимавшаяся изучением германской истории, организовало многочисленные экспедиции в Тибет. Если вспомнить, что последнее направление прорыва разгромленной «Дикой дивизии» был Тибет, туда хотел вести через пустыню Гоби своих людей Унгерн, то понятно, что без влияния Унгерна на «Аненербе» не обошлось.
Унгерн, конечно, маньяк. Его правой рукой, палачом, исполнителем его воли был полковник Сипайло. Согласно довольно достоверной легенде, Сипайло отрезал голову своей любовнице, заподозренной в связях с большевиками. Оссендовский пишет, что отказался есть пирог, присланный Сипайло, был наслышан о том, что полковник — отравитель, что спас его от Сипайло Унгерн. Ужасы Гражданской войны нам известны — возможно, Сипайло и был чудовищем, и Унгерн использовал его для кровавой работы, сомнений нет. Но то была иная действительность. В Урге мертвых выбрасывали на специальное место к обрыву у реки, где их пожирали, сколько им угодно, священные собаки. В этом контексте, среди раскрашенных тибетских храмов, в дыму жаровен, у бронзовых статуй Будды, у красочных рынков, среди сотен тысяч побирающихся монахов с чашами, и Унгерн и Сипайло выглядят менее страшно. Экзотичное средневековье Монголии вполне адекватный фон для этих средневековых персонажей. Унгерна фашисты считали своим предтечей.
Уравнительная красная стихия вылилась из России в Монголию и выжгла «Дикую дивизию». Однако дело барона далеко не так безнадежно, как кажется. Азия далеко не в восторге от богатой и наглой Европы, заставляющей Азию жить на голодном пайке и подчиняться западным нормам жизни, смириться с диктатом избирателей, обывателей. Не дело ли Унгерна продолжают талибы? Не его ли духом заражен Иран? Традиционализм, насильственно забитый в клетки и подвалы, рвется наружу. Это традиционалисты бредут через горы из Таджикистана в Киргизию. Это традиционалисты готовят восстание против президента Каримова в переполненной до отказа мусульманскими фанатиками Ферганской долине. Дух барона должен быть удовлетворен. Он поправляет шелковый китайский халат с императорскими погонами, садится в позе «лотоса» и повисает над нами, невидимый, и трет перстень с черным камнем. По преданию, это перстень Чингисхана. Кто владеет им — владеет всей Азией.
В мае 1997 года в Душанбе полковник Крюков, начальник штаба 201-й мотострелковой дивизии, приезжал ко мне ночами беседовать за жизнь. После работы. Он рассказал мне, что в 1992 году, во время братоубийственной резни между «вовчиками» (ортодоксальными мусульманами-ваххабитами) и «юрчиками» (сторонниками советской власти), к командиру дивизии являлись толпами делегации местных жителей, они просили: «Возьмите власть в свои руки! Спасите нас!» Семь тысяч штыков 201-й дивизии (среди «штыков» два артиллерийских полка, ракетные дивизионы и прочие радости) — самая боеспособная армия в Средней Азии. С этими силами командующий мог основать хоть державу Александра Великого, а офицеры могли стать Птолемеями и Селевкидами. Противостоять им никто бы не смог. Но советские офицеры не воспитаны в духе немецких крестоносных рыцарей. Потому, отслужив свой срок, выпив положенное количество водки, командиры отправляются в российские мерзлые города. Виктор Крюков (лицо, стать, фигура, выносливость воина) сейчас замначальника военного училища где-то в Подмосковье. Старение, пенсия, внуки, дряхление, и помирает офицер в манной каше или в дерьме, в грязных простынях. А там — осталось свирепое небо Азии. Оно ждет своего барона Унгерна фон Штернберга.
Мао Тзэдонг (Мао): император-крестьянин
В последние десятилетия жизни он соревновался уже не с Марксом, Сталиным, но с Конфуцием и Цинь Шихуанди. Родившись в 1893-м в императорском Китае, где девочкам бинтовали ноги, он умер в 1976-м, когда у Китая уже было ядерное оружие. И старый мудрец спокойно говорил о преимуществах Китая перед другими ядерными державами, Китай выживет, даже если потеряет 200 и 500 миллионов в ядерной войне… Когда он родился, в Китае было 400 миллионов населения, когда уходил — свыше миллиарда.
Отец его был зажиточным крестьянином. Он сохранял зерно, дожидаясь голодного года, и тогда продавал зерно втридорога. Мать его была ревностной буддисткой. Мальчиком Мао был толстым, отец отдал его учиться в начальную школу, чтобы мальчик помогал ему потом в торговых операциях. Отец был упрямым, Мао — тоже, мать и Мао сумели доказать отцу, что нужно продолжить образование. С узелком на палке Мао отправился в соседний городок. Всегда потом Мао Тзэдонг оставался крестьянином, и его китайского разлива марксизм заменил Марксов (и ленинский) класс-гегемон: пролетариат — крестьянством в союзе с пролетариатом. Помимо любви к классу, из которого сам вышел, Мао руководствовался реальностью: пролетариат в Китае был малочисленным. Зато крестьянство самое многочисленное в мире.
В 1911 году Мао было 18 лет. В Китае произошла революция. Была свергнута Маньчжурская императорская династия. Во главе революции стоял доктор Сунь Ятсен. На фотографиях — доктор в военном френче, как и полагалось. Была националистическая партия гоминьдан, в ней выделялся уже тогда молодой офицер Чан Кайши. Левые партии были крайне слабыми и не имели популярности. Как и следует после революции, Китай распался на ряд фактически независимых провинций — государств во главе со своими генералами, вождями или чиновниками. И в более или менее неустойчивом таком состоянии смутного времени Китай просуществовал вплоть до 1949 года, когда Мао провозгласил создание Китайской Народной Республики.
Следует заметить, что претензии на большую революционность Востока (а их потом не раз предъявлял Мао) обоснованны. Первая Великая Революция XX века все же состоялась в Китае. Это была либеральная, националистическая, буржуазная революция. (Вторая великая революция XX века произошла в 1913 году в Мексике.) В России буржуазная революция произошла в феврале 1917 года. Из одной школы в другую крестьянский сын Мао Тзэдонг повышал свой социальный статус. Из уездного городка он попадает в столицу провинции Хунань, где учится на школьного учителя. Он много читает, у него длинные волосы; как многие китайцы, он предпочитает тапочки, стеганую куртку, простые хлопчатобумажные штаны. Он любит исторические книги и приветствует революцию. В 1923 году созывается первый съезд компартии Китая. На съезде всего 27 делегатов. Один из них Мао Тзэдонг, еще одного утонченного помещичьего сына зовут Чжоу Эньлай. Съезд созван стараниями и на деньги Коминтерна. Мао попал в эту компанию скорее случайно, он еще не уверен, что он коммунист. Он скорее хунаньский патриот и ненавидит империалистические державы Европы. Причины есть: опиумная война, когда европейские интервенты показали свою жестокость.
В 1927 году Мао уже вождь целой армии коммунистов, много тысяч голодных, босых людей отступают из Хунаня на север страны. Босые ноги проваливаются сквозь лед. Лед кровавого цвета. Колонна теряет две трети своего состава (Мао вынужден бросить даже свои любимые книги), но добирается до провинции Янань, там в песчаных пещерах Мао задерживается надолго, на годы. Образуется миниатюрная Китайская Народная Республка. Бок о бок с Мао — военный лидер коммунистов, впоследствии маршал Чжу Дэ — китаец с лошадиным лицом, с твердыми скулами, в обмотках, решительный солдат-крестьянин. Своего рода Эрнст Рэм китайской революции. Не следует думать, что Янань одно или главное скопище коммунистов в Китае, вся страна представляет из себя скорее помесь беспорядочной шахматной доски со шкурой зебры. Националисты — здесь, коммунисты — рядом, бандит — справа, чиновник — в этой провинции, военный диктатор — ниже, некий князь — выше. Вот что представлял из себя тогдашний Китай. К тому же Москва, Коминтерн да и сам Сталин не благоволят Мао, они поощряют других лидеров, более послушных Коминтерну. Мао же известен своими националистическими взглядами, его Маркс — с пленкой у глаз. Потому Мао не всегда даже выбран в руководящие органы компартии. Известен он также как американофил: у него несколько друзей — американских журналистов. В Янани в пещере Мао любит танцевать под пластинки. Мао пьет джин. Он женат уже второй раз, на молодой девушке. Один из его братьев погиб в Хунане, застрелен, расстреляна и его первая жена — дочь его университетского профессора. Остались двое детей. По виду Мао, несмотря на сорок лет, в начале 30-х годов выглядит веселым, упитанным студентом, в тапочках, в ватных штанах, фуфайке. Прибавилась лишь фуражка со звездочкой.
Медленно, но верно Мао пересиживает своих соперников по партии, однако он все равно еще не первое лицо в партии. И далеко не первое лицо в стране, им стал лидер партии гоминьдан, теперь уже генерал Чан Кайши. Если бы они сошлись тогда в поединке, победа была бы, несомненно, за Чан Кайши, партизаны Мао не выдержали бы натиска хорошо вооруженных солдат-националистов. Но в 1937 году на сцене смутного времени, когда правительство Чан Кайши в Пекине, а в провинции сидят царьки, на сцене появляется Япония. Ее войска входят со стороны Маньчжурии — государства Маньчжоу-Го. И тогда китайцы начинают мириться между собой, чтобы противостоять японской интервенции. Мирятся они не всегда и не всюду. Как известно, и сегодня существует еще гоминьдановский Китай на острове Тайвань, куда к 1949 году стеклись остатки армии Чан Кайши. Но вернемся к 1937 году.
Даже когда Япония становится союзницей Германии и Италии, Сталин не решается помогать китайским коммунистам. На первый порах он помогает Чан Кайши. Мао возмущен, но молчит. Ясно, что Сталину важнее вышибить Японию из игры на Востоке, сковать как можно больше японских дивизий в Китае, чтоб не пришлось истекающей кровью России воевать и в Азии. Это первая обида Мао на Сталина. В 1949 году Мао поселяется в Запретном городе императоров в Пекине. Точнее, это не город, но ряд зданий, скорее напоминающих роскошные коттеджи. Ему 56 лет. Он не любит бэйпинцев и Бэйпин (Пекин). А Бэйпин не знает, что ожидать от красного императора. Первые дни на улицах пусто. Легенда повествует о том, что первое время партизаны Мао пытались прикуривать от электрических лампочек. Возможно, чтобы подыграть легенде, Мао приказывает высеять под своим окном у павильона «Небесного Спокойствия» — маис. Император-крестьянин хочет видеть, просыпаясь, поле. Свое поле.
Со временем он становится похожим на своего отца. На упрямого бережливого крестьянина. В его трудах все меньше марксизма. Он все больше говорит о марксизме как о предлоге для обновления Китая. Мао все меньше использует фразеологию марксизма, обращаясь к традиционно китайским понятийным символам, чуть ли не с сельскохозяйственным уклоном. «Пусть цветет тысяча цветов»,— из этой категории. Стремясь преодолеть промышленную отсталость Китая, Мао бросает лозунг «Большого скачка». Увы, и ему и Китаю не хватает знаний экономики и опыта производства. Газеты одержимы, они публикуют схемы и чертежи печей для плавки металла, и вот уже города и села и отдельные хозяйства обзаводятся собственными доменными печами. В них переплавляют железный лом, собранный на полях войны, чтобы потом на тачках и тележках отвозить выплавленные чушки на станции на отправку на металлургические заводы. С таким же треском провалом окончилась кампания по уничтожению «мух, воробьев, крыс и зловредных насекомых», когда черви сожрали урожай в нескольких провинциях.
Однако в 1966 году Мао обращается к более серьезной проблеме. За 17 лет со времени победы революции, обнаруживает он, в Китае успешно вырос и окреп целый класс новых коммунистических чиновников. И они успешно ликвидируют результаты революции. Чиновничество всегда было громоздкой и могущественной корпорацией в императорском Китае. Мао 73 года. Вокруг него немного старых друзей. Он несколько в стороне от государственной власти. Блистают Лю Шаоци и Чжоу Эньлай.
Тихой сапой продвигается к верховной власти, но еще не достиг ее прагматичный Дэн Сяопин. Но это только несколько первых имен. За ними сотни тысяч функционеров государства, для которых «революция» уже пустой звук. Чиновники все больше отходят от идеалов революции. И тогда, в августе 1966 года, Мао бросает против чиновников студентов и школьников. «Огонь по штабам!» — приказывает он. Идеалы революции в опасности! Рождается движение «Красной гвардии» — знаменитых хунвэйбинов. В руководстве этим движением Мао помогает его последняя жена Джан Чин и ее молодые друзья — радикальные левые студенческие лидеры, впоследствии получившие прозвание «банды четырех». Школьники и студенты ставят страну на уши. За ревизионизм, за отход от идеалов революции многие сотни тысяч начальников и руководителей вызываются на народные суды, где многотысячные толпы молодежи заставляют чиновников исповедоваться, стоять в шутовских колпаках, принимать плевки и избиения. Полиция бездействует. Своеобразная молодежная инквизиция сурово карает. Начальников ссылают в деревню, работать на поле, такова была участь Дэн Сяопина. Он ухаживал за скотом. Лю Шаоци, председатель Народного собрания Китая, умер в результате шока от позора и избиений. Десять лет почти, постепенно иссякая, бушевал по Китаю ураган «культурной революции», как ее стали называть. В последнее время налицо попытки западных историков представить «культурную революцию» как жестокий театр абсурда, как ничем не спровоцированную жестокую прихоть Мао. Такая интерпретация «культурной революции» — откровенная ложь. На самом деле это была попытка справиться с тяжелейшей проблемой всех революций, а именно с обуржуазиванием самих революционеров, с тем, чтобы все не возвратилось на круги своя, с извращением революции. На некоторое время Мао справился с этой проблемой. Потому Китай все еще крепко стоит на ногах. В то время как СССР разрублен на кровавые куски республик.
В последние годы жизни Мао приблизился к природе, к воде, и земле, и растениям. Он по-прежнему много писал стихов. Он предавался своему любимому занятию — плавал в Янцзы и вообще во всех реках, где бы ему ни приходилось бывать. Однажды он чуть не утонул, а волна все-таки смела с ног начальника его охраны. Что усматривал Мао в своих заплывах? Скорее всего, важное символическое соединение со стихией Китая, то, что его якобы поддерживали под водой — вранье. Он плюхался, толстый, в воду и плыл по течению, пока мог. За ним следовали охранники на катере. Это была священная церемония.
В юности он не поехал во Францию в трудовое путешествие. Поехали Дэн Сяопин, Чжоу Эньлай. «Трудовой» путешественник получал право работать на французском заводе, изучить жизнь. Мао лишь дважды отлучился из Китая, оба раза в Советский Союз, один раз к Сталину, другой — к Хрущеву. Ни тот, ни другой ему не понравился. Он вообще не любил русских, находил их хитрыми и жестокими.
К старости у Мао развилась похотливость. Каждую неделю в павильоне «Небесного Спокойствия» организовывали для престарелого императора танцы. Мужчины почти не присутствовали, лишь толпа хорошеньких военных девушек — курсантки и офицерши Народной армии. Выходил Мао в бессменных тапочках и под оркестр танцевал с девушками. Танцы кончались обычно тем, что красный император исчезал с одной из девушек в своих покоях. Подобная экстравагантность императора никого не удивляла.
К концу жизни у Мао развилось и особое чувство юмора, свойственное великим и чудаковатым людям. Однажды санитарка принесла ему в постель рыбу. Обглодав кости, Мао задумался, потом сказал:
«Послушай, девочка, я скоро умру, меня по завещанию сожгут, а пепел мой и кости развеют над Янцзы. Как только это случится, ты должна будешь пойти к реке и сказать рыбам: «Мао Тзэдонг очень любил кушать вас. Он съел немало вашего брата. Теперь ваша очередь отыграться. Кушайте дядюшку Мао»».
И старик расхохотался. Самым серьезным соперником Мао оказался Конфуций. Ибо для своей страны престарелый Мао Тзэдонг сделал больше, чем самые великие из всех императоров, и так много, как все они вместе. Но Конфуция, установившего моральную основу китайского общества, ему так и не удалось победить до конца. Основа конфуцианства — почитание семьи и культ предков. Мао хотел заменить этот культ культом Китая. Но преуспел не до конца. Современные китайцы так же лепятся к семье как пчелы, и то, что их сейчас 1 миллиард 400 миллионов душ, это все виновен старый Конфуций. А то, что все они накормлены — это заслуга старого, хитрого крестьянского императора — толстяка Мао.
Вольфганг Амадей Моцарт: божественный
Такой же неоспоримый гений, как голландец Ван Гог. Музыка, отличающаяся от всякой другой светлыми ритмами вдохновенного путешествия. (Моцарт любил перемещаться, не выносил жить на одном месте.) Еще в России, кажется, в 1971 или 1972 году, в период наибольшего пика влюбленности в Елену Козлову, я, помню, записал такие моцартовские ритмы:
И рощи и холмы, да-да,
Это… все да, это все да,
В карете шелковый шнурок,
Ты отведи головку вбок,
Не видно мне красивой этой рощи,
Уже карета так тепла,
Жаровню милая зажгла,
А за каретой ветер шарф полощет…
И рощи и холмы, да-да,
Это все да, это все да…
В книге стихов «Русское» опубликовано мое пророческое стихотворение, где я предвидел в Москве появление в жизни Елены молодого графа, в Италии! Через десяток лет!
Это их граф молодой пригласил,
И по просьбе старого графа
Они поели из легких сил
И пса угостили: «Аф-фа!»
Там есть строки:
Моцартово копытами посвистывая,
А за ними углубился пес,
Книгу цветов перелистывая.
В конце 70-х через несколько лет после того, как рассыпалась наша семья, Елена вышла замуж за итальянского молодого графа де Карли, у графа был жив его папа, старый граф, бывший фашист, соратник Муссолини. Моцартовские темы и ритмы в моих стихах появились именно с появлением Елены. Ее маньеристское тельце «скелетика» (как назвал ее Сальватор Дали) вдохновляло меня на легкие и светлые моцартовские мелодии. Стихотворения, посвященные ей в сборнике «Мой отрицательный герой», не все легки, но среди них есть такое:
Там Вы бродите поляной
В светлом платье, рано-рано
И в перчатках полевых.
Эдичка их подымает,
И целует, и кусает,
И бежит к тебе, кричит.
Добрый дядя, тихий жид,
На горе в очках стоит
И губами улыбается,
Он волнуется, качается.
«Ну, иди обедать, детка!»
Детка с длинною ногой,
Сквозь траву шагая метко,
Отправляется домой.
С нею дикие собаки.
Я последний прибежал,
И за стол садится всякий
И целует свой бокал.
Там еще много перлов, но ограничусь тем, что вспомнил. Приехав в Париж в 1980 году, я быстро набрел на дом, где жил Моцарт, на улице Франсуа Мирон, если идти по ней от станции метро Сен-Поль, то в конце концов набредешь на высокие старые деревянные ворота. Такое впечатление, что тяжелые эти овальные вверху ворота уже были, висели на тех же петлях и во времена Вольфганга Амадея, что их широко распахивали, чтобы выпустить высокую карету. Над воротами круглое окно, за воротами — тесный старинный двор, мощенный булыжником. Я проходил мимо дома Моцарта много лет подряд. Все мои три квартиры в 3-м арондисмане находились на расстоянии 5 или 10 минут ходьбы от дома Моцарта. Я всякий раз думал одно и то же: насколько дом, где жил в Париже Моцарт, соответствует Моцарту, или, точнее, моему представлению о Моцарте.
В Мюнхене также есть дом Моцарта, он, подобно мне (точнее, я подобно ему), жил везде и нигде не имел дома. Потому мемориальных табличек с указанием дат и уведомлением, что здесь проживал-де Вольфганг Амадей, должно быть множество. В Мюнхене дом Моцарта — реплика, бетонная копия, оригинал разбомбили отморозки янки и их английские союзники — подлое протестантское племя, чтоб им пусто было.
То, что Амадей был вундеркиндом, что папочка-музыкант истязал его, как нынешние родители истязают девочек-моделей, широко известно. Что в пять лет Амадей виртуозничал перед курфюрстом Саксонским, тоже хорошо известно. Букли парика, пудра, дамы и вельможи в чулках — и маленький, горбоносенький, должно быть, битый вундеркинд со скрипочкой. Эпизоды эти все лишь дневник казарменной муштры. Менее известно, что жизнь бродячего музыканта очень нравилась Моцарту, что ему быстро надоедали одни и те же стены, один и тот же пейзаж из окна. Поэтому я и называю его музыку — ритмами вдохновенного путешествия, ибо он бежал всегда, был всегда в карете.
Он был счастливым человеком, так же как осиянный гением Ван Гог. Оба светлые, положительные, легкие, счастливые гении. Жизнь Моцарта часто представляют как трагедию. Ну нет же, никак! Это была счастливая, полная, великолепная жизнь. Ну ясно, обыватель не понимает, как это не иметь дома, передвигаться из столицы в столицу Германских княжеств, существовать на подачки от курфюрстов, князей или королей. А Моцарт так жить любил. Общепринято, что якобы он умер в глубокой бедности. Да нет же, его похоронили в общей могиле не по причине бедности, но из-за жадности его вдовы, она не хотела тратить несколько сотен талеров на похороны мужа, расчетливо и разумно предполагая, что мужу уже все равно, какие у него будут похороны, а семье талеры пригодятся. Какое разумное германское существо была его вдова, не правда ли! Но и вдову можно оправдать, или хотя бы понять, ведь остались дети, дети обыкновенно хотят кушать, независимо от того, умер ли их папочка-гений или жив.
Во всей дурной и ошибочной пьесе Пушкина «Моцарт и Сальери» есть одна правдивая нота. Это когда Сальери досадует, что вот слава и талант достались «гуляке праздному»! Не гуляке, конечно, но Моцарту музыка давалась легко. Он был легкий, шампанский гений. Он не пыхтел, не хмурился, не потел, не встряхивал шевелюрой. Он набрасывал свои ноты, доедая пирог, стоя на одной ноге, кося на дверь. Поскольку путешествия в каретах были медленными, проезжая из столицы курфюрста в столицу какого-нибудь Германского королевства за пару недель, Моцарт успевал набрасывать свою дивную музыку. О том, что он действительно писал в карете, я узнал совсем недавно, а распознал его ритмы вдохновенных путешествий еще при первых прослушиваниях его музыки. Это же каретные ритмы.
Его сексуальная жизнь была беспорядочна и гениальна. Недаром он наряду с «Волшебной флейтой» и «Cosi fon tutti» написал «Дон-Жуана». Служанки и госпожи падали под действием его чар. Возможно, еще и этим объясняется жадность его вдовы, пожалевшей талеров на захоронение неверного супруга.
В 1981–1984 годах, три года с лишним, я жил совсем близко от Моцарта, практически по прямой, по рю дез Экуфф спускался метров 50 до рю де Риволи, пересекал ее, и следующая улица, параллельная рю де Риволи,— была его, Моцарта, рю Франсуа Мирон. В те годы я еще не был такой собранной боевой машиной, как впоследствии, позволял себе напиваться. Пьяный я ходил ночами к объекту моего поклонения: к дому Моцарта. Улица Франсуа Мирон — узкая. Я становился на противоположной стороне и наблюдал за домом 132, за окнами и воротами. Что я ожидал увидеть? Призрак Моцарта? Скорее, я настраивался таким образом на величие.
Был еще один дом в Париже, куда я порой отправлялся на поклонение пьяный. Это отель «Лозен» (или «Пимодан») на набережной Анжу, на острове Сен-Луи, где квартировал Шарль Бодлер. Оба дома разделяло очень небольшое расстояние. Достаточно было пересечь Сену по мосту Мэрии.
Граф Яков Шутов по моей просьбе подослал мне в тюрьму некоторые дополнительные сведения о великом Моцарте, и они устройнят, упорядочат, надеюсь, уже сказанное мною.
Когда он родился 27 января 1756 года в Зальцбурге, в семье владельца лавки москательных товаров, то его назвали по-купечески, напышенно: Иоганн-Хризостомус-Вольфганг-Готлиб. Потом он самопереименовался. Мать кормила его водой, а не молоком, так как увлекалась модными тогда теориями. Отец делал из него музыканта с пеленок. Шести лет от роду он уже играл перед Баварским курфюрстом Максимилианом и императором Францем I, а в восемь лет — перед королем французов Людовиком XV. Его туда-сюда возили и держали на более чем странной диете: каша ячменно-маковая и чай из белокопытника. В том же 1764 году он играл и перед английским королем Георгом III. После визита в Англию мальчик заболел и не вставал до 1766 года. В 1767 году он играет перед королем неаполитанским Фердинандом III. В 1770-м, в возрасте 14 лет, получает орден Золотой Шпоры от папы Климента XIV.
Музыку пишет с восьми лет. В 1773-м ставит при дворе императрицы Марии-Терезии в Вене оперу «Асканио в Альбе». В 1778 году принят на службу в качестве придворного органиста. Ставит оперу «Идоменей» для Баварского курфюрста Карла-Теодора. Живут как муж и жена со своей двоюродной сестрой. Находился в не совсем понятном нашим современникам подчинении у архиепископа Зальцбургского, он же князь Коллоредо. В 1781 году Моцарт ссорится с архиепископом, грубит ему и пишет прошение об отставке с госслужбы. В том же году знакомится со своей будущей женой Констанцией Вебер. В 1782 году, в возрасте 26 лет, женится. Ставит в Вене оперу «Король Теодоро в Венеции». В 1787-м ставит «Женитьбу Фигаро» для императора Иосифа II. В 1784-м становится масоном ложи «К Коронованной Надежде». В 1787 году ставит оперу «Дон-Жуан» в Праге.
«Сведения об ухудшении финансового положения,— пишет Яков Шустов далее,— и его нищете к концу жизни — не верны. Доходы Моцарта колебались от 3 тысяч до 6 тысяч гульденов в год (1.000–2.000 тогдашних рублей — доход среднего помещика). Все последние годы сильно болел вместе с женой, пытался разбогатеть игрой. Из вредных привычек, помимо игры, курение. Жена постоянно лечилась в Бадене. В 1791 году пишет «Волшебную флейту», прерывает написание для постановки в Праге для императора Леопольда II оперы «Милосердие Тита». В Вене ставит «Волшебную флейту», получает заказ на «Реквием» от графа Вальзег-Штуппаха. Пишет последнюю вещь: «Кантату Вольных каменщиков», ее исполняют за 17 дней до его смерти. Через два дня он заболевает и больше не встает. Дописывает «Реквием» и умирает 5 декабря 1791 года. Хоронят его 7 декабря по III разряду (бюргер среднего достатка), а не в нищенской могиле. Могила затерялась до двадцатых годов XIX века, когда возник интерес к Моцарту. (В эпоху войн и революций, начавшуюся еще до его смерти, было как-то не до могилы.) Тогда же возникла легенда об отравлении его Сальери. Они не дружили, а пить вместе не могли, по причине нелюбви Моцарта к итальянцам.
В 1936 году вышла книга, автор М.Людендорф, «Жизнь и насильственная смерть Моцарта» — мракобесная, о якобы ритуальном умерщвлении Моцарта евреями и погребении по масонскому обряду (типа Есенина).
Никаких парадоксальных высказываний (я просил Шустова находить парадоксальные высказывания) Моцарт не делал. Кроме детских несуразностей, вроде желания жениться на императрице Марии-Терезии (она была старая императрица) в благодарность за какой-то подарок. В перерывах между болезнями прыгал через стулья, скакал на лошади, мяукал, кувыркался. За свою жизнь не совершил поступков, не считая ссоры с архиепископом Зальцбургским (к церкви относился прохладно). Сочувствовал американской и французской революции. Под конец жизни особо проникся масонскими идеями. Постоянные переезды в каретах в больном состоянии и неквалифицированное лечение явились причиной смерти. Нужен был постельный режим. С начала XIX века о Моцарте нагорожено такого, что узнай он все это, то пошел бы работать таможенником или углекопом, лишь бы не писать музыки»,— заключает граф Шустов. Спасибо ему за сведения.
Так что Моцарта убила карета. И она же подарила ему гениальные ритмы и мелодии.
О масонстве вспоминаю вот что. В Париже в 3-м арондисмане, недалеко от музея Пикассо, есть улица Язычников (rue Payenne), тихая и короткая. На ней расположен зеленый, тихий сквер между двумя павильонами непонятного значения. В сквере здесь и там возлежат архитектурные фрагменты: остатки колонн, фризы колонн, красивые, но банальные в таком городе, как Париж. В сквере, я однажды обнаружил это в конце дня, с наступлением сумерек, пел соловей! Чарующее его пение очень вязалось, гармонировало и с нежилой улочкой (кажется, только пара ворот обнаруживали внутри жилые дворики и запаркованные в них автомобили), и с остатками колонн. И еще загадочным домом, всегда глухим, на фасаде его были высечены пирамиды, циркуль, мастерок и еще что-то. Это было здание некоей масонской ложи. По предназначению оно и было выстроено еще в XVIII веке, если не ошибаюсь. Здание расположено напротив сквера, чуть наискосок.
Это все не о Моцарте, конечно, это о масонах. Но вот в чем дело. Однажды, слушая чарующее пение соловья, я обратил внимание на небольшую белую табличку, привинченную к ограде сквера. На табличке было сказано следующее:
«В этом сквере установлено устройство под названием «соловей», при особом падении солнечных лучей устройство включает фотоэлемент, а тот в свою очередь включает пение лучшего соловья департамента Вогезов».
Вот так. Почему-то я думаю, что все это: масонский дом, сквер и устройство «соловей» связаны с Моцартом.
Джон Леннон: жучило
Помню, о том, что его убили, сообщила мне в Париже моя бывшая жена из Рима. «Ты спишь? Вставай, Джона Леннона убили!» — заявила она. «Меня это не колышет»,— заявил я. «Целое поколение потеряло своего лидера»,— сказала она. Тут я рассвирепел: «Терпеть не могу «Битлз», жадных рабочих подростков из Ливерпуля, дорвавшихся до «money». Убили — и хорошо, избавили его от гнусной старости. Не будет коптить небо еще один пенсионер-песенник. Тому парню, что его пришил, спасибо сказать надо». «Ты злобный, Лимонов, и завидуешь Джону»,— сказала Елена. И повесила трубку. Было это в декабре 1980 года.
В 1981 году я полетел в Нью-Йорк. Среди прочих ностальгических прогулок по городу я совершил одну — к месту моего обитания — на Бродвее и 69-й стрит, к отелю «Эмбасси». Отель купили японцы, выпотрошили его внутри, оставив каркас нетронутым, оклеили вишневыми обоями, и получился дорогостоящий апартмент-билдинг под названием «Эмбасси Тауэр». Я вошел в вестибюль и тотчас вышел, так было противно. Пройдя несколько улиц к северу, я свернул к Централ-парку, там на углу и помещалась знаменитая резиденция «Дакота», где жил Леннон со своей мамой-любовницей Йоко. Именно там, у выхода из резиденции на углу 72-й стрит и Централ-парк-Вест авеню, его убил Марк Чапмэн. Марк Чапмэн путешествует с работы охранника на работу спасателя лодочной станции. Чапмэн любил Леннона и относился к нему как к своему близнецу-двойнику. Чапмэн остановил Леннона, выходящего из дома «Дакота», попросил у него автограф, переговорил с ним, а потом застрелил его из дешевого револьвера, вот не помню, какого калибра, но из тех, что все же стреляют прямо, а не под мышку человеку, нажимающему курок. Убить из этого куска металлолома, да еще среди бела дня, на глазах охраны — крайне затруднительно. Однако Леннон скончался от полученных ран.
Местность вокруг была мне знакома. Я жил в «Эмбасси» в 1977 году и ходил на пятак у входа в Централ-парк с 72-й улицы вместе с нашими черными из отеля, слушать барабаны наших черных, изготовленные из бензиновых бочек. Пятак этот — скамейки, фонари, мусорные баки между ними — помещался как раз напротив дома «Дакота», через поток автомобилей, прущий вдоль Централ-парка безостановочно. В 1981-м я погулял там, на асфальте мелом была начертана фигура Леннона и лежали цветы. Я пересек поток автомобилей, посидел на скамейке, вспомнил с теплым чувством 1977 год и своих соседей по отелю. Потом я ушел, а продолжение истории можно найти в моем документальном рассказе «Night supper».
Еще в конце 1960-х в Харькове матрос Павел Шеметов показал мне обложку пластинки «Битлз». Там Маккартни босиком, они один за другим пересекают улицу, Леннон в белом костюме, Джордж, кажется, в джинсах, все расклешенные. Обложка мне понравилась, красочная. А вот их музыка на виниловой пластинке оставила меня равнодушным. Павел, он же Поль, обожал «битлов» и даже сшил себе у харьковского армянина «битловские», как он называл их, сапожки.
История «Битлз» вульгарна. Они на самом деле та усредненная формула, которую шоу-бизнес предпочел извлечь из всего многообразия музыкального ассортимента того времени. Это безопасная формула. Улыбчивыми девочками, сладкоголосыми очаровашками высыпали на сцену эти рабочие ребятки. «Вокальный квартет» назвали бы их на советской сцене. Вокальный квартет щебетал, резвился, встряхивал пушистыми челками и гривками, кланялся, производил звуки и движения в усредненном диапазоне. Заметьте, «битлз» никогда не позволяли себе ни истерики, ни экстаза. Средний диапазон. Они всех устраивали. И поклонников современности — песенки были незатейливы и музыкально просты, и левых — рабочие ведь парни, истинно «пролетарское искусство», и консерваторов — ведь нет экстаза, нет истерики, все приличненько. И поехали ребятки по миру, под простые припевчики, под дважды два — четыре. Счастливо заколачивая деньгу. Record business был тоже доволен — деньги эти середнячки принесли огромные.
Я не присоединился к толпам, рукоплескавшим «Битлз». Я ждал своего часа, пробавляясь Элвисом Пресли и ансамблем Советской Армии, до того времени, когда появились «Sex Pistols» и «Clash». Вот тут я сказал себе: «Это моя музыка!» Мне нужна от музыки (и от искусства вообще) трагедия, социальный протест, истерика бунта. У «Битлз» всего этого нет. Их мир — веселеньких цветов: голубого и розового, как спаленка богатого ребенка. Потому я за Чапмэна, против Джона. Его японка — дряблая, глупая старуха, еще более отвратительна, чем сам плоский носатый Джон. Судя по воспоминаниям друзей и знакомых, Йоко принесла Джону удовольствие секса. По всей вероятности, у него был особенный вкус, тот, который парижские юные гурманы ходят удовлетворять в самом начале улицы Сен-Дени, вблизи от ее пересечения с рю де Риволи. Я говорю о любви к мамочкам. Там мне показывали одну старушку, якобы даже с протезом вместо ноги. Джон и Йоко счастливо позволили сфотографировать свои маслянистые голые тела, бросая вызов рабочим семьям Ливерпуля. Конечно, он сделался счастлив, встретив Йоко. Свежие английские девочки «группи» до сих пор его не удовлетворяли. Для счастья в постели ему нужна была тухлая, коротконогая японская мамочка, много старше его. Она-то знала, что делала, пробираясь к Джону в постель, хитрая «мамочка». Она успокоилась на бешеных миллионах, а Чапмэн вольно или невольно стал ее соучастником, он сделал ее единоличной владелицей миллионов. Самое разумное для нее было бы выйти замуж за Чапмэна, а ему — жениться на Йоко Оно.
В прежние времена, в добитловскую эпоху, в отдаленные века, не было ни видеосъемок, ни киносъемок, ни магнитофонов, потому весь мусор культуры стекал в дыру времени. Оставались же для нас, потомков, только те, кого избрали специалисты-современники, кто поистине поражал. Сейчас мусор не стекает, он накапливается в памяти человечества, хочешь не хочешь, в виде дисков, записей, поражающих воображение сумм гонораров. Потому не быстро получится отскрести от памяти человечества Джона Леннона.
«Есть только один класс, который думает о деньгах больше, чем богатые,— это бедные»,— разумно заметил соотечественник Леннона — Оскар Уальд. Жадные ребята из Ливерпуля, те, кто уцелел,— обзавелись детьми, внуками от многочисленных браков. Их бездарные дети бездарно поют и дают бездарные интервью. Они навязали нам себя, эти хваленые «жуки». Те еще жуки эти ребятки и их семьи.
Следует заметить, что появились они и их феноменальный успех стал возможен только в контексте 60-х годов, в контексте «молодежной революции» во всем мире. Студенческих бунтов в Праге и в Париже в 1968-м, в Германии, и в контексте движения «хиппи», распространившегося из Калифорнии по всему миру. Как ни странно, толчком взрыву молодежных бунтов и возникновению молодежной культуры послужило событие вовсе не европейское и не американское — толчок пришел из Китая. Там по зову Великого Кормчего Мао подняли руки с красными цитатниками десятки миллионов школьников и студентов. «Красная гвардия» — знаменитые хунвэйбины избивали, оплевывали и истязали, устраивали массовые судилища над чиновниками и руководителями государства. Ведь Мао сказал: «Огонь по штабам!» Мао хотел выбить новых коммунистических чиновников из кресел. Школьники и студенты принялись выбивать. Хунвэйбины вызвали шок в западном мире. Фотографии разбушевавшейся молодежи Китая не сходили со страниц газет и с экранов телевидения. И, как круги по воде, пошли отдаваться китайские события в европейских столицах. Сработал эффект подражания. Китай сдетонировал и парижскую революцию 1968 года, и события в Праге, Берлине, Беркли. На этой волне внимания к молодежному искусству проканали и «Битлз». В контексте другого времени им вряд ли бы светил такой успех, то есть они еще и нахлебники, приживалки, нажившиеся на моде на молодежь.
И продолжающие наживаться. Если в 1985 году Майкл Джексон купил оптом права на песни «Битлз» за 50 миллионов долларов, то сегодня, шестнадцать лет спустя, Пол Маккартни, оппонент Леннона, собирается откупить их у Джексона за 700 миллионов долларов! Бездарные пассивные толпы нуждаются для своей пассивной овощной жизни в музыкальных шумах. Запакованные под этикеткой «Битлз» порции музыкальных шумов пользуются бешеным спросом. Спасибо Марку Чапмэну. По сути, половина из этих 700 миллионов должна была бы принадлежать ему. Без пули Чапмэна история «Битлз» не вытянула бы столько лет.
Чарлз Мэнсон: чудовище обывательских снов
Он вышел из тюрьмы, кажется, в 1965-м и попал в район Ашбери Хайте в Сан-Франциско, где как раз и бродила та среда, которая привела к возникновению движения «хиппи». Среда, где свободно обращались наркотики, где Тимоти Лири проповедовал «иллюминацию» с помощью таблеток ЛСД, а Кэн Кэйси (автор «Полета над гнездом кукушки») экспериментировал жизнь в коммуне и промискуитет. Теплый климат Сан-Франциско способствовал простоте нравов и цыганскому стилю жизни хиппи. Свободная любовь, наркотики, книги Карлоса Кастанеды, Тимоти Лири, модный «Одномерный человек» Герберта Маркузе — эта среда притягивала к себе всякого рода витий, бездельников, революционеров, мракобесов, мошенников и просто любителей потрахаться с девушками.
Мэнсон, в отличие от всей этой публики, был взрослый, серьезный мужик. Тридцать лет, сидевший в исправительных заведениях и тюрьмах с малолетства. В тюрьме он выучился играть на гитаре и неплохо исполнял песни своего собственного сочинения. Он появился в Ашбери Хайте сразу по всем вышеприведенным причинам: и чтобы потрахаться с девушками (после пребывания в тюрьме — первая потребность), и чтобы попытаться пристроить свои песенки (в той среде бродили всякие люди, музыканты тоже случались). Ну и, конечно, его привлекала общая атмосфера расслабленной вседозволенности. Невысокого роста, коренастый, с кривыми ногами, он отпустил длинные волосы и вписался в толпу неотличимых друг от друга существ обоих полов. Он, конечно, не мог претендовать на роль духовного лидера или наставника — гуру, на которую претендовали и Кэн Кэйси, и Тимоти Лири, и Кастанеда (хотя физически этот прятался от поклонников), или профессор Маркузе.
Однако Мэнсон, как оказалось, обладал несомненными качествами лидера. В короткое время вокруг него собралась «семья», состоявшая в основном из молодых девушек. Все они были связаны с Мэнсоном интимными отношениями. В основном это были девушки из неблагополучных семей. Впоследствии они свидетельствовали приблизительно одно и то же:
«Чарли раздел меня и подвел к зеркалу. «Посмотри на себя, какая ты красивая, какой у тебя прикольный живот, сильные ноги». Никто мне никогда не говорил такого. Родители называли меня дурнушкой и толстушкой. Чарли был такой добрый! Никто в жизни не относился ко мне так хорошо, как Чарли».
Неудивительно, что за своим Чарли девушки готовы были идти повсюду. «Семья» путешествовала из квартиры в квартиру, количество членов «семьи» увеличивалось. Помимо нескольких десятков девушек в «семье» состояли несколько мужчин; самый известный — Бобби Босолей, впоследствии осужденный вместе с Мэнсоном. От всех других коммун Калифорнии мэнсоновская «семья» отличалась безусловным подчинением своему харизматическому лидеру и тем, что в ней преобладали девушки. Впоследствии, после ареста и суда над Мэнсоном, в прессе распространялись слухи о том, что якобы Мэнсон сдавал своих девочек напрокат «Ангелам Ада» (моторизованной банде) и другим полукриминальным группировкам. Нет нужды ни обелять, ни очернять Мэнсона, нравы калифорнийских хиппи были таковы, что два, три или десять «Ангелов Ада», пропущенные девчонками через себя, не имели никакого значения. Количеством мужчин хвастались. В удивительной документальной книге Тома Вулфа 60-х годов «Coal acid taste» красочно описываются нравы одной из коммун, объединившихся вокруг Кэна Кэйси — культовой фигуры того времени (он написал свою культовую книгу «One flight over the cuckoos nest» еще в 1961 году). Там есть эпизод, где муж подбадривает и болеет за жену, промокает ее лоб и интимные части полотенцем во время ее соитий с астрономическим количеством самцов. Так что Мэнсон не был исключением. По всей вероятности, он оказался пассионарным харизматическим лидером низшего порядка (воспитание, образование и пр.), но он оказался лидером, как хакасский шаман или сибирский раскольник. Или рабочий, увидевший во сне Христа и основавший секту. Неудивительно, что его девочки впоследствии говорили: «Чарли как Христос!». Чарли стал подражать Христу, потому что никаких других примеров лидерства над людьми он не знал. Не его вина, что общество сделало его злодеем. Он собрал несчастных и убогих детей цивилизации и дал им отеческий звериный комфорт, ласкал некрасивых девочек и их гениталии, а в ответ они давали ему все — подчинение и жизнь. Сексуальный комфорт недооценен в нашем обществе, между тем он огромная ценность, выше золота, пачки долларов, пушнины или «кадиллака». Мэнсон понял это и преуспел в своей небольшой «семье». В последние годы, в те несколько лет, которые существовала «семья», они метались по Калифорнии, жили на ранчо какого-то старика, пытаясь убедить его завещать им ранчо, они искали убежища от грядущей ядерной войны в Долине Смерти. И пытались продать песни Мэнсона в Голливуде. Все эти поступки невысокого пошиба свидетельствуют об отсутствии глобальных планов. Затем они как-то скоропалительно совершили ряд преступлений в Беверли-Хиллз, которые, собственно, и заставили вздрогнуть весь мир. Интересно, что сам Мэнсон принимал участие только в одном убийстве — музыкального продюсера, нанес ему удар саблей, и этот удар не был причиной смерти. Обычно удары, ставшие причиной смерти, наносил Бобби Босолей. Красавчик-блондин, отвечающий за свою фамилию своей внешностью. «Beausoleil» в переводе с французского — «красивое солнце». «Семья», или банда, скорее всего пыталась грабить богатые дома в Беверли-Хиллз, надо было как-то жить: кроме тридцати или более самок, в «семье» были и дети. Порою спасало воровство в супермаркетах. Такое впечатление, что и в дом актрисы Шарон Тейт, жены польского режиссера Романа Поланского, они залезли в поисках еды и наживы. Возможно, они видели, что сам Поланский уехал. Бобби Босолей и четверо девиц проникли в дом и нашли там, против ожидания, целую компанию. Кроме беременной Шарон Тейт (она сыграла роль в thriller'e Поланского «Розмари бэби») там находился парикмахер Фриковски, друг Поланского и семейный поставщик наркотиков, и пожилая пара — супруги. В момент проникновения в дом непрошеных гостей вся теплая компания закончила ужинать и приняла наркотики. Первая часть случившегося напоминала сцену убийства Куилти Гумбертом в романе Набокова «Лолита». Шуточки наркоманов и хиппи, однако, постепенно приняли зловещий характер, девчонки неумело искололи ножами Шарон Тейт, окровавленный Фриковски выбежал в сад и почти убежал бы. Короче, кровавый гиньоль. Кое-как забив всю компанию, «семья» испугалась. Вызвали Чарли. Чарли придумал представить дело так, чтобы подумали на негров. Потому стены украсили надписями «Death to pigs!» и «Black power!», сделанными кровью, и «Kpelter-skelter!» (кажется, название песни самого Мэнсона) и, все перевернув, ушли.
Попались они уже на следующем набеге — на резиденцию супругов Ла Бианка. Там они тоже оставили свои надписи, но провести полицию не смогли. Кто-то их видел. Их арестовали. Дело Мэнсона нанесло огромный ущерб движению хиппи. Теперь реакционная пресса имела основание объявить молодежную контркультуру ущербной и патологической. Дело Мэнсона отвратило от движения хиппи интеллектуалов и попутчиков. С 1968–1969 годов солнце движения стало закатываться. Общество так толком и не поняло, кто был Мэнсон. Его объявили антихристом, маньяком, тогда как он по сути своей лишь начитанный рабочий, увидевший Христа и истолковавший видение как зов. И основавший свою секту. Никакую гражданскую войну между белыми и нефами Мэнсон не собирался проповедовать. Он лишь сумел впечатлить собой несколько десятков девчонок до такой степени, что в 1975 году, семь лет спустя после ареста Мэнсона, одна из его подружек пыталась убить президента Форда из дешевого револьвера. Она села в тюрьму, повторяя: «Я сделала это для Чарли!» Сам Мэнсон находится в федеральной тюрьме Сан-Квентин уже 33 года. Каждый раз, когда его пытаются освободить власти, граждане подымают шум, и «чудовище» остается в заключении.
Жан Марэ: весь Париж
В 1996 году, в последний мой приезд в Париж, писатель, мой бывший босс Жан-Эдерн Аллиер пригласил меня на свою литературную телепередачу, она повторяла формулу некогда знаменитого «Апострофа» Бернара Пиво. В передаче участвовал царственный, в черном костюме, с серебряной бородой Жан Марэ. Еще присутствовал Нобелевский лауреат, некий ирландский поэт, но, конечно, гвоздем программы, центром внимания был легендарный актер. Думаю, ему было уже лет восемьдесят или более того.
Я глядел на него во все глаза. Еще бы, культовый актер французского кино, друг, и любовник, и питомец Жана Кокто, исполнявший главную роль в премьере пьесы Кокто «Les enfants terribles», партнер Милен Демонжо и де Фюнеса по культовому фильму «Фантомас»! Сидя там на телеплато напротив Жана Марэ, я мысленно измерял расстояние, отделявшее меня, мальчишку из харьковского заводского предместья Салтовки — там на стенах пацаны писали «Фантомас!»,— до меня нынешнего. И от безмерности этого расстояния мне было хорошо.
Борода на фоне черного свитера, костюм — он выглядел как строгий, красивый, очаровательный прелат. Он был умен, корректен, строен и бодр. До этого я как-то встретил на литературном коктейле в издательстве «Albin Michel» Милен Демонжо, в простой шубе с коротким мехом, толстую и изрядно старую. Я был разочарован: та самая белокурая красотка, что играла коварную и очаровательную миледи в «Трех мушкетерах», стоит передо мной с двумя подбородками, противно дымя, в старой шубе! О нет! Подружка журналиста Фандора, партнерша сногсшибательного комика Луи де Фюнеса, вся сказка и сияние! Лучше б я не встретил ее. А вот Жан Марэ был как надо. Таким и должен выглядеть Великий Артист в старости.
Есть исполняющие роли актеры. Эти — низшая форма актерской жизни, более или менее удачливые профессионалы. А есть личности, в своем облике несущие некий изначальный архетип, эталон. Таков Жан Марэ. Кого бы он ни играл — важен Жан Марэ. Именно он появляется перед нами на экранах кинотеатров и на экранах телевизоров. Жан Марэ персонаж человеческой трагедии. Жан Марэ — эталон мужчины.
Удивительно, может быть, что эталон мужчины — гомосексуалист. Между тем это обстоятельство не то что не имеет значения, оно остается в стороне: высокий, широкий, широколицый Жан Марэ играет в «Фантомасе» и журналиста Фандора, и красноглазого Фантомаса,— настоящих мужчин. Подобные случаи известны: элегантный мачо — зверь со щеточкой усов — американский актер германского происхождения Эролл Флинн также был гомосексуалистом, как и герой-любовник американского кино 20-х годов — Валентино. Вообще говоря, представлению о «пидорах» и «гомиках» никак не соответствовали бравый вояка полковник Эрнст Рэм и его братва-штурмовики, головорезы и преступники.
О Жане Марэ — любовнике горбоносенького, поэтичного, энергичного и скандального Жана Кокто — можно сказать, что он сделан из единой цельной глыбы. Цинично говоря, без сомнения, в этой паре Кокто был женщиной, а Жан Марэ — к счастью для нас — мужчиной.
В поисках священных монстров-типажей я вынужден, увы, пятиться от наших дней в далекое или не очень далекое прошлое. Современность или вовсе не порождает их, или порождает крайне мало. И вот, чтобы отыскать эталоны светского мужчины, следует спуститься далеко к Жану Марэ. На роль мужского эталона, конечно, мог бы претендовать и претендует Ален Делон, не засори он свой послужной список десятками фильмов-паразитов. Большинство современных актеров не могут сохранить себя под ударами ролей, которые они играют.
Жан Марэ вышел победителем. У него чистый послужной список. Глядя на него, вспоминаешь Кокто, Андре Бретона, Элюара, Арагона, Пикассо, Дали, Макса Эрнста — всю экстравагантную толпу французских и эмигрантских талантов того времени, и Париж, разумеется. Жан Марэ — это и Париж, весь Париж. Аристократический Париж актеров, художников, авантюристов, знаменитостей. Жан Марэ символизирует Париж. Навеки. Веселый, шикарный Париж Эйфелевой башни и Фантомаса. Такого актера уже никогда не будет.
Норма Джин: девка
Я всегда нравился таким, как она. А она — парикмахерша, продавщица в магазине, ее тип знаком мне с младых ногтей. Такие подружки были у младшей сестры Сани Красного — Светки: выжженные перекисью волосы, бантиком широко намазанные губки. Попав в Америку, я проверил себя на американских парикмахершах, продавщицах и официантках. Работало безоговорочно. Простые, немудрящие девки быстро сходились со мной, заговаривали, задевали бедром, поддергивали повыше юбки. Взаимная симпатия типажей работала, презирая языки и национальности. Дело в том, что мне нравились вульгарные, простые, крашеные, хрупкие стервы с видавшими виды сиськами. А Норма Джин, даже ставшая Мэрилин Монро, была и осталась такая.
Я говорю, что я бы ей понравился. Сейчас якобы объявился простой итальяшка, с которым она жила и встречалась года четыре, невзирая на то, что жизнь ее в это время пересекали в последовательности или все сразу: бейсболист Джо Димаджио, драматург Артур Миллер и якобы Ив Монтан (последнее утверждали лишь тщеславные супруги Ив Монтан с Симоной Синьоре) и другие знаменитости.
Она играла в идиотских фильмах. Самый глупый, он же самый известный «Некоторые любят погорячее», желудочно смешная якобы история о двух безработных музыкантах-мужчинах, выдающих себя за девушек и поступивших в женский оркестр. Свинячий юмор. Спасает всю эту карусель идиотизма только святая идиотка Мэрилин. Только она естественно правдоподобна в своей святой глупости, ибо между ног у нее — и это все понятно и зрителям — находится храм, в котором царят блаженство и нирвана. Как и подобает божеству, Мэрилин тупа, непристойна, наивна, развратна и потому свята. Мэрилин Монро жаловалась на то, что ей не дают настоящих ролей. Как пример единственной настоящей роли, она приводит роль официантки в фильме «Bus stop» — «Автобусная остановка». Ее партнер в фильме — ковбой, явившийся в город на что-то вроде выставки достижений народного хозяйства. Он участвует в соревнованиях, где надо было, если не ошибаюсь, проскакать на бычке без седла, лезет на шест за висящими там ковбойскими бутсами… Короче говоря, колхозник приехал на ВДНХ и познакомился с официанткой — типично советский сюжет. Две империи, несмотря на несходство политических режимов, как видим, создавали идентичные культурные схемы. Роль в «Bus stop» — в сельскохозяйственной комедии о колхознике и официантке — самая серьезная роль Монро. Это она сама сказала, бедняга!
В поздней книге Трумэна Капоте «Музыка для хамелеонов» есть запись встречи с Мэрилин Монро. Оба отправляются в церковь, на отпевание некоей светской тусовочной дамы — знакомой и Трумэна и Мэрилин. Она не знает, что надеть, гомосексуалист дружок Капоте советует что. Мэрилин надевает какие-то черные соблазнительные кружева, и черный длинный шарф охватывает ее белокурую головку и похабное личико. Развратная монахиня. Друзья пикируются постоянно, наглый Трумэн рассказывает, как он выспался некогда с Эроллом Флинном — культовым актером времен 2-й мировой войны (позднее, уже после смерти, оказалось, что Флинн работал на немцев), игравшим всяких жестких-мачо-типажей. «Ну и как?» — спрашивает Мэрилин. «Если бы он не был Эроллом Флинном — нечего было бы и вспомнить»,— отвечает циничный Капоте. Оба «имеют хорошее время» в этих своих сплетнях. Рассказанная талантливо история похожа на отпевание, рассказывает о Мэрилин Монро больше, чем все ее фильмы. Девка — вот краткая характеристика Монро. Парикмахерша, косметичка, продавщица, похожая на всех парикмахерш, косметичек, продавщиц и официанток Америки и всего мира. Девка.
Ее высокопоставленные мужья — лучший бейсболист Америки Джо Димаджио, драматург Артур Миллер — это как ордена и медали на груди генерала, это отмечены социальные заслуги девки Нормы Джин. Ее мужья не для постели, это ее награды, которые по смерти генерала несут на подушечках впереди гроба.
Апофеоз Девки наступил, когда она на дне рождения президента Джона Кеннеди стоит пьяненькая от шампанского, влитая в бело-жемчужное платье, мятые сиськи придавлены, и поет
«Happy Birthday to you,
Happy Birthday to you,
Happy Birthday mister President,
Happy Birthday to you».
Голос плывет, в нем пьяное самодовольство, спокойствие насосавшегося клопа. И незачем спрашивать: а спала ли она с президентом? Конечно, да.
Джон Кеннеди был известен как womanizer еще когда учился в университете: Он не пропускал ни одной юбки. Несмотря на хорошенькую в молодости жену Жаклин, он и впоследствии продолжал следовать своей традиции и инстинктам. История не детализирует для нас — хороший он или плохой был мужчина, не детализируется длительность или интенсивность полового акта (а читатели бы очень одобрили подобные детали, не сомневаюсь!), отмечена только его склонность делать «это» со многими женщинами, с наибольшим из возможных количеств. Разумеется, такой президент не мог пройти мимо самой известной Девки на подведомственной ему территории. И та торжествующая кошачья песня «Happy Birthday…», исполненная Девкой,— это ее апофеоз. Еще большее удовольствие ей доставила связь с его братом Робертом Кеннеди, ведь злорадная Девка должна постоянно получать острые ощущения, а загнать на себя, положить на мятые сиськи брата Хозяина всех славных Штатов, протянувшихся, как клетчатая рубашка фермера, от Атлантического до Тихого океана — невыразимо острое ощущение.
Мэрилин Монро обязана Норме Джин всем. Плебейским типажом, станком, ляжками, носиком, бесстыдством, голосом, в котором звучат девкины интонации. Норма Джин типична, при желании, прищурившись или при нижнем свете, обыватель может увидеть Норму Джин в своей жене. А Мэрилин Монро — это высший знак качества, ставящийся на Норму Джин, как знак «наполеон» ставится на коньяк. Ведь, строго говоря, такого коньяка «Наполеон» не существует. Но коньяк «Хеннеси» может нести на себе знак качества: «наполеон». Это как «люкс».
Ее песенки очень неплохи: «My heart belongs to daddy», или «Diamonds are the girls best friends», очень циничны и отчаянно веселы.
Ее фотографии: классные фотки. Там, где она стоит над вентиляционным люком метро и легкое платье взлетело вверх, и еще десятка два выражают ее типаж Девки как нельзя лучше. Они лучше, ее фотки, чем Христос на кресте, ей богу.
Погибла она в 1963 году. Нажравшись алкоголя и «pills» — таблеток. Обычный конец тусовщицы, такие типы много пьют, не могут заснуть, употребляют снотворное, злоупотребляют лекарствами. От этой же зловещей комбинации таблеток и алкоголя умер ее дружок Трумэн Капоте. А в 1977 году от тех же причин скончался Элвис Пресли. А за ним немецкий режиссер Фассбиндер. И еще сонмы других, менее знаменитых. Но даже не в этом дело. Она погибла в 37 лет, возраст, за которым женщина или должна защитить диссертацию доктора наук и надеть очки, или превратиться в корову-мать. Трагический возраст для женщины, редкие девки остаются девками после. Ну, разумеется, царица Тамара или королева Марго могли выпендриваться куда дольше. Но они же были царица и королева.
Я начал с того, что выжженные перекисью плебейские продавщицы, парикмахерши и официантки всегда выказывали мне симпатию. Я быстро с ними сходился. Есть невыразимая прелесть в их вульгарности. Наташа Медведева была в 24 года очень вульгарной, хотя и не блондинкой, вышедшей из-под кисти с перекисью. Я одобряю Норму Джин, я бы познал ее, в полном библейском смысле этого слова. Я считаю, что американскому народу есть чем гордиться. Им принадлежит мировой символ Девки. А так как мировая сокровищница архетипов (пусть она и недавно стала создаваться, когда человечество научилось записывать образ и звук и сохранять их) уже полна под завязочку, то, по-видимому, мировым символом она и останется: Норма Джин, Мэрилин Монро. Рядом с gerilliero heroico — Че Геварой, художником всех времен и народов, квинтэссенцией художника Ван Гогом, квинтэссенцией музыканта Моцартом и другими священными монстрами. Их немного. Это отборные, те, что прошли глобализацию.
Девке, которая захочет потягаться с Нормой, надо будет совершить невероятные подвиги.
Изидор Дюкас / граф Лотреамон: профессор гипнотизма
От этого человека не осталось ни фотографии, ни портрета, ни могилы. Осталась странная книга «Песни Мальдорора». Изидор-Люсьен Дюкас родился в городе Монтевидео (Уругвай) 4 апреля 1846 года в 9 часов утра. Его отец работал в канцелярии генерального консульства Франции. Как многие из его соотечественников, Франсуа эмигрировал в Южную Америку, чтобы сделать себе там капитал. Добился он немногого. Однако Изидор вырос в атмосфере буржуазного дома, откуда он с возраста 10 лет с удовольствием убегал. Вначале на петушьи бои — Renidero, в соседний квартал. Отец обнаружил у сына «поразительный дар к математике», и в 1860 году, в возрасте 14 лет, Изидор пересек океан, направляясь во Францию. Позднее в «Песнях Мальдорора» здесь и там появляется образ «Старого Океана».
Заключенный в лицее города Тарб с 1860 по 1862-й, затем с 1863 по 1865-й в лицее города По, Изидор достигает замечательных успехов в школе. Один из его соучеников, Поль Леспес, вспоминает его силуэт:
«Я вижу до сих пор этого большого, хрупкого молодого человека, спина немного согнута, бледнокожего, длинные волосы падают, спутанные, на лоб, голос звонкий. В его физиономии не было ничего примечательного. Обыкновенно он был грустен и молчалив и как бы замкнут на себе. Часто в зале для занятий он проводил целые часы, локти на пюпитре, руки на лбу и глаза в классической книге, которую он не читал; казалось, он погружен в мечтания… Ему нравились Расин и Корнель и более всего «Эдип-король» Софокла. Сцена, в которой Эдип издает вопль боли, глаза его вырваны, проклиная свою судьбу,— ему казалась очень красивой. Он всегда жалел, что Иокаста не достигала здесь вершины ужаса и не покончила с собой на глазах у зрителей!.. Он обожал Эдгара По… Мы его считали в лицее фантазирующей душой и мечтателем, но в глубине своей хорошим мальчиком».
С 1865 по 1869-й следы Изидора Дюкаса теряются. В 1869-м биографы находят его живущим в отеле по адресу: 23, рю Нотр-Дам де Виктуар. Но именно в этот период он и написал первую песню Мальдорора. В августе 1868 года он опубликовал первую версию в форме брошюры без имени автора на обложке в типографии Болиту. Время сохранило нам один экземпляр, хранящийся в Национальной библиотеке. К концу 1868-го Дюкас закончил все шесть песен и наконец избрал себе псевдоним: граф Лотреамон, скорее всего взятый из романа писателя Эжена Сю «Лотреамон». Он также нашел себе издателя: Лакруа. Лакруа — единственный свидетель, встретивший Дюкаса в Париже и оставивший о нем следующие строки:
«Это был большой молодой человек, нервный, упорядоченный и работник».
Когда «Песни Мальдорора» были отпечатаны, издателя охватил страх. В одном из редких писем, подписанных Изидором Дюкасом, мы находим такое описание случившегося:
«Я опубликовал поэтическую работу у м-е Лакруа. Но когда она была отпечатана, издатель отказался ее распространять, так как жизнь там была изображена в очень горьких тонах, и потому он боялся генерального прокурора. Эта вещь в жанре «Манфреда» Байрона и «Конрада» Мицкевича, но, однако, куда более ужасная».
(Следует сказать, что само имя Мальдорор — испанизированное в правописании, переводится с французского как «объятый ужасом».) Дюкас требует у издателя переплести 20 экземпляров книги и рассылает ее критикам. Однако ни одна статья не появляется в печати.
Сохранилось письмо Изидора Дюкаса от 21 февраля 1870 года. Предполагаемому издателю в Бельгии. Он пишет о своем намерении отныне «стать певцом надежды» и прежде всего «атаковать сомнения века». После этого письма след Изидора Дюкаса теряется совсем. Следующим документом в его биографии является акт о его смерти, датированный 24 ноября 1870 года. Он умер в 8 часов утра в возрасте 24 лет. Акт смерти утверждает, что он умер по месту жительства, «без других сведений». Изидор-Люсьен Дюкас был погребен на временной площадке Северного кладбища в Париже. Его тело было эксгумировано 20 января 1871 года и погребено на другой временной площадке, которая впоследствии была застроена городом.
Изидор Дюкас оставил две эпитафии, которые могут быть обращены к нему. Первая:
«Это был подросток, который умер от легочной болезни — вы знаете почему. Не молитесь за него».
Вторая:
«Если смерть остановит фантастическую худобу двух длинных рук, свисающих с моих плеч, занятых работой — разламыванием моего литературного гипса, я хочу хотя бы, чтобы читатель в трауре мог сказать себе: «Необходимо быть к нему справедливым. Он меня долго кретинизировал. Что бы он мог сделать, если бы он прожил больше! Это лучший профессор гипнотизма, которого я знал!»»
После профессора гипнотизма остались шесть песен Мальдорора — шедевр оригинальности. Сюрреалисты считали Лотреамона своим предшественником, психиатры называли «Песни» работой сумасшедшего. Есть за что: в песнях у него разговаривают Светящийся Червь, жук скарабей, пеликан, стервятник, охотящийся на ягнят. Презирая человечество (в 20 лет от роду!), Лотреамон заканчивает великолепную сцену, когда ночной омнибус, полный мужчин с глазами мертвых рыб, гонится за восьмилетним бродяжкой (с неким припевом: «Но бесформенная масса преследовала его с яростью по его следам в пыли!»), восклицанием:
«О раса глупцов и идиотов! Ты пожалеешь о таком своем поведении. Это я тебе говорю. Ты пожалеешь, да, ты пожалеешь! Моя поэзия состоит только в атаке, всеми средствами, на человека, этого дикого зверя, и на Создателя, который мог зачать такую чуму. Тома будут нагромождены на тома, до конца моей жизни, и все равно там нельзя будет увидеть ничего, кроме этой единственной Идеи, всегда существующей в моем сознании!»
Вот Лотреамон воспевает вошь:
«Вы не знаете, почему они не пожирают кости вашей головы и довольствуются только вашей кровью? Подождите-ка, я скажу вам: это потому, что они не имеют силы. Будьте уверены, если бы их челюсти были в пропорции к их бесконечным яйцам, то ваш мозг, жидкие глаза, колонна позвоночника, все ваше тело пошло бы под эти челюсти. Как капля воды!» «Если бы земля была покрыта вшами, как зернами песка покрыт берег моря, человеческая раса была бы уничтожена, подвергаясь ужасной боли. Какой спектакль! Я, на крыльях ангела, неподвижный в воздухе, созерцал бы».
А вот полезные советы, которые дает Мальдорор мальчику, сидящему на скамье в саду Тюильри:
«Цель оправдывает средства. Первым делом, для того чтобы стать знаменитым, нужно иметь деньги. А так как ты не имеешь их, необходимо убивать, чтобы достать их; но так как ты не настолько силен, чтобы заправлять кинжалом, тебе приходится воровать, ожидая, когда твои члены увеличатся. И для того чтобы они увеличивались быстро, я тебе советую делать гимнастику два раза в день, один час утром, один час вечером. Таким путем ты можешь попробовать совершить преступление с определенным успехом с возраста пятнадцати лет, вместо того чтобы ожидать двадцати. Любовь к славе извинит тебя, и, может быть, позднее, хозяин тебе подобных, ты сделаешь им почти столько же добра, сколько зла ты сделал им вначале».
Мрачный Лотреамон-Дюкас повсюду рассыпал по своей книге перлы черного юмора и могильных метафор. Учитель преступления, вот как он видит океан:
«Старый океан, из кристалловых волн, ты напоминаешь пропорционально те голубые пятна, которые можно видеть на мертвой спине убитого: ты огромный синяк, оставленный на теле Земли; я люблю это сравнение».
Это все взятые наугад куски текста кретинизирующего нас вот уже 130 лет Лотреамона. Предшественник всех панков и скинов и черных анекдотов, Лотреамон выдает вот такое:
«Нужно позволить своим ногтям отрасти на протяжении 15 дней. Ах, как сладко лечь рядом с ребеночком, у которого еще пусто на верхней губе, и мягко положить ему руку на лоб, зачесывая волосы назад, его прекрасные волосы! Затем внезапно вонзить свои длинные ногти в его мягкую грудь, но так, чтобы он не умер, так как, если он умрет, он не сможет позднее почувствовать свои несчастья! Затем пить кровь, облизывая его раны; и в это время, которое длится столько же, сколько длится вечность, ребенок плачет. Ничто не может быть столь приятно, как его кровь, извлеченная так, как я сообщил, еще теплая, кроме разве что его слез, горьких как соль. Человек, ты не пробовал разве свою кровь, случайно порезав палец? Как она хороша, не правда ли, она не имеет вкуса».
«Песни Мальдорора», конечно, чтиво не для Зюганова, но для юных гениев НБП — отлично! Мрачный «монтевидеец», как называл себя Дюкас, навсегда прописан в вечности впереди Сида Вишеса и рядом с Ницше.
Элвис Пресли: «Пелвис» всеамериканский
Пелвис — это лобок по-английски (pelvis). Такое прозвище получил еще совсем юный Пресли за то, что ввел в сценический обиход характерные для него движения бедрами и лобком. Движения, имитирующие половой акт. Лобком он вообще работал на сцене немало, хотя неизвестно, сам ли он придумал эти провокационные sexy-движения, или их подсказали ему его менеджеры: папа и мама. Несмотря на sexy-движения, вообще-то Пелвис был приличным подростком и впоследствии приличным и законопослушным молодым человеком, а позднее правым рок-идолом, повсюду демонстрировавшим свои правые взгляды. Как-то на вопрос, кто его любимая банда, он не моргнув глазом ответил: «Полиция графства Лос-Анджелес». Образнее не скажешь. И точнее его политкорректность не определишь. Белый рок-идол, а он не раз подчеркивал, что играет белую музыку, он ведь и происходил из Тупело, штат Миссисипи, а это американский Юг, плантации кукурузы, подозрительно молчаливые негры и в недалеком прошлом суды Линча.
Америка всегда умела неистово бросаться в крайности, прощать себе крайности и делать на этих крайностях деньги. Страна, которая в конце 60-х и в 70-х годах могла похвалиться, что в ней трудно найти младшего школьника, не затягивавшегося джойнтом из марихуаны, и где девочки стеснялись сохранять невинность после 13 лет, еще в 50-е была крайне пуританской страной двубортных костюмов, галстуков и коробчатых неудобных шляп. А в 80-е и 90-е вновь стала пуританской до одури страной воркоголиков (workaholics) и новых христиан.
Элвис Пресли отличный пример американца, одновременно традиционного, правого, дружок полицейских, за закон и порядок, и одновременно его пидорастические костюмчики, достойные бразильских трансвеститов, безвкусные, расшитые каменьями, куда он прятал свое жирное тело последние годы жизни. И эти движения пелвисом. Правый педераст, такое тоже бывает. Журнал «Гей-Франс» высказывал в 80-х годах радикальные ле-пеновские правые взгляды во Франции. Не знаю, выходит ли он еще, журнал.
Как уж там мирилась Los-Angeles police country band с пэдэшностью Элвиса, с его, мягко говоря, странной внешностью (кстати, на него жирной слабой копией похож Филипп Киркоров) сексуального девианта, мы не знаем. Элвис Пресли любил фотографироваться с полицейскими, обычно он сидит в центре, а все эти жирные розовые шерифы окружают его по периметру. Таких фотографий у него много в Преслиленде.
Он безутешно оплакивал свою мамочку. Преувеличенно, может, оплакивал, как-то не по-людски. Какие-то провода в нем явно были включены не так. А мамочка — типичная советская тетка, в платье в старомодный респектабельный горошек. Отец также похож на советского работягу, на слесаря высокого разряда. Мальчику Элвису купили гитару, и он выдрючивался дома перед зеркалом. Позднее пошел попробовался в студию звукозаписи. Мамуля первая четко распознала запах денег, исходящий от родного чада и его гитары. И Элвис талантливо забубнил:
О, baba Louly she's my baby
О, baba Louly says me may be…
A «Love me tender…» вообще неподражаемый шедевр любовной песни. Отделить авторов и исполнителя невозможно, как разрезать сиамских близнецов, потому для удобства лучше считать, что это все целиком и полностью Пресли.
Любимой его цветовой гаммой было сочетание розового, зеленого и черного. Сейчас в такое сочетание цветов любят раскрашивать свои отели японцы (имеется в виду — хозяева отелей японцы предпочитают почему-то оформлять свои международные отели в эту гамму). Странный, конечно, парень был этот Элвис. Щедрый, особенно он любил дарить друзьям и даже просто знакомым, которые ему приглянулись, «кадиллаки». По слухам, он подарил не то 28, не то 42 «кадиллака». Возможно, он не умел выбирать подарки? Так, мой отец из года в год дарил матери на дни рождения духи «Красная Москва».
Усадьба, которую Пелвис соорудил себе в родных местах, этакий Элвисленд, поражает посетителей своим китчевым стилем. Нарочито дурной и аляповатый вкус господствует во всем. В значительной мере вкус этот — народный, так как множество экспонатов Элвисленда — подарки, присланные любимому Элвису американцами.
Под конец жизни Пелвис чудовищно разбух. Он много жрал, потреблял галлоны алкоголя и пригоршни таблеток. Умерло это чудовище в 1977 году, когда я жил в Нью-Йорке. Интересно, что смерть его тогда не вызвала национального траура. Американцам потребовалась изрядная временная дистанция, чтобы осознать, кто умер. Было даже такое впечатление, что последние годы его замалчивали. Во всяком случае, со времени моего прибытия в Штаты в феврале 1975 года до кончины его в 1977-м о нем едва вспоминали.
Но кто же умер в 1977 году? Простой американский причудливый парень, талантливый и вульгарный, жирный, немудрящий, актер, игравший в плохих фильмах роли спасателей, всяких пляжных сторожей или капитанов спасательных катеров. В фуражке-капитанке, голые ноги, гавайские рубашки с пальмами, бесстыжие шорты, Элвис снимался в еще более глупых «курортных» фильмах, чем Мэрилин Монро в сельскохозяйственных. Умер плохой актер. Одновременно умерли еще двое: высокого класса профессиональный певец и американский самодур-помещик. Самодур-помещик не последний из трех: американский Ноздрев дарил «кадиллаки» и позировал с родными розовыми свиньями — американскими полицейскими. Носил низкие обильные баки, отсылающие прямо в XIX век, к Гоголю, в «Мертвые души». И, как негр в жаркий день на пляже Лос-Анджелеса, на Венис-бич, носил на шее полотенце. Утирая им пот с мясистого, пористого лица и огромной туши. Как какой-то допотопный кит прошлых времен, он лежал в 1977 году мертвый в своем Преслиленде, когда по Нью-Йорку уже дохаживал свой последний год Сид Вишес — самая трагическая фигура панк-рока.
«Good american boy, с индейскими щечками, одевавшийся как педераст, ему плохо везло с женщинами»,— вот что я написал бы на его могиле.
А в его пользу я скажу, что даже лучшим русским бардам современности не хватает, в сравнении с ним, оригинальности, самодурства и даже этой позорной двусмысленности. Лучшие русские поют позорные гоп-сосмыком для аудиторий с мозгами кошки. Жидкие песенки мелких торговцев гнилыми звуками. Ни у одного в жизни нет даже намека на трагедию. Ни святых, ни гермафродитов, ни злодеев среди них — тусклое племя. Элвис-Пелвис лучший.
Петр I: выродок
Высоченный, с узкими плечами и широким тазом, с растопыренными усами. Головка маленькая (тут прав мой друг Шемякин) — складной, несуразный человек. От его времени нам осталось множество документов, так что судить о нем возможно.
Своеобразный сын полка для иностранных дипломатов, обитавших в Москве, будущий царь ошивался с иностранцами все свое детство, юность и, впоследствии, всю жизнь. И правильно делал. Русская жизнь того времени была стоячая, гнусная и застойная, как и сегодня. Даже жизнь боярская. Собственно, как всегда, рыба гнила с головы, с бояр. Перестав еще за два века до этого быть феодальными бандитами, контролировавшими во главе вооруженных дружин свои регионы, бояре теперь сидели и парились в шубах на государевой службе: чиновники. Сплетничали, ссорились, жирели и воровали. Мальчик Петр был травмирован и помнил (говорила мне в классе харьковской школы №8 рыжая длинная учительница, погоняло у нее было «Швабра») травму — как стрельцы, натравленные боярами, убили у него на глазах его родственников, прямо в Кремле, на царском крыльце и в царских покоях, так что Петр имел личные счеты и к стрельцам и к боярам. Стрельцов он потом развешает на кремлевских и Новодевичьего монастыря стенах, перед светелкой своей сеструхи-царевны Софьи. А бояр поунижает вволю.
Петр Алексеевич понял твердо, еще мальцом, что для всякого нового государства нужны новые люди. Потому он вербовал в свои «потешные» полки крестьянских пацанов из деревень Семеновки и Преображенки. Лучшим другом и помощником сделал простого пацана Алексашку Меньшикова. И дружил, и набрал в свою команду огромное количество иностранцев. Любимым его дядькой, авторитетом для Петра, был Франц Лефорт, швейцарский подданный, долгое время игравший при нем роль, соответствующую роли Великого Визиря подле султана. Военная крепость, в которой я волею случая пишу эти строки, называется «Лефортовский замок». Внутри он построен в виде буквы К, положенной набок. Там, где от широкой спины (в середине) отходят еще два крыла, и сижу я в камере номер двадцать пять. Пишу, испросил на то милостивое разрешение администрации замка. Поминаю Франца Лефорта. Петр плакал на его гробе и видел, как радуются пришедшие якобы поклониться телу бояре.
Без Петра Россия осталась бы даже не Индией — каким-нибудь неумытым Кашмиром, одетым в грязные шубы. Он собрал у себя все отбросы Европы, тех, кто еще не уехал в Америку, авантюристов, военных наемников, отпетых мерзавцев, лгунов и просто преступников. Но именно такие и были ему нужны при строительстве нового государства: алчные, наглые, дерзкие, беспардонные эмигранты. Ни один современный лидер не может себе позволить собрать весь европейский сброд и с их помощью создавать новое государство. Петр использовал формулу всех без исключения революций: «Кто был ничем — тот станет всем». И собрал тех, кто «ничто» — ничтожеств.
Разумеется, и это уже стало общим местом, он ездил инкогнито в Голландию и учился там корабельному делу, жил у матроса и спал в шкафу. Побывал он и в Париже и даже понравился местным дамам. Впечатление же французских кавалеров, принимавших от Петра русское посольство, было хуже некуда: пьяницы, скандалисты, патологические грязнухи. Петру на самом деле было положить на мнение хозяев, что французов, что голландцев, он до конца дней своих остался скандалистом, жестоким чудилой, пьяндыгой, не доученным даже по-русски, он на всех языках писал с чудовищными ошибками, русский не исключение. Петру было положить на мнение аборигенов, он ездил обучиться, как сейчас бы сказали, новым западным технологиям. Чтобы потом, построив с негодяями державу, побеждать своих учителей с помощью их же технологий, теснить и уменьшать Запад, заливая его с востока Востоком. Теснить и уменьшать Турцию на юге. Брать себе все, что лежит плохо.
Еще раз повторим, дабы в головах засело. Для строительства нового государства нужны всякий раз совсем новые люди. Потому преуспел Петр I и преуспел Ленин, что они набрали совсем новые контингенты. Если новобранец не подходил, Петр его безжалостно изгонял. Многие подходили, сражались и работали храбро, добывая себе судьбу. В человеке Петр ценил не происхождение, не место в Бархатной книге сословий, но энергию, силу воли, профессиональность. Гнусная Москва и гнусная российская действительность: бороды, нищета, шапки, шубы, пот, срань, юродивые — вся эта неисправимая Русь достала Петра очень быстро. Он по-европейски брил щеки, рубил бороды боярам и в конце концов бросил Москву и основал Санкт-Петербург — город своих снов. На манер Голландии, только лучше и больше. Так как я бывал не раз и в Амстердаме и в городе Петра, то мне и судить. Как, должно быть, ему было отлично заложить город-столицу нового государства в 1703 году, на ветру, у реки, а как было здорово глядеть на него, разросшегося, 20 лет спустя. Отстроив свою столицу на крайнем западе империи, он как бы порывал с толстой бабищей Москвой, боярыней толстожопой. Петр I — это наш первый Чаадаев, только куда более нигилистический и страшный отрицатель. Как, должно быть, он ненавидел бояр и стрельцов, эти бородатые оскаленные хари, с каким удовольствием работал топором, разрубая им шеи! Потому у него все отлично получилось с его царственной Революцией, европеизировавшей Россию. А это-таки была самая настоящая революция.
В 1991 году Россия обосралась от страха, не решилась призвать новых людей, поманила их, но испугалась и оттолкнула. Нужна была кровавая либерально-демократическая революция, а взамен демократы постыдно вытолкали вперед члена ЦК КПСС Ельцина — триколорного сверху и розово-цэковского внутри, и спрятались за него. В результате русская демократия несла в себе с самого начала все болезни и наследственность старого режима. Наследник Ельцина Путин прямо реставрировал советскую власть, размешав ее с любимыми олигархами. Нелюбимых и инакомыслящих пересажали. Нового государства не получилось — старые кадры построили старый мир. Вторичный мир. Временный мир. Гнусный своей вторичностью. А русская демократия скончалась от бледной немощи.
Петр начинал утро до рассвета. Стакан водки и бочковой здоровый огурец — это была его физическая гимнастика и разминка. Топорща усы, курил трубку и отправлялся либо верхом, либо в карете на объекты строящегося безостановочно города. После Анны Монс завел себе лифляндку Катерину, этакую полуевропейскую балтийку в вязаных чулках. Его все предавали: и жена, и сын Алексей, и Анна Монс. После смерти Петра Катерина стала царицей под именем Екатерины I. А подле нее вроде не регентом, но авторитетом — Алексашка Меньшиков. Когда-то он вытащил Екатерину из-под солдатской телеги, но уступил ее Петру. К сожалению, и Екатерина I, и сам Меньшиков не могли заменить России Петра, даже частично. Петр был работяга, безумный «воркоголик».
Петр I был выродком из целой вереницы бородатых, плешивых, мелочных царьков Романовых, был аномальным явлением. Русские раскольники до сих пор считают его Антихристом. Однако что дал России раскол, помимо упрямого протопопа Аввакума и экстравагантных купцов-раскольников, в отместку Романовым финансировавших большевиков (Савва Морозов)? Ничего масштаба Петра. Нет никакого сомнения, что если бы не петровская жуткая революция, Россия бы захирела и умерла от шелудивой болезни, смешавшись с остяцкими княжествами, дошла бы до ранга какой-нибудь Тувы. Спасибо каким-то там протеинам, случайно зацепившимся за нуклиды или как там, в результате Петр вышел из мамкиной утробы с отклонениями от обычной романовской шушеры. Важно не то, какую революцию произвел Петр I — европейскую или азиатскую, важно, что его революция сделала Россию мощной. Он угробил старую московскую толстожопую Русь, и за это ему спасибо от меня — национал-большевика. Правда, она — толстожопая — возрождается в каждом веке, и тогда опять необходим России неистовый Петр. В 1917-м он приходил под именем Ленин. Придет еще. А с ним осатанелые маргиналы-иностранцы, поэты, безумцы. Раклы, безумцы и галахи.
Сахаров: «он помогал»
Я намеревался завершить «Священных монстров» на фигуре Петра I. Скульптура Шемякина — нелепый крошечноголовый Петр, присевший в бронзе в Петропавловской крепости (высокие колени, женский таз, короче, урод) так и сидел перед моими глазами. Когда вдруг 21 мая радио, которым нас кормят в тюрьме насильно, одно из дрянных мусорных радио, не то «Русское радио», не то «Европа-плюс», сообщило, что состоится торжественное собрание по поводу дня рождения Андрея Сахарова. По поводу его восьмидесятилетия. Со своей шконки, из-под ватной фуфайки вывернул голову «наркобарон», мой сокамерник, и пробормотал: «Во о ком напиши! Многие зэки обращались к нему с письмами. Он помогал. Единственный политик, который себя не опорочил». Произнеся эту характеристику, «наркобарон» вернул нос под фуфайку. Я принял к сведению его заявление и стал отжиматься от полу. Сделал 350 отжиманий. Через десять минут меня вызвали к адвокату. Сергей Беляк сказал мне, среди прочего, что в поручительствах (по поводу смены мне меры пресечения, отмены содержания под стражей подпиской о невыезде или залогом) отказали мне такие, казалось бы, дружелюбные ко мне люди, как «патриот» Говорухин и Зиновьев. Услышав об этом, я решил написать об Андрее Сахарове — моем вечном оппоненте со времен еще моего первого романа. В романе об Эдичке я, по мнению критиков, винил Сахарова и Солженицына в том, что оказался на Западе.
В 1975 году за брошюру «О моей стране и мире» и по совокупности его правозащитной деятельности Сахаров получил Нобелевскую премию Мира. Помню, что прочел зеленую брошюрку не отрываясь и вынес из чтения ее твердое убеждение, что ученый-физик Андрей Дмитриевич Сахаров крайне наивен везде, где он пишет о Западе. Извинения этой наивности быть не может, ибо, никогда не побывав в западном мире, он, по-честному, должен был бы не высказывать своего мнения о нем и тем более не сравнивать его с советским миром. Запад представал из брошюры «О моей стране и мире» царством справедливости, благополучия и рациональных моральных и правильных решений. Особенно возмутило меня, помню, предложение Сахарова, чтобы Советский Союз разоружился в одностороннем порядке. В этой политической наивности я и сегодня упрекаю покойного, как и в той необъяснимой вере в порядочность Запада, которую он питал, если не ошибаюсь, до самой смерти. За десять лет, прошедшие со дня смерти Сахарова в декабре 1989 года, Запад множество раз успел доказать свою жестокую, хищническую тоталитарную природу. Запад как раз в момент смерти Сахарова перешел к практике насильственного подчинения инакомыслящих стран. Первым был Ирак; не обязательно его любить, Ирак или Саддама Хусейна, но то, что отныне судьба многих инакомыслящих режимов будет решаться не внутри этих стран, а вовне, консилиумом докторов смерти из ООН и НАТО, полностью разрушило международное право и установило право железной пяты самых вооруженных стран — сил европейской крепости и Америки — выбирать себе страны-жертвы. Их называют «страны-изгои». Страны-изгои можно бомбить, как бомбили Сербию: бомбить телецентры, железнодорожные мосты, министерства. Бомбить и называть разбомбленное «инфраструктурой», избегая употреблять упоминание о трупах людей. Если бы правозащитник Сахаров дожил до современного растаптывания международных прав, я полагаю, он изменил бы своей вере в Запад.
Тогда, в 1975 году, несколько эмигрантов, в том числе и я, написали «Открытое письмо академику Сахарову». Американские газеты его не напечатали, но напечатала большие отрывки из него лондонская «Таймс».
Однако в нашей оценке брошюры Сахарова мы тогда, спустя четверть века я вынужден это признать, мы и я допустили определенную несправедливость. Мы занизили критику Сахаровым советского режима. Каюсь, пускай и спустя четверть века. Даже судя по останкам советского режима, по судам, по прокуратуре инквизиций, по ФСБ, да даже судя по чудовищным тюрьмам России 2001 года — Сахаров был справедливым критиком той отвратительной реакционной системы государственного насилия. В своей правозащитной деятельности он допускал частные ошибки. В 1968 году, помню, он рьяно защищал крымских татар и Мустафу Джамилева. Те, кто видят сегодня, как крымско-татарское националистическое движение помыкает и русским и украинским Крымом, понимают, насколько ущербным был этот равномерный, якобы объективный подход к проблеме прав малых наций на самоопределение. Карабах, Чечня — это все последствия объективности.
Прилетев в Россию первый раз именно в декабре 1989 года, я застал интересные события. По ящику транслировали заседание I съезда депутатов СССР, нового, только что избранного созыва. В гостинице «Украина» я не мог оторваться от телевизора. Видел я и знаменитую пикировку Горбачева и Сахарова. Уже очень больной, истощенный и какой-то неуместный в новом времени хитрых горлопанов и революционных демократов «двадцать пятого часа» (французское отличное выражение означает пристроившихся к какому-либо делу уже после его победы. Французы обыкновенно употребляют его в отношении движения Сопротивления), Сахаров умер через несколько дней.
Сейчас мы живем все в такой стране, о которой Сахаров ни в коем случае не мечтал. Больной, пиджак висит как на вешалке, Сахаров вызывал, я помню, во время пикировки с Горбачевым у всей этой толпы депутатов-неокомсомольцев смех. Между тем он, кажется, уже понимал, к чему идет. Что он и его сподвижники будут растоптаны бодрыми неодемократами двадцать пятого часа. Но так и произошло. Ни в одной восточноевропейской стране борцы диссидентских баррикад первого часа не были так нагло и дружно отринуты от власти пинающимся и пробивающимся к власти быдлом. И в Польше, и в Чехословакии, и в Венгрии, и в Болгарии, и в Румынии, и в странах Балтии диссиденты и эмигранты успели побывать у власти, писатели Гавел в Чехии и Добрица Чосич в Югославии стали президентами. Но не в России. О нет, здесь Реставрация началась в одно время с Революцией. Член ЦК КПСС и кандидат в Политбюро Ельцин сделался и Первым Лицом Демократии. Этого нельзя было позволять сделать. (Напомню, что я из другого лагеря, я — национал-большевик и здесь выступаю как аналитик, стараясь понять, почему им не удалась их демократическая революция.) Диссиденты не пригодились России в 1991 году! Удивительно, уму непостижимо, но все начальники России положили на стол партбилеты КПСС и в одну ночь объявили себя приверженцами демократической идеологии.
В российской истории примеры такого коллективного перехода из лагеря в лагерь случались в смутное время. У нас подлое наследство, может быть? Очевидно, наши восточноевропейские вассалы по меньшей мере дали шанс своим диссидентам, в России банда рвачей и генетических приспособленцев рванула к власти, перескакивая через спины Солженицына, Зиновьева, Буковского, через всех, сигая, ударяя каблуками в шеи и спины. А потом нечистоплотная сволота первого созыва привела к власти еще более нечистоплотную сволоту. Существует мнение, что если бы Сахаров был жив, то демократы бы устояли, солнце светило бы ярче, и судьба России была бы иной. Хочу разочаровать вас, уважаемые добропорядочные граждане. Уже и в 1989 году, еще когда Сахаров был жив, его уже оттерли громко хрюкающие и громко ревущие парнокопытные. Он и в Верховный Совет СССР вынужден был выбираться хитрым путем, придуманным его сторонниками в последний момент. Народ рукоплескал хрякам, а не сутулому, истощенному в стычках с совдепом интеллигенту в пиджаке навырост.
В нем были элементы Ганди, была наивность. Он заступался за Джамилева, потому что больше некому было. Поскольку Джамилев уже тогда поддержал палестинцев, от такого мусульманского диссидента быстро отвернулся Запад. Сахаров не отвернулся. Помогал он и зэкам, у этих бедолаг и вовсе в стране нашей нет защитников. От зэков, нас всех, прошлых и настоящих, спасибо.
Нормально, Андрей Дмитриевич, входите к нам в нашу, как говорят на тюрьме, «семейку» священных монстров. Садитесь между Петром Алексеевичем и Нормой Джин. Поговорите с Чарли Мэнсоном, у него есть что сказать вам об Америке. Будьте как дома! А по вашему Гайдару все равно виселица плачет, это уж как хотите, но факт.
Юрий Гагарин: погоны из ртути
«Ох, Гагарин, ой-йой-йой-йой!» — есть такая сейчас модная песня. О том, какие у Гагарина лампасы и погоны из ртути. Если бы не оттенок блатной застольности, выглядела бы очень сюрреальной передовой агиткой.
Юра взлетел над землей 12 апреля 1961 года. Еще живы были Мэрилин Монро и Джон Фитцджеральд Кеннеди. Еще толстый и боевой Хрущ в соломенной шляпе и украинской вышитой рубашке прививал в России кукурузу и ругался с трибуны ООН, стуча по трибуне ботинком. Еще все было, потому что американцы уважали нас, а мы — себя.
Юры Гагарина простецкая рожица, нос не слишком аккуратной лепки. Такой себе один из Шариковых этого мира — дворняга. Если бы он прожил дольше, стал бы похож на Жана Жене, обзавелся бы торсом, одел бы джемпер, генералом в отставке лопатил бы землю в Подмосковье на приусадебном. Распухал бы от комаров и от водки. Принял бы ГКЧП, но затем перешел бы на сторону Ельцина, как все служаки.
Слава богу, он гробанулся вместе с летчиком-испытателем Сергеевым, и остался нам только его рейд в космос. Оттуда он первым из людей увидел нашу голубую и зеленую планету. Вертящуюся, как и предсказывал Галилей. В тяжелом скафандре с прибамбасами, висящий на шланге, он личинкой висел в космическом корабле. Неизвестно даже, насколько у него было развито чувство историзма. Понимал ли он, что осуществляет операцию, к которой долгой цепью, передавая друг другу знания и умения, двигалось человечество? И в той цепи много наших: Желябов — Кибальчич — Циолковский. Неизвестно. Может, его тошнило, может, он срал, извините, в скафандре внутри, безудержно, кто знает.
На аукционе «Сотби» только что продали за 170 тысяч долларов трехстраничный рапорт Гагарина Политбюро и лично Хрущеву: рапорт о полете. Кто-то выкрал его из архивов. В том рапорте все равно нет, конечно, сведений о его желудке. Приземлившись, полковник Юрий получил погоны из ртути и лампасы, соблазнять бы ему, молодому генералу, девок на танцплощадках лампасами. Ох, Гагарин, ой-ой-йой-йой-йой. Такое йой!
Первый, кто увидел нашу голубую и зеленую планету в окошке иллюминатора, он всегда останется первым. Молодцеватый коротышка. Блаженны все, кто жил в 60-е годы XX столетия, по многим причинам. Атомный паритет, ядерное равновесие между двумя сверхдержавами сдерживало их взаимную агрессию, а в сферах их влияний они легко справлялись с непокорными. Впервые заявила о своих правах на жизнь и часть власти молодежь: те, кому от 15 до 35 лет. Тон задал Мао, выпустив юных хунвэйбинов бесчинствовать и разрушать старые порядки. Бить по кумполам учителей ножками стульев, водить их на веревках в бумажных колпаках, а дальше пошли студенческие визги на лужайках: Прага, Берлин, Париж, Беркли. Было весело. В Париже писали лозунги: «Под мостовой — пляж!» Действительно, там был песок. Студенты захватили Сорбонну, спали там в мешках, сорили, пили, совокуплялись. В театре «Одеон» шли публичные диспуты обо всем на свете. Было весело. Выходили фильмы о молодежи: «Blow-up» Антониони, фильмы Годара, помолодели даже фильмы джеймс-бондовской серии. В Боливии погиб молодой совсем Gerilliero Heroico — Че Гевара. В октябре. А 30 сентября 1967 года Лимонов приехал в Москву с большим деревянным чемоданом, покорять город. В 1960-е родилось движение «хиппи» в Калифорнии и пошло распространяться по Европе. В 1968-м арестовали Мэнсона. В том же году возникли первые коммуны в Берлине: коммуна №1, коммуна «Волонда».
Блаженные 60-е годы! Гагарин, о, ой-йой-йой-йой! В самом начале 1961-го он пролетел над нами и всех нас благословил.
Есть картина американского художника: на стыке темных ночных улиц — аквариум кафе, в кафе немного людей: за стойкой с полотенцем у кофеварки веселый Элвис Пресли, а посетители: Мэрилин Монро и Хэмфри Богарт. Есть там еще один персонаж, но я запамятовал, кто. Однако можно без ущерба против здравого смысла посадить туда молодого русского генерала Юру Гагарина, фуражку на стойку, погоны из ртути, улыбающаяся физиономия дворняги. А Элвис наполняет ему рюмку. С дружеским оскалом. Ну а поскольку уж я художник, автор многоликого полотна «Священные монстры», то имею право, как какой-нибудь Рембрандт, пририсовать рядом с русским генералом себя: Эдуард Лимонов. На меня уже падает загар веков.