* * *
«Стихи Э. Лимонова требуют от читателя известной подготовки. То, что представляется в них эксцентричным, на деле есть не что иное, как естественное развитие той поэзии, основы которой были заложены М.В. Ломоносовым и освоены в нашем столетии Хлебниковым и поэтами группы О бЭриу. Обстоятельством, сближающим творчество Э. Лимонова с последними, служит глубокий трагизм содержания, облечённый, как правило, в чрезвычайно лёгкие одежды абсолютно сознательного эстетизма, временами граничащего с манерностью. Обстоятельством же, отличающим Э. Лимонова от обэриутов и вообще от всех остальных существующих и существовавших поэтов, является то, что стилистический приём, сколь бы смел он ни был (следует отметить чрезвычайную перенасыщенность лимоновского стиха инверсиями), никогда не самоцель, но сам как бы дополнительная иллюстрация высокой степени эмоционального неблагополучия – то есть того материала, который, как правило, и есть единый хлеб поэзии. Э. Лимонов – поэт, который лучше многих осознал, что путь к философическим прозрениям лежит не столько через тезис и антитезис, сколько через самый язык, из которого удалено всё лишнее».
Иосиф Бродский,
поэт, русский и английский эссеист,
драматург, переводчик,
лауреат Нобелевской премии по литературе 1987 года
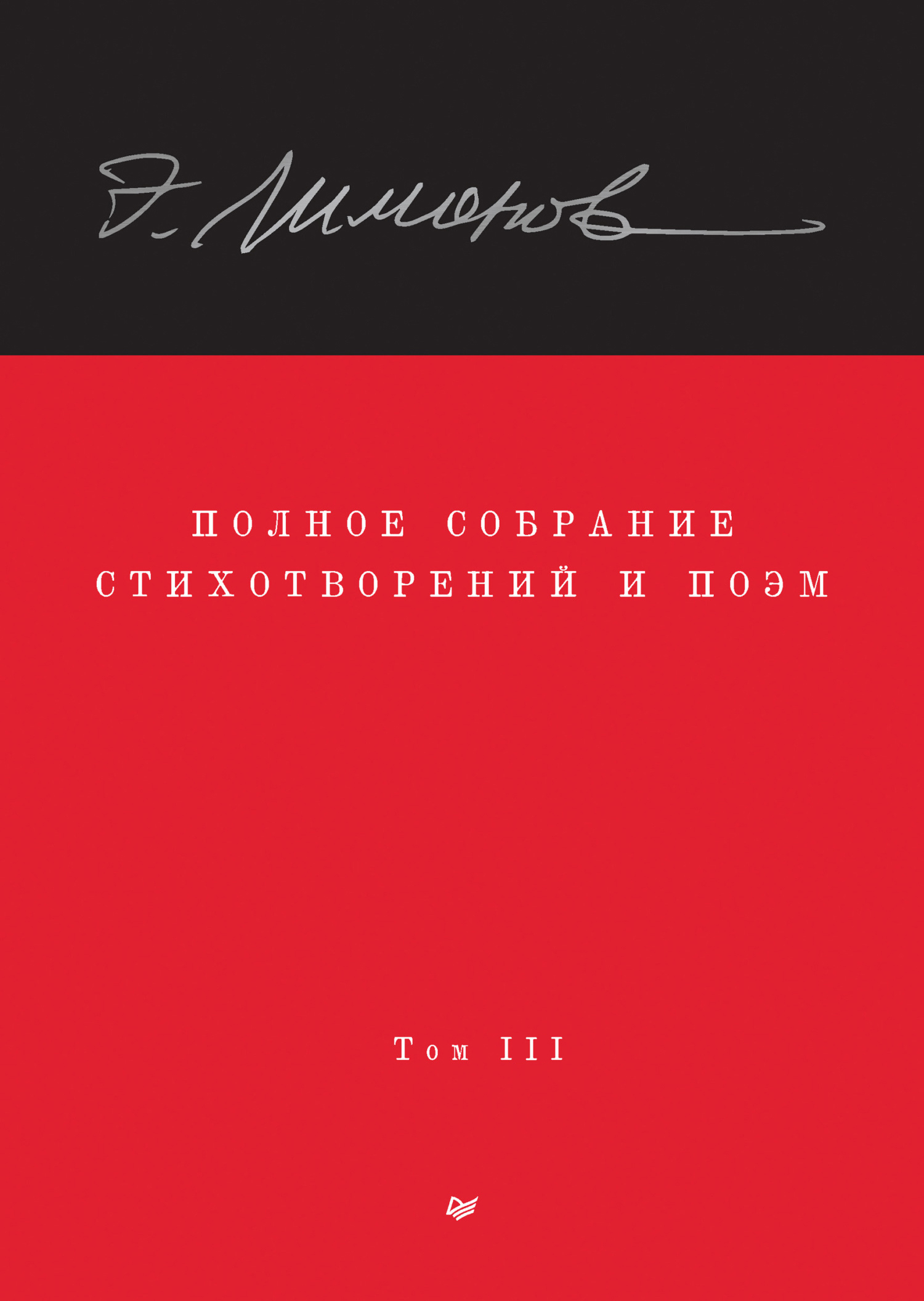
Эдуард Лимонов
Полное собрание стихотворений и поэм
Том III (IV)
составители: Захар Прилепин, Алексей Колобродов, Олег Демидов
// Санкт-Петербург: «Питер», 2024,
твёрдый переплёт, 496 стр.,
тираж: ?.000 экз.,
ISBN: 978-5-00116-962-8,
размеры: 233⨉165⨉26 мм
Эдуард Вениаминович Лимонов известен как прозаик, социальный философ, политик. Но начинал Лимонов как поэт. Именно так он представлял себя в самом знаменитом своём романе «Это я, Эдичка»: «Я — русский поэт».
О поэзии Лимонова оставили самые высокие отзывы такие специалисты, как Александр Жолковский и Иосиф Бродский.
Поэтический голос Лимонова уникален, а вклад в историю национальной и мировой словесности ещё будет осмысливаться.
Вернувшийся к сочинению стихов в последние два десятилетия своей жизни, Лимонов оставил огромное поэтическое наследие. До сих пор даже не предпринимались попытки собрать и классифицировать его.
Помимо прижизненных книг здесь собраны неподцензурные самиздатовские сборники, стихотворения из отдельных рукописей и машинописей, прочие плоды архивных разысканий, начатых ещё при жизни Лимонова и законченных только сейчас.
Более двухсот образцов малой и крупной поэтической формы будет опубликовано в составе данного собрания впервые.
Читателю предстоит уникальная возможность уже после ухода автора ознакомиться с неизвестными сочинениями безусловного классика.
Собрание сопровождено полновесными культурологическими комментариями.
Публикуется с сохранением авторской орфографии и пунктуации.


Мы — национальный герой (1974)
I. Текст
Русский народный поэт и национальный герой Эдуард Лимонов и его жена-поэтесса и национальная женщина Елена Щапова по личному приглашению президента французской республики сегодня утром прибыли в Париж.
В 18 часов 30 минут по парижскому времени в Парижском муниципалитете состоялся приём в честь русского национального героя Эдуарда Лимонова и его жены Елены, воплощающей в себе национальный тип русской женщины.
На приёме присутствовали видные дипломаты, промышленники, звёзды артистического мира, известные современные французские писатели.
Шампанское и улыбки — вот стиль этого праздника!
Господин мэр Парижа от имени французского народа вручил русскому национальному герою и его жене почётные французские паспорта и дипломы «Почётный гражданин Франции».
*
Эти русские, эта пара покорила нас всех. Россия вновь удивила нас. Мы готовы жить в мире и дружбе с Россией именно потому, что там живут такие парни, как этот Лимонофф. Русские женщины всегда славились своей красотой. Елена превзошла все наши самые смелые ожидания!
*
Лимонов сказал:
«Простые люди представляют статику жизни. Я же — её динамику».
*
Поэт Лимонов взял лодку и катается в ней по Сене. Мутная Сена передаёт Лимонову приветы от всех других поэтов — от загадочного Бодлера, от загадочного Лотреамона и других. Поэт Лимонов снял шляпу — Ах, Сена, Сена — говорит он и не думает что Ах, Волга, Волга. Волги он в России не видел. У него есть только воспоминания о нескольких семьях, о скучности и одновременно мистичности извечных русских квартир, где всё едва оживилось техникой. «Старого французского винца б, выпить, я вполне, еще не слаб, старого французского бордо, от него приятно и бодро, старого французского вина, от него…» и так далее — думает Лимонов, разглядывая полоски воды.
*
Поэт Лимонов зашёл в квартиру в Париже и страдает ностальгией. Эх, русских рож сюда б!— говорит он чуть ли не вслух. Но русских рож нет.
Каким я кажусь французам со стороны?— думает он. Провинциальным? Смешным?— неизвестно.
Поэт Лимонов ещё не вошёл в западную жизнь. Он в стороне.
Лимонов как национальный герой гуляет в парке. Его внимание поглощено растительностью парка. Есть очень много приличных людей, тоже гуляющих в парке. Тут может раздражать мелочность приличных людей, их разговоры о службе. Лимонова останавливает человек, он представляется — Антониони!— не хотите ли сниматься в моих фильмах? О да!— говорит Лимонов — мне ваше предложение нравится.
*
И Лимонов снимается в фильме Антониони «Мы из Москвы» и становится ещё более известным и национальным.
*
Что характерно, так это следующее:
Лимонов, можно сказать, тип русского человека и по внешности и по внутренности, и гениальный режиссер Антониони недаром обратил на него внимание. Так вот оказалось, что не Елена-красавица, а Лимонов с маленькими глазками и надбровными дугами стал первым сниматься в фильмах. Тут он её немного опередил.
*
Лимонов однажды был приглашён Сальватором Дали в ресторан. Дали сидел привязав кончики усов к листьям и веткам двух фикусов. Тонкие шёлковые нити тянулись от Дали в стороны. Лимоновскую спину заливало солнце. Вдвоём они представляли прелестную светлую группку. А что они ели, до сих пор остаётся загадкой. А говорить они ничего не говорили, но именно после этого Дали радостно проиллюстрировал поэмы Лимонова «Золотой век» и «Русское». А Лимонов в свою очередь сшил Сальватору необыкновенные панталоны из кусочков ткани.
*
Весной как-то в прошлом Лимонов пересекал Бискайский залив на грузовом пароходе «Барон Унгерн». И в трюме он обнаружил белогвардейские русские припасы. Бей их! — сказал Лимонов и втайне от команды ночью выбросил припасы за борт.
Таким образом Ленин и революция победили интервентов и белогвардейцев.
А ведь Лимонов мог бы поддержать и противоположную сторону.
*
Лимонов в сопровождении всех актёров и актрис мира любезно согласился устроиться на работу актёром мирового масштаба. Его успешно просмотрели страны третьего мира, и даже твердыня Китая согласилась поглядеть на него своим жёлтым глазком. О милая твердыня милого Китая! — сказал Лимонов — я жму твою жёлтую руку. Ты внесла вклад. Миру мир! — закричали актёры и актрисы.
*
Лимонов снимался в фильме, вокруг нищих и хиппи он кружил. Я освою окружение!— говорил он и всё время выпивал. Наконец он напился как свинья, и девочки и мальчики торжествующе его куда-то унесли. После этого он пропал и появился только через несколько месяцев в другом костюме.
*
Наш Лимонов и их Анри Мишо стояли на куче мусора. Этот мусор состоит: говорили они и далее перечисляли все 34 642 названия, из которых состоит мусор в сильно развитой капиталистической стране.
*
Пока Лимонов жил в России, он успел залезть во все уголки, сараи, дома, постройки, трубы, чердаки и подвалы. Он особенно хорошо знал устройство и трещинки стен, когда они под самым носом, и был специалист по микроместности. Поэтому когда он увидел французские горы и итальянские горы, они не произвели на него впечатления. Гораздо лучше — чёрное железо гаечного ключа — сказал он и глубоко задумался.
*
Летом как-то в жаркий день Лимонов шёл по улице Фероньер и нёс портрет философа Григория Саввича Сковороды, замотанный в старую оренбургскую шаль. К нему подошли два туриста-англичанина и спросили, что он несёт.— Я — Эдуард и несу портрет. Туристы очень удивились, а Лимонов подумал — В такую жару Григорий лежит в платке, мог ли он представить, что о нём будут справляться два англичанина. И тут Лимонову представилась тягучая странная Украина — он чуть не заплакал. Но подумал он — тоска по родине — удел простых людей. Человеческие отношения существуют везде, и мне остаётся только влезать в них. С этим решением Лимонов пошёл дальше, настороженно прислушиваясь к звукам французской столицы.
*
Приехав в Марсель, уже оттуда Лимонов и Елена поехали в Ниццу. О этот юг, о эта Ницца! О как их блеск меня тревожит — сказал Лимонов, опустившись к самой воде и погрузив руки в Средиземное море.
*
Стоя у Эйфелевой башни вместе с Еленой, которая крутилась, напевала и хотела прекрасной жизни, Лимонов опять стал философом. Инженер Эйфель построил эту башню из золота. Против неё возражали люди искусства, а сейчас она вросла — в, и стала символ. Пол Елены чётко обозначен. Она крутится и напевает… вокруг нас воздух и вот пошёл человек похожий на Христа.
*
Живя вначале высоко под крышей на улице Дружелюбного Восклицания, Лимонов развёл у себя на небольшом балкончике кур, а затем к зиме и поросёнка. Он откармливал его отходами из ведра и был рад поросёнку. В конце концов, когда поросёнок увеличился и окружающие французы стали жаловаться на запах, Лимонов пообещал им съесть поросёнка в ближайший же религиозный праздник. Так он и сделал. Он пригласил Жана со скотобойни, и Жан ловко лишил поросёнка жизни. Лимонов при этом лицемерно и сентиментально плакал, говоря, что поросёнок напоминал ему о родине.
*
Стремление национального героя Лимонова к славе и известности было всегда необыкновенным, а по приезде в Париж увеличилось ещё. Не было ни одной известной личности из мира театра, кино, из поэтов и художников, с кем бы Лимонов не хотел познакомиться. С первого же знакомства он вёл себя так, словно знал человека уже целый век. Он похлопывал деятеля по плечу, обращался к нему «милый мой», развязно крутился и говорил по-французски очень плохо. К тому же ещё ни в грош не ставил Великую Французскую революцию, её лозунги, смеялся над профсоюзами и студентами… но врагов он не наживал. Люди не хотели с ним связываться, ибо кто же переспорит национального героя.
*
Когда я читаю — я символизирую тягу моего народа к знаниям.
Когда я занимаюсь любовью — я символизирую огромный эротизм моего народа.
Когда я напиваюсь — я символизирую тёмные стороны русской души.
Когда я ем — я прикасаюсь к плодам земли, и это корни моей нации.
Так говорил Лимонов
и два-три случайных иностранца слушали его улыбаясь. Если Вы хотите понять русских — взгляните в меня — тут Лимонову что-то стукнуло в голову, и он убежал.
*
Будучи на приёме у Президента Французской Республики, Лимонов сказал ему, что коллекционирует титулы людей. И мой тоже — с улыбкой спросил президент?
О да! Вы в моей коллекции займёте место сразу посла королей — учтиво сказал Лимонов. Короли — это нынче такая редкость, трудно с достаточно древними династиями. А вот императора — так и вовсе ни одного.
Папа Римский — один,
Далай-лама — один,
— отчитался Лимонов.
Лимонов отнёсся к президенту невежливо.
Как-то Лимонов и папа Римский стояли на балконе. Внизу толпился народ. Мальчишка, пробегая мимо, спросил у пожилого рабочего — Кто это на балконе с Лимоновым стоит?— Да говорят папа какой-то Римский — сказал рабочий.— И чего в нём Эдька наш нашёл?!
*
В один из весенних дней своего пребывания в Париже Лимонов купил собаку. Собака есть собака, её в карман не упрячешь, и Лимонов из магазина повёл собаку домой. По дороге французские дети бежали за поэтом и кричали «Собака! собака!» по-французски.
*
Как-то раз:
На улице Жакоб, 36, в галерее Дины Верни состоялась выставка Лимонова. На протяжении шести часов национальные герой стоял, сидел, лежал и прохаживался. Билеты стоили 500 франков штука.
*
Когда национальный герой прожил некоторое время во Франции, то во Франции появилась мода на блюда, которые он особенно любил.
Это были:
Тройные щи,
Макароны с котлетами,
Шашлык.
Во всех приличных домах подавали такие блюда.
II. Комментарии к тексту
Художников может быть много
Поэтов может быть много
Национальный герой может быть только один
*
Национальный герой Лимонов выгодно отличается от псевдогероя Гагарина.
Тот не нёс в себе никакой духовной сущности.
Оболочка Гагарина была наполнена государством по его государственному усмотрению. Фактически государство взяло оболочку Гагарина и его имя напрокат.
Они оба дети России. Гагарин сын её казёнщины, казармы. Его родина — родина закрытых буфетов, генералитета и властей.
Лимонов — полное отрицание.
Чист и не замешан, никак не связан с государственностью. Сам создал себя. Прямая связь — Лимонов — люди.
*
В детском и отроческом возрасте Лимонов обожал украинский кладбищенский сад.
Он проводил там очень много времени.
И там же в пятнадцать лет он лежал, сжимая красную тетрадь.
Пытался писать стихи.
Лимонов помнит, как шумела в яблонях непогода и басом гудели старые тополя. Будущий национальный герой любил маленькие зелёные яблочки.
*
В мае национальный герой лежал на старой могиле под вишней. По нему ползали муравьи, ветер сдувал на него вишнёвые лепестки. Национальный герой лежал почти голый. Ему было семнадцать лет.
Он по-русски тяжело думал или вернее нет, он вчуствовался в мир.
*
В возрасте восемнадцати лет Лимонов посетил Кавказ. Он прошёл его в одиночестве пешком по всем кавказским дорогам. В диких ущельях шумели горные реки. Лимонову встречались люди, он работал в чай-совхозе, а потом с Кавказа ушёл.
*
Лимонов посетил:
Новороссийск
Туапсе
Ялту
Ассирию
Вавилонию
Очень долго жил в Египте
Неутомимый путешественник видел Лхасу и жил в ней
огромные поля цветов и диких трав веселили ему душу
и в заоблачной дымке словно слышался треск разрываемого шёлка
это давали знать о себе невидимые
Ещё он посетил Киев
Ригу
и многие другие города.
*
Лимонов жил в княжестве Монако
он жил в герцогстве Люксембург
он жил в королевстве Дания
он жил в республике и римской империи
он дружил с Атиллой царём гуннов
он был правая рука Чингиз-хана.
*
О читающих:
Читатель-простак любит Евтушенко
повыше рангом — Вознесенского
интеллигент элитарный считает, что любит Бродского
Исключительные люди любят Лимонова
Время старого пафоса во всех его формах прошло. Пришло время условности.
Лимонов — тонкое смешение странности жизни героя, иронии, энергичности и вся широкая страна перед ним.
*
Национальный герой Лимонов не тряпка интеллигент. Он силён в жизни. Захотел Елену — взял. А не растекался в пустых страданиях. А уж как казалось невозможно.
Нищий Лимонов взял красавицу от богача мужа. И ведь её склонность, любовь сумел завоевать.
*
И голодный и холодный Лимонов бывал весел и бескомнатный спящий на вокзале бывал весел. читая книгу
а пище радовался.
Лимонов сменил за семь лет жизни в Москве 126 комнат и квартир!
*
Приборы национального героя — чайник и телефон. И тем, и другим он пользуется в течение дня попеременно. То греет чайник, то пользуется телефоном.
*
В эпоху, когда в России нет личностей. Он — смеет быть личностью. И нет в нём мрака. Он — свет и надежда.
Во времена негражданственные — он гражданин. И самим своим появлением глубоко общественен. Он больше принадлежит тем, кто не имеет надежды. Он — надежда.
Своим примером национальный герой Лимонов говорит миллионам парней — «Смотрите — вот я! Своим упорством, своей самостоятельностью я добрался до высших должностей жизни. Я следовал только себе. И вы это можете. Вы можете попробовать тоже!»
Национальный герой Лимонов заставляет жить. Его девиз — изменение. Устойчивая раз и навсегда форма не для него.
Материалы о национальном герое Лимонове в ближайшее время опубликуют следующие журналы Америки:
«Ридерс дайджест»
«Атлантик»
«Ньюсуик»
«Роллинг стоун»
*
Как сообщает АПН:
Национальный герой Эдуард Лимонов был приглашен в Соединенные Штаты Америки журналом «Роллинг стоун». Целью поездки является ознакомление с жизнью молодежи Америки.
*
Дело в том, что кто-то же должен воплощать национальный тип человека. Лимонов как никто более подходит для этого. Если бы он был только непризнанный поэт со всеми слабостями, свойственными русскому интеллигенту, он не был бы национальный герой.
Охающий и ноющий униженный поэт — явление распространённое и явление уже скучное. Побеждающий обстоятельства, честный и красивый Лимонов победил свою непризнанность поэта тем, что стал национальным героем, то есть объединил судьбу, поэтическое и общественное. Великая честь ему и великая слава за то, что он создал новое.
Он официально утвердил общественный институт национального героя. Поставив его выше судеб и профессий. И сам стал национальным героем своей эпохи.
*
Старое устарело. Лимонов — личность свободного выбора. Он собственный ставленник. Он имеет самые большие в России основания говорить от собственного имени. Ибо он никому не служит, ни от кого не зависит.
Кроме того, он вообще симпатичный парень.
*
Стихи Лимонова народны
Они родились из:
песен старых песенников типа «Хаз-Булат удалой — бедна сакля твоя» Лимонов очень любил распевать их в детстве.
Писем, которые писала Лимонову бабушка «Эдинька, прелесть, радость и пончик!»
*
Не следует думать, будто Лимонов только поэт. Нет, он с таким же основанием может быть назван и ремесленником портным. Да, именно в совокупности поэта и русского ремесленного человека рождается Лимонов — национальный герой.
Вот садится солнце — Лимонов закончил дневной труд — подмёл пол комнаты от ниток, принял душ и сел ужинать. Он ест со сладким удовольствием старинного ремесленника. Он ест свой хлеб, свою ветчину, он устал и он доволен.
*
Национальный герой был на Красной площади и глядел на смену караула. Машина!— подумал он. Он чувствовал себя чужим. Он не чувствовал своей связи с государством. «Ели. Кирпичная стена. Кремлевский кирпич. При чем здесь я!»
*
Стоит Лимонов против Царь-пушки и, естественно, думает о Чаадаеве. Такого ума и всю жизнь в Москве и с удовольствием преклонение генералов принимал. А Царь-пушка возвышается, и ядра её лежат, вполне, кстати говоря, разумных размеров.
*
Лимонов говорит:
«Может бы, стоило бы предложить новые внегосударственные формы существования людей, вначале поэтов, художников, а затем и простых смертных. Не пора ли уже?»
*
26 января Лимонова видели в «пивном зале» на Большой Садовой.
*
Он не герой, вырастивший огромную свёклу. Но Лимонов и не герой, прочитавший три тонны книг.
*
Лимонов не герой подчинённый. Он герой самостоятельный. Он Илья Муромец и князь Владимир в одном лице.
*
В общественных отношениях в соотношении сил в России давно появилось что-то новое, чего упорно не желают замечать. Лимонов — выражение этого нового.
Впрочем, он национальный герой ещё и потому что таковой нужен.
*
Если национального героя не в состоянии выдвинуть русская государственность, то его выдвигает русская человечность.
*
В биографии каждого русского героя обязательно должно быть Иванушко-дурачество как метод, как стиль.
*
Ну разве не великолепны русские и других народов сказки!
Дурак немытый на печи лежит Иванушка, а потом шутя и играя дочь царскую в жёны берёт, да полцарства в придачу! Эха!
Такова же сказка о битлзах — из рабочих парней да в миллионеры всемирноизвестные.
Такова же сказка о Лимонове — Это ж надо из рабочего посёлка, где с хулиганами дружил, до национального героя дошёл!
*
Национальный герой говорит:
«Да я работаю на себя.
Быть красивым умным интересным гением-поэтом
и этим принести славу русской нации вот моё желание.
Чтоб национальному герою подражали
Чтоб одевались так, как он
думали так, как он».
*
Тип героя Мандельштама уже выветривается из интеллигентских голов и всё более устаревает.
*
Как-то Лимонов признался:
«На старости лет я изобрету машину для единовременного наложения всех красок, крема, пудры, ресниц на лицо женщины. Дабы облегчить женский труд и сэкономить женское время».
*
Национальный герой Лимонов обращается ко всем слоям общества. Он обращается к тем парням, которые способны к саморазвитию.
Национальный герой терпеть не может традиционного интеллигента — слабого, задёрганного, состоящего на службе. Первого русского поэта Тредьяковского министр Волынский бил палкой. Интеллигенту недостаёт мышц. Когда уже он их вырастит. И станет сильным и смелым.
*
Лимонов пьёт водку поставив бутылку прямо на развалины Колизея. Сгущаются сумерки, Лимонову жарко, он постепенно напивается и начинает петь песню «Из-за острова на стрежень, на простор хмельной волны, выплыва-ают расписные — …тритатата-тритата».
собираются итальянцы.
*
Лимонов говорит в ООН речь по поводу создания государства интеллигентов.
«Вы обязаны дать нам территорию на льготных условиях!» — кричит он представителю Австралии — «обязаны!»
Нас всегда угнетали и гнали и цари, и народы! Нам это надоело! Мы уходим от вас!
*
Как-то Лимонов обмолвился:
«Тот, кто занимается каким-то вопросом, несомненно, что-то выскажет по этому вопросу.
Так вот и Солженицын высказывает что-то, занимаясь устройством России».
*
Русский национальный герой Лимонов отказывался видеть в западной жизни лишь хаос, как большинство русских, в том числе Есенин в Америке и Блок в Париже. Он порицал Блока и Есенина и внимательно приглядывался к проблемам Франции и Запада вообще.
*
Я не собираюсь в будущем писать только о России — сказал национальный герой.
*
Лимонов в самой высокой степени является представителем своей нации.
И куда бы он ни поехал — нужно знать, что он сын русской культуры и русских инстинктов, и что никто другой так не олицетворяет Россию как Лимонов.
*
Несколько тысяч людей лично знающих Лимонова, конечно, хотели бы избрать его своим представителем в Верховном Совете, но они не организованны и крайне робкие граждане.
*
Русский Одиссей — Лимонов — оглядывается:
«Мои друзья — например, те, кто со мной закончил школу — остановились в своём развитии уже в двадцать. Самое большее, на что они были способны,— это окончить высшее учебное заведение. С работы и на работу — вот и вся их жизнь — жена да дети.
А со мной произошли ещё удивительные приключения. Я увидел первого живого поэта Мотрича. Увидел его вершину и падение. Познакомился с парадоксальным Бахчаняном.
Потом приехал и в Москву — хоронил Крученых, хоронил сюрреалиста Соостера. Многих слышал, видел и знал. Я написал здесь “Русское” и “Золотой век”. Узнал и полюбил Елену.
В Москве я познакомился с художниками Яковлевым, Ситниковым и Кабаковым, поэтами Холиным и Сапгиром, с Лилей Брик, послом Бурелли, академиком Мигдалом и коллекционером Костаки и другими.
Косность в лице учителя Якова Львовича Капрова и моей матери Раисы Фёдоровны Зыбиной хотела направить меня в общее русло жизни, но я оказался инстинктивно упрям. Я благодарю тебя — судьба и благодарю Вас — мой личные силы! Так разворачивайся далее — занимательная одиссеева жизнь!»
*
Московский этап Лимонова
1967–1974 гг.
оброс легендами.
*
Лимонов работающий строителем монтажником на сырой площадке цеха — близорукий, окончивший школу, оббивающий зубилом концы арматуры, чтобы бывший беспризорник украинец Золотаренко-старший сварил их вместе
такой Лимонов в сапогах и ватнике предстает нам из 1960 года.
*
Есть ли у национального героя Лимонова сбережения в банке, есть ли у него капитал?
Никакого!
У национального героя есть его гений и желание жить в новых формах жизни, дотоле не существовавших.
*
Для Лимонова нет определений «свободное время», «досуг», «отпуск», «работа».
Для национального героя есть твёрдое и ясное одно определение — «жизнь».
и он ею располагает
и над ним только Бог
и нет над ним человека.
*
Национальному герою нравится холмистый морской прибрежный пейзаж с растениями, с камными и выразительными скалами по берегу. Солнце горячее. Нравится путешествие на небольшом парусном корабле.
*
Национальный герой любит плотно облегающие костюмы.
Известен знаменитый пиджак Лимонова, сшитый им самим из кусочков ткани. Видимая поверхность пиджака состояла из 114 кусочков ткани. Пиджак снабжён инициалами национального героя «Л» и «Э».
*
Рабочий Борис Иванович Чурилов как никто другой в своё время повлиял на Лимонова.
Без Бориса Чурилова Лимонов навсегда остался бы хулиганом Салтовского посёлка.
Такого рабочего как Чурилов во всём мире не сыскать. В 1964 году, на третьей смене, он и Лимонов впервые читали Кафку на украинском языке в журнале «Всесвит». А вокруг гудел литейный цех.
Все свои деньги Чурилов тратит на книги и пластинки. В 1974 году Чурилов ушёл из литейного цеха и стал землекопом.
Он рисует церкви на берёсте и изготавливает рукописное Евангелие с цветными миниатюрами.
Однако он всё же меньше Лимонова. Он просто удивительная личность. Лимонов же не подчинился среде. Он национальный герой.
*
Лимонов и Елена как:
Ромео и Джульетта
Дафнис и Хлоя
Беатриче и Данте
Петрарка и Лаура
Лейли и Меджнун
Дали и Галя
Мао Тзэ Тунг и Цэян Цин
Естественно не забывайте
что с приметами нашего времени.
*
Только по причине любви к Елене Лимонов полностью стал национальным героем. До этого образ его был не до конца выяснен. Не хватало раскрытия его в личных отношениях.
Сила Лимонова проявилась в так называемом реальном мире, как сила, заставившая Елену полюбить Лимонова, а затем и уйти жить вместе с ним.
*
Лимонов играл в кино:
Степана Тимофеевича Разина
Емельяна Пугачева
Василия Ивановича Чапаева
Сергея Есенина
и самого себя
в картине под названием «Национальный герой»
Ещё ему хотелось сыграть атамана Антонова.
*
Лимонов на 99,9 % безупречен.
Что в облике Лимонова может быть лишнее — это очки.
Ну уж тут — что сделаешь — врождённая близорукость.
Но образ Лимонова — без очков.
Да ещё и в косматой папахе.
*
Одежда любой фирмы, которую надевает Лимонов, становится одеждой национального героя.
Майки — лимоновки.
носки — рубашки — лимонки
пиджаки — лимон.
прически — айлимонов.
Ему не нужна особая обстановка.
Национальный герой обливает любые вещи своим сиянием.
И вещи приобретают новый романтизм.
Таковы и глинистый овраг в районе Харькова, и московские бензиновые огородики у Яузы, и дымящаяся свалка, и продавленные стул, и диван.
То есть как микроместность, так и макропейзаж.
*
Национальный герой может остановиться на улице и создать из себя статую.
Хорошо вечером прилечь и подумать о запрещённых государством вещах — о восстаниях, поджогах, о покупке или продаже оружия.
Так мечтательно говорил Лимонов.
*
Утро. Национальный герой сидит за столом — завтракает. Перед ним узкий длинный бокал, початая бутылка виски «Макинлай», кусок холодной телятины и салат, включающий свежие огурцы. Хмурое русское утро. За окном май, холод и непогода: Ой вы сени мои сени, сени новые мои! Сени новые кленовые решётчатыи!
*
Национальный герой нанимал у хозяев многие комнаты. Как уже сказано, 126!
Жил он и там, где пол представлял из себя горку, а в подъезде стояла лужа воды. Дошёл он и до сухих просторных квартир.
Но это ему всё равно, и первые даже лучше вторых, ибо запоминаются трудностью своей.
*
Лимонов существует для умного юношества.
Старые «» ещё могут понять, но уж никак не действовать. Поздно.
*
Он говорит:
«Как я дошёл до жизни такой?
Я видел вокруг инфляцию духовных ценностей.
Вокруг сколько угодно талантливых нытиков-поэтов,
сколько угодно людей, заражённых страхом смерти,
людей, боящихся жить согласно себе, а не согласно общепринятому способу жизни,
людей, сваливающих всё на обстоятельства.
Я был способен. Жизнь была мне удовольствие во всех её проявлениях.
Я видел, что этим разительно я отличаюсь.
Я подумал, что я нужен как позитивный пример.
Я отнюдь не объявляю нашу современную жизнь адом, абсурдом. Я говорю, показывая на неё — вот она.
Я ценю в жизни самые энергичные проявления, откуда бы они не исходили.
Я не пожелал быть вялым талантом.
Я предлагающий сменить слабость на силу.
Как тип я принадлежу одновременно и всему народу, и все-таки её лучшей части — людям духовных проявлений».
*
До 1972 года жизнь национального героя голодная и полуголодная.
*
Однажды Лимонов снимал комнату у хозяйки Людмилы, где были дети — Алла, Лена и Алик и отец алкоголик Ёрш.
Алла играла на балалайке, Лена на скрипке, Алик всё знал. Лаяла чёрная собака Чапа. На полметра от пола прыгали земляные блохи.
Ёрш ползал в коридоре и варил в кастрюле огромную рыбу.
Я — Ёрш — говорил он, поднимая волосы рукой. Ты не Ёрш — ты Коля, говорила хозяйка Людмила.
*
и была хозяйка Жанна
и была хозяйка Нина
и был хозяин Борис Иванов
и была хозяйка Нелли
и была хозяйка Зина
и был хозяин Владимир
и был хозяин Пестряков
и было хозяев…
*
Стихи Лимонова читают в следующих городах СССР. Прежде всего
Москва
затем Киев
Ленинград
Симферополь
Свердловск
Новороссийск
Одесса
Львов
Кишинёв
Душанбе
Харьков
Магадан
Минск
и даже городок Бельцы
*
Люди переписывали стихи и увозили к себе. Так Лимонов распространился как поэт, хотя ни единого раза не был напечатан.
Читают Лимонова и во многих заграничных городах.
*
Первые американские хиппи появились в 1967 году.
Лимонов же жил у реки, ночевал в сараях и подвалах уже года с 1960-го. С 1964 года он уже непрерывно ведёт жизнь, полностью подпадающую под определение «Свободного существования».
т. е. живет плодами рук своих, нанимает комнаты от хозяев /по выражению Достоевского/, не служит и располагает собой по собственному усмотрению.
Если ему кто нравится — он с ним дружит, если нет — национальному герою легко в сторону уйти.
Национальный герой в тот период ничего не покупает /как, впрочем, и в этот/ у государства кроме несчастных продуктов питания.
Деньги немногие, нужные для питания, ему доставляет шитьё брюк. Непосредственно на эти деньги, получаемые из рук заказчиков, каковыми являются его многочисленные друзья, он и покупает еду.
*
Национальный герой говорит:
Окуджава и все прочие — выдохшееся поколение. Сюсюканье городских романсов инженерам в протёртых штанах это очень нравится. Под эти романсы хорошо просерать свою жизнь на службе, под их мелкотравчатый гуманизм.
Внушить новый образ жизни — вот что насущно необходимо нации.
*
Национальный герой размышляет:
«Как на мелкие цели, так и на великие затрачиваются одинаковые средства. Гений это тот, кто не занимается мелочами, а умеет оборачиваться только к главному».
*
«Я ввёл в обиход выражение простые люди в его отрицательном смысле. И не жалею об этом. Я сам был героем времени»
— сказал Лимонов.
*
И так он сказал:
«Нужно непременно играть. И нужно заиграться. И нужно довести игру до конца — до смерти. /Играть — принять чуждое, но желаемое/».
*
Ещё Лимонов сказал:
Сахаров и Солженицын — дети радио. Вся так называемая русская оппозиция обязана своим существованиям радиостанциям, а отнюдь не смягчению нравов. Пляши, Маклюэн! Никогда ранее в России такое не было возможным. Мы тоже удостоились включения в мировую деревню.
*
Однажды Лимонов бросил вскользь:
«Легенды Александра Великого, Цезаря, Наполеона, Мао-Тзэ-Тунга — грошовая глупость, лубочный вариант для непосвященных. Я берусь воспитать из подходящего русского мальчика великого полководца и необыкновенного мудреца».
*
Ох эти главы правительств! Эти Чаушеску, эти Никсоны! Они напускают на себя такой вид, точно мы без них не ели бы, не жили, не существовали. Благодетели! А то до них было пустое место. Сплошной Салтыков-Щедрин был, да?
произносит национальный герой.
Надо отнять у них их ореол. Никакой таинственности нет у бюрократов!
*
Чего ищет человек? /отдельный человек/
Славы и чести
А чего ищет государство в лице всех?
— покоя и усреднённости
и это он сказал.
*
Для воспитания в простых людях чувства историзма нелишне выпускать пуговицы с изображениями /поясными портретами/ великих людей древнего, старого и нового времени. Люди, каждодневно надевая одежды, наслаждались бы видом высоких особ, которые одновременно служили бы и примером.
так он предлагает. Он — национальный герой Лимонов.
*
Вот он был неким символом. Вот он был вечным притворой, этот Лимонов, чёрт его знает, чем и кем. С одной стороны, энергичен, стоек. С другой стороны, вдруг где-нибудь на людях, где его не знают — разноется, притворится, в присутствии каких-либо юношей, что те его успокаивать начнут. А выйдет на улицу, как рассмеётся!
Так и корчил дурачка, даже рожи корчить утруждался. Войдёт, бывало, простофилей глупым в иные дома, да так привыкши у двери их и впредь лицо быстро сменяет.
*
Моя голова атакуется информацией
ТВ вчера мне показал, как японцы ловят в иле каких-то полубычков, полурачков. Знать мне это нужно или не нужно, во всяком случае, я теперь это знаю.
Лимонов.
*
Он вспоминает:
«Я любил покидать друзей, когда вырастал из них. Я не был лишен сентиментальности, но помню облегчение, с каким я выходил из ворот завода “Серп и молот”, полностью рассчитавшись и поставив нужные лиловые печати. Мир снова был неясен, открыт, а этап был позади. Так же и друзья. Я вспоминал их и вспоминаю.
Я в каком-то смысле их представитель в других высоких сферах жизни — куда они не дошли. Но я горд, и мне хочется, как Суворову при получении звания фельдмаршала, прыгать через стул и кричать “Салтыкова обошёл! Бестужева обошёл!”
И я таков».
*
«Ну да; я сын младшего офицера Советской Армии и вполне устраиваю низшие классы. Нельзя сказать, что происхождение сразу поставило меня в выгодное положение в мире. Отец мой играл на гитаре, был начальником клуба в своём полку и паял телевизор. Сколько помню себя, мы жили в одной комнате все втроём»
говорил Лимонов в частной беседе.
*
Для роли национального героя
тридцать лет вполне подходящий возраст.
*
Я испытывал чувства ужаса и подавленности, пока был такой как все.
Но подавленность сразу исчезла, как только я набрёл на стихи. Уже тогда.
— вспоминает Лимонов.
*
Вся моя жизнь есть борьба с общепринятой моралью, с моралью отца и матери, с «будь как все!»
Я говорю. «Не будь как все!»
Будь особенный — развивай в себе странности, чутко следи за собой и придёшь к искомому. К тому месту жизни, где тебя не будут мучить кошмары, а будет ясное ощущение — я стою там, где нужно и будет легко — чуть ли не взлетишь
*
Лимонов стал национальным героем за:
русских харьковских ребят:
Саню Красного
Костю Бондаренко,
«Голливуда»
За Кота и Леву
за капитана Зильбермана
за Витьку Косого
за друга Кописарова
за друга Кадика
За двоих Ляшенко, за Ляховича, за Ляха
За Витьку Кемченко и Витьку Ревенко
За Славку Цыгана
За Бокарева
За Гришку Приймака
За Витьку Головашова и Сашку Тищенко
За Леньку Коровина
Вовку Золотарёва
умершего Витьку Проуторова
*
Он дошел за недошедших:
повесившегося поэта Видченко
железнодорожника Игоря Иосифовича
спившегося поэта Мотрича
зарезавшегося поэта Аркадия Беседина
за Лёньку Иванова
за Сережку Горюнова
за директора магазина Мелихова
за Поля Шеммета
за художника Басова
за друга Гришу Гуревича
За Соколова
За Прокопченко.
Московских же ребят перечислить и нет возможности
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Капитан Лукашевич вышел из ворот своей воинской части и задумался. Капитан Лукашевич должен был встретиться на Красной площади в 21 час 00 минут при смене караула у мавзолея с человеком, стоящим возле Лобного места, читающим надпись на исторической доске.
*
Алексей Лукашевич должен был подойти и сказать «Здравствуйте! Уже поздно осматривать Кремль, а не пойти ли нам поужинать?!» И после этого, как можно меньше взглядывая по сторонам, он и его странный знакомый должны были отправиться прочь с Красной площади.
*
Так всё и вышло. Спутник его был лет тридцати, а пожалуй, и чуть моложе. Фамилия его была Лимонов.
1974 г. Москва.

Русско-американские стихи (1974–1975)
* * *
Вы знаете — любил поэт когда-то
Москву. она его как брата
Она его ласкала нежная смешав
с другими организмами. он прав
был от утра шатаясь в дымном шуме
в снегу в колёсах. В беспощадном у́ме
смешались грации любых сторон
поэт тогда был беспощадно «он»
То к ГУМу занесёт его дорога
Стоит глядит товаров сколько много
У всякой вещи есть своя фигура и окраска
и люди в деревенских про́стых масках
и от ворот Кавказа и от других ворот
приносят свою фразу все нации в народ
Спокойные узбеки. тревожный сын туркмен
Нац. мены словно реки. вплывают в ГУМ вдоль стен
Поэт средь них Лимонов
почти такой же сын
одежда без фасонов
и чёрный цвет один
Пальто сверхразливное
куски мохнатых брюк
Лишь на лицо простое
очков наброшен крюк
Его встречали часто
хохол и белорус
он с ними образует
невидимый союз
То занесёт его в букинистический
В Столешников приземистый трагический
Стоит глядит он книги час и два
и без еды кружилась голова
Сказать теперь что стал он не такой
Что уж ему наскучил род людской
Он был растяпа и разиня. ротозей
смотреть любил на вещи на людей
Свисают вещи. люди ткани мнут
Большой базар. прекрасно устают
глаза от метров ситца от папах и жёлтых рук
Сказать что нынче взгляд его потух?
Нисколько. лишь переключился он
Мир наблюдает он с других сторон
Как иностранцы бодрые живут
чего съедают и про что поют
О национальности! Вы слабость для поэта
И нравятся чулки. носки. береты
Плащи. накидки. шубы и пальто
Машины. деньги. тысячи и сто
О линии и лики президентов!
О короли средь их больших моментов!
О цвет и запах и бутылок этикетки
Старинных фирм блестящие отметки!
Всё это в изобилии даёт Москва
манжеты белые торчат у рукава
Поэт почти такой лишь смотрит с удивленьем
на мировые всякие явленья
* * *
О войне за Хиву
О Хиве за войну
Расскажу я путём превосходства
Нас не надо убить
И в песках утопить
Совершить мы желаем поход свой
А Хивинский тот хан
Далеко отстоян
Он живёт за войсками в оградах
Он большой и смешной
С голубой бородой
Весь в камнях соболях и наградах
Ну а русский солдат
Он начальнику рад
Он в холщовом наряде с винтовкой
У него на лице
Ничего о конце
Притворяться умеет он ловко
Переход. переход
Многодневный поход
Вся пустыня в каза́ках солдатах
Пить как хочется ох!
А колодец залёг
Впереди в миражах и закатах
Здесь ночная постель
Приближается цель
И туркмена измена не может
Помешать и не дать
И росси́янов рать
Край хивинского ханства уж гложет
Офицер впереди
К белоснежной груди
Прижимает он перевязь-руку
Да от крови следы
Ничего. до воды
Доберёмся сквозь жа́ры и муку
* * *
Мне совершенно фигура Христа
Та и не та
Мне совершенно фигура Христа
не говорит ни черта
Мне говорит он — ливийский дух
Между пустыней двух
В храме которого не было нет
Храминой целый свет
И тёмной ночью военный отряд
перестреляли ребят
Это ливийский вмещающий дух
ластится вслух
Это вдруг тот говорит что молчал
идеалист он и каннибал
сентиментально покроет слезой
труп молодой
В снежной России он тот же — наш
В чёрном музее стружит карандаш
И между двух потемневших старух
В нише ливийский дух
Я на ливийского духа звездам
Жалобы нет. никогда не подам
Да. и по поводу грязных равнин
Не обратится сын
В тёмном подвале Свердловска ты
Пил у Царя и Царицы рты
Пил у испуганных бледных детей
Древних кровей
Не покровитель тебе — народ
Этих народов — текучих вод
Видел немало ливийский дух
пользовал их как слуг
От бледнопятых седых египтян
Да и сидел на цепи Тамерлан
Завоеватели и вожди
Словно дожди
Да. на равнинах паннонский галл
Тихо. лодыжечно-голо стоял
и опёршись рукой на копьё
думал своё
И надо мною ливийский дух
Пусть я стою у ботинок двух
И обувной шелестит магазин
Дух-то один
Шелест таджика. узбека ход
Будущий общий китайский народ
Видит спокойно ливийский дух
Сдержан при этом. сух.
* * *
Наслаждайся жизни битвой
Утром сразу попади
Обрезают уж деревья
Весна-лето впереди
Говорю себе — Лимонов
Ты — здоровый человек
Пережил ты столько стонов
собственных. Как гордый грек.
Клеопатра
Точно помню на картинке
С весом дама и матрона
Чем скажите очарован
Был Антоний возле трона
Римский друг. триумвиратор
В помышленьях император
Этой женщиной тяжёлой
Если же была весёлой?
Врёт картинка. Клеопатра
Была замужем за братом
Старшим. а потом за младшим
В общем значит была падшей
С нею спал могучий Цезарь
С нею спали спали спали
Её недра раздвигали
Возмутительной рукой
женщины смутив покой
Так она переходила.
Август сделал. Положила
две змеи себе на грудь
Не идти в далёкий путь
привязавшись к колеснице
Тридцать девять лет девице
Когда тихо умерла
От позора же спасла
Значит было в этом теле
Что-то страсти что не съели
Гордость царская и поза
Сверху змей лежала роза
До эР Ха тридцатый год
Так счас женщина умрёт?
Я люблю когда страницы
Ветхой книги кажут лица
Древних восковых времён
Я свободно наделён
Подоплёкой таковою
Что живу почти с тобою
Клеопатра в один день
И гляжу как ляжет тень
Статуи скульптурной вазы
И он входит резко. сразу
Входит твой очередной
Может Кассий — он герой?
Иль ты едешь в белой барке
С музыкой. и душно. жарко
В Ниле замер крокодил
Гладким стал могучий Нил
. . . . . . . . . . . . . .
Надо быть поближе к власти
Разберут и нас на части
Что любил. Кого любил
Лют был. грозен. или мил
Так Лимонов размышлял
Клеопатру представлял.
* * *
Люблю я жену свою страстно
Она необычно прекрасна
И с нею живём мы вдвоём
В квартире уже как в легенде
Пьём водку и вина и бренди
И чёрного хлеба жуём
Жена моя пишет в тетради
Стихи наслаждения ради
Горят из Елены глаза
Нам все говорят — погодите
Друг другу ещё затошните
Не сможете жить вы из-за
Да это бы верно бы было
Когда бы она не любила
На месте меня был другой
А так мы живём себе ясно
Она — необычно прекрасна
И я — национальный герой
* * *
Бледнолицый и серьёзный
Разудалый человек
Вы — Лимонов — Вам не поздно
Вами создано навек
Разнообразные поэмы
И престранные стихи
А иные люди немы
Да из них торчат грехи
Вы любовь свою схватили
и забрали унесли
Как вас черти не крутили
Крови хамские спасли
И году в шестидесятом
Не попали Вы в тюрьму
вслед за Костькой. почти братом
в юридическом тому
не читают адвокаты
ваше дело нараспев
Вы — Лимонов — всем богаты
Ваша лучшая из дев
Отчего тогда скажите
если пляска водка стол
Вдруг со всеми не сидите
и задумчивый ушёл
* * *
В марте как известно
По России тускло
Тучи злы телесно
Как-то тесно узко
Хочется в дорогу
где-нибудь где юг
Где чужие боги
и довольно слуг
Носят кофе-воды
А в окне отеля
Море пароходы
кипарисы ели
Солнце. иностранки
ходят без чулок
бритты и британки
и собака дог
* * *
Тихие русские воды
воды нахмуренных книг
Чёрные плечи погоды
Зябкий застуженный стих
Прошлых купцов обличая
Видел Островский их сын
Я ничего не желая
новых людей господин
Вот забрела Катерина
Вот среди сада и стол
Здесь и студента кручина
Рядом заводчик был зол
Сопровождаемы белым буфетом
пьесы идут и идут
Сколько растений взрастает при этом
сколько же птиц пропоют
Много состарилось бедных созданий
в роли бродячих актрис
ужас предчувствуя вечных свиданий
сладко прослушивать «Бис!»
много менялись плакаты. плакаты
падал поднялся Тамбов
сказано было Островским когда-то
сладких купеческих снов
* * *
Однажды ей повстречался человек. который перевернул всю её жизнь. Повстречавшись ей он исчез. И мелодия однообразия вновь звучала в её жизни — все остальные годы. То что её звали Тамара — так и не сыграло никакой роли
Она сколько ни старалась впоследствии. никак не могла найти ошибки в сценарии своей судьбы.
Впрочем что же —
Миллиарды проводят свой отпуск на Земле без звука
А ведь у неё даже был один очаровательный момент
* * *
Солнце что-то растапливает. где-то с помощью
талой воды копает
Отскакивает светом от Москвы-реки…
Россия… Широкие правительственные залы…
Семидесятилетние-шестидесятилетние министры.
Отделённые от нас стеной и конвоями правительство.
И мы —
те кому 30 лет. Тщетно пытающиеся себя доказать
Так и хочется дать по этим кремлёвским камням.
гумовским стенам. по этим цвета конины зданиям музеев!
Вы! Стоите тут безучастно!
По этому пряничному Василию Блаженному!
Что ты стоишь тут!
* * *
Ветер идёт в сад. там уже стоит зелень
Ночь присоединяется
Все явления природы собрались вместе
Буря. гром. дождь. грязь и другие явления
Зелень едва выдерживает
она боится и носится во все стороны
Наступает «потом»
Во время «потом» пришла свежесть
Появилась точность выражений
и босые ноги ощущают удовольствие
Некто сидит под деревянным стволом
спиною чувствует все шероховатости
Он солдат или он не солдат
он кто-то или что-то в этом роде
во всех родах
У него есть понемногу от всех людей
Он вполне мужчина и обнимается с природой
Чёрт его сюда занёс
Кто его сюда занёс?
может быть никто
Печальности в нём ни на грош
Деревья раздают удивительные звуки
Они раздают во все стороны крики. испуги и сочетания
Итак вся ночь полна междометий
и никто не ползает не летает
всяк прижался и ждёт
и занесён сюда по воле случая
Если даже он не музыкант
то чувствует и ощущает симфонию
Она пробегает у него по коже и по голове
Она пробегает у него по волосам
Он ой-йой-ой!
Он — всё
От ощущений у него во рту кисло
И бьют невидимые барабаны
И вспоминается
* * *
Низкопрядучее небо с лихвой хвалилось лёгким
телом своим
и блеск оружия космовоинов строгих.
как на рязанских просторах
встретились для избиения друг друга
В лице Монголии у нас уже был тогда Китай
Мы Россия перепутавшись всеми своими
усладительными линиями
заронив лицо в чувства и поправки дрожали
а он шёл своими воинами несметно шелестя
быть бы сейчас раствором жидким на время
у кустиков снизу в лунке
когда пройдут — обернуться опять человеком
— вот воинская молитва простая до убийственности
продирающая и отважного
молитва о мешании тела
Когда иногда в шерстяной рубахе
на ветру на расстреле сжигании
Ах быть бы мурашкою вдруг
и патрон безопасен
и пуль не накроет полёт
улетит мурашка
и вся-то назад
и к папирусам сядет он
* * *
I
и дни переворачивать лениво. теряя память. нежно
забываясь. и из страны лететь на белых крыльях
Впадая чёрти где в Оку ли. Каму. или впадая не
в Оку и Каму. Куда впадая
так я думал тускло. шагая современными шагами.
вполне чудак. вполне какой-то странный.
без уважения толпы к себе шагая. проспектом
Ленинским. Наверно образован на месте поля.
голых сорняков. и назван именем вождя. который
раньше. когда-то жил. и бедняков возглавил.
железной партией смешных интеллигентов. идеалистов
тех кто не служил. недоучился. не хотел. не
стали. не будем. и не стали. Не смешных.
А сильных. не служили. не хотели. а партию
образовать сумели. а впрочем мне до них
какое дело. поэт я современный и меня
Чего-то да на свете ожидает. растений шелест.
шумы. кинозалы. в Европу выход. желтолицый взрыв
не знаю. Есть пора ненужной грусти. когда всего
что видишь бледно-жалко. прохожего в засаленной
ушанке. его же книжки в сеточке. в авоське. Противно
жалко… и того кто обыск. И так же жалко ищут
у кого. Нелепые. бледны и ненормальны. две
стороны в день северный и тусклый.
Друг друга стоят. Ищут или прячут. Без радости
в России без всего. Как в тяжком тяжком сне
после обеда. как сравнивал Шекспир
— весна Москвы вступает. нахмуренное небо выжимает то грязный снег. то чёрный дождь.
мученье. у всех пальто печальное движенье
и ноги грязны. безобразны грубость. сапог в грязи
мозгов в грязи. в снегу.
Очистите меня и всех иных. кого прошу. богов?
каких ли. бога? иль просто существо верховное?
Ах надоело. Пойду домой. что толку в пустоте
и Ленинский проспект — лежи один. На месте
магазинов было поле. возможно там гуляли
даже зайцы. и мыши. и какие-то орлы.
II
Вот мне не двадцать. Но двенадцать что ли? И
потерял пейзаж авангардизм. Чего-то нету. то есть
линий упрощённых. и чувства потеряли модернизм
и вкус такой что будто бы родился. и вкус я
потерял терзать Москву. ногами все садовые рыдваня
А рвал её на части на большие. На Сретенку.
Колхозную. на Лихов. на Каляевскую. Сокол. и всякие
другие на отрывки. Я больше не брожу. устал.
устал.
Москва в которой зарождаясь умирало. вполне
она спокойная лежала. но что в ней будет
с нами с нами с нами. Куда деваемся мы
гугеноты. той вашей веры. Ну куда. куда
чем виноват товарищ Кабаков. Бухгалтерских
своих что чертит снов. чем виноват Лимонов
разговаривая. И нарушая речь её одаривая
И это говорил я сидя за столом. Каким путём
каким большим путём. Куда мы все. и вы и мы
придём.
* * *
Ненавидящий пустоту лилового ручья. Сдавший влагу
кому-то. Я не люблю пенные кольца загривка
Похожие на окаймляющую верхнюю и боковую
растительность разжиревшего давнего старого
друга поэта. Пищеварительно пишущего послеобеденные стихи.
непременно в малом количестве. Достигнув
достатка. достиг добродушья семейного. главою
же сделавшись робкой семьи из двух душ.
он глуп и полупридушен немного. своим государством.
Волнения требует зодчий. А я вольный дух
даже вольный в каком-то припадке
в каком-то припадке. воистину неком припадке.
* * *
Туманно-тревожные сны эмират
Глядел среди глин и дувалов
Они не сумели сквозь русских солдат
себя отстоять. было мало
и пушек и сабель. фузеек кривых
и жалко и жалко их. жалко
в барашковых шапках восточных смешных
бегущих и шатко и валко
* * *
Какая-то зелень в окне
листочки со мной наравне
Жила бы нечистая сила
меня бы она оживила
А то сух и пресен сей мир
Народ — неизменный кумир
И ждёшь от него происшествий
Нуднейших общественных бедствий
Нечистая ж сила б была
Ревела б в окне за осла
Казала бы уши и рыла
Ночная нечистая сила
Дневная нечистая сила
В лесу бы меня заблудила
Кричала бы страшно и выла
В пещере нечистая сила
А я убегал бы от ней
Куда между трав и камней
* * *
Играют на гармониках.
Разрушено Шахматово
Усадьбы Блока нет
Эх жёлтенькие лютики
весёлые цветы!
И что за фраер Блок
Что ездеют тут всякие
Втащили камень ахают
Подумаешь подумаешь
их этот фраер Блок!
* * *
Жил на свете был Лимонов
очарованный простой
вышел в путь с татарских склонов
оки-камы над рекой
Ездил. был. перемещался
Маленький. со всей семьёй
офицером оказался
его батюшка родной
Батечка носил погоны
верил в книги. ордена
Честный. праведный склонённый
Табака и без вина.
Жил Лимонов как Савенко
Лет совсем до двадцати
школа. угол. пчёлы. стенка
к кирпичам должно расти
Видел тени Украины
ездил в хутор на телеге
спал в руках студентки Нины
где-то в Сумах на ночлеге
Плакал. ныл. бежал из дома
Воспитался. ошалел
Просто. русско. так знакомо
Много есть подобных тел
Но однако Одиссея
помнит злые имена
Греция его. Рассея
за Лимоновым страна
Благородная порывом
безысходная в быту
иль с характером счастливым
наш Лимонов попросту?
* * *
«Ты меня не можешь в поле
Как магистр с двумя цветами
Повстречать на дне воспоминаний
Ты едва лишь только брезжишь —
бледно-жёлтая фигура
да ещё с размытыми краями
Да — тебя поизносилось
поиграли — Ваша милость
с географией пространствами — довольно
всех наук гуманитарных
и любовей легендарных
много много по груди твоей катилось
было больно
Вас давно упрятал ящик
саблезубый милый ящер
А вы вылезли и ходите гуляя»
так я думаю небрежно
Вы и ты свободно нежно
в отношении к себе перемежая
* * *
Сонные лирики. люди хорошие
как с бородой мужики
осень. беспутные дни и погожие
мыслей ленивых полки
Где облака побывали, что видели
верно убитых в лесу
Велосипедом смахнули грабители
с трав придорожных росу
всё одноместное милое русское
тут для Алёнушки брод
и для художника. место-то узкое
видно как ряска цветёт
Пахнет золою от печки остывшие
вечно лежат кирпичи
люди нелепые. тихо любившие
мир полыхнувшей свечи
* * *
Тысячу раз прославленные полянки. где
всевозможные виды ягод сидели в траве.
ягоды на все буквы. и на «ч» и на «к» и на «е».
Лев Толстой в белой полотняности зачем-то
косит красоту. Когда крестьянин — понятно
он для еды корове для пользы своей. Но у
эЛ Толстого уже есть своя польза. Зачем же
косит он лукавя. Приезжает Гаршин и стоит глядит
Толстовцы приезжают. Все полны лишних
политических идей. приветствуют. падают
в обморок. Дай обнять тебя мягкая деревенская
баба. Дай тебя интеллигентским объятьем своим
охватить. Вечный луг вечная дремота.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
и танковые ученья накинув противогаз
спугивают эту отрицательность и положительность.
Быстро майор проводит команду по этому
месту. ничего не зная о мире проводит майор.
и глупые солдаты без заблуждений бегут
и везут танки за рычаги. пробежали. и снова
к толстому уже приезжается Гаршину. душно.
кошение трав.
* * *
Леонгард Францевич
Ипполит Елизарьевич
Ивонна Неониловна
Венцеслав Максимилианович
Плотин Аристархович
Энгельбрехт Дионисьевич
Бонавентура Христофорович
Прощайте!
* * *
Уезжаю я Димка и прощай
Взял бы да и собрался. Приезжай.
Все мои предрассудки
Вспыхнули вдруг во мне
Жутки или не жутки?
Может не…
Вот жили рядом. Дружили.
Как будто да.
Рядом стихи сложили
Читали их. (Шли года)
Не знаю не знаю точно
Я и твоей души
Ты из своей мне ночи
В мою мне ночь напиши
Знаешь что остаётся?
Весёлая шумная смерть!
Мне ничего не даётся
Просто так. Ибо смерд.
* * *
У нас есть прошлое
Отец родился в городе Боброве
У нас Россия есть. Воронежские крови.
У нас кольцовские преемственные связи
Мы может молодцы такие же как Разин
Мы может молодцы которые когда-то
Худой кафтан накинув воровато
И засапожный ухвативши нож
«Ты нас не трожь! кричали — Князь не трожь!
Ты отойди, а то ведь полосну!
А ты княжна иди. иди ко сну!»
Мы в кучерах. в любовниках графинь
А ну из брюк положенное вынь
Мы точно жуткие студенты из народа
Мы доктора миллионеры год от года
У нас прадедушка томился в крепостных
А мы же ходим в литераторах лихих
А мы ещё не то устроим на Руси
У нас и милости и зверства испроси
С калмыками мы свяжемся опять
С бурятами нам вместе воевать
Казахов подобьём идти в поход
Сольём все дикие дивизии в народ!
* * *
Готический Святого Стефана собор
Глядит в меня нахально и в упор
Готического серого собора
Я удостоил даже разговора
Как камень обтесали как смогли?
И сколько трупов около легли?
Вокруг леса. Метро. Метрым-метро.
И строят неглубо́ко и остро.
Австрийцы строят обложив цветами
Не верите — сюда езжайте сами
Родители. Отец Вениамин и мама Рая
Здесь белый свет. чего и Вам желаю.
Увидеть. Поглядеть. Запечатлеть
Ещё удрать в Италию посметь
И Рим мне впереди глядится почти внятно
И не хочу в СССР попятно
Опять Москва? Как дети мы в Москве
Здесь погляжу — чтоб было в голове
Когда бы умирал — строенье Вены.
Канал дунайский. Денизгассе. Стены —
поющие свою австрийцам песню
И не хочу пожалуйста на Пресню.
* * *
За холодами придут холода
Я никогда не приеду туда
Мне не допустят приехать. Смешно
И не хочу я. Закройте окно
В эту Россию пожалуйста спать
В эту Россию приехать опять?
Генрих и Кира? Дима. Дорон?
Люди хорошие с разных сторон
Им для чего? Мне-то зачем?
Сколько же времени? Шесть? Нет-нет — семь
Я проживал там. Учился. Болтал.
Слава те господи. Всё увидал
Кончено. Новые нынче пути
Мне невозможно по кругу идти
У Вены у Вены в её переулке
Русские будут слова на прогулке
Русским словам в Риме звучать
Московские помнить и продолжать
И ностальгию в кармане закрыв
Смело гляжу на нью-йоркский залив
* * *
Мир — дерьмо. Народа мы не знаем
Мы одни. И сами мы — палач
Уезжаем. стонем. Уезжаем.
Оставляя родины кумач
И сидим среди десятка русских
Грязный итальянский дом
Ходим восхищённо в этих узких
Комнатах холодных в нём
Рим. Тоска. На вилле мы Боргезэ
Пинии. Сойдём за англичан
Уезжаем. Мира сколько влезет
Жрём пространства стран
Не корнеты в прошлом не уланы
Вот Савенко я
Чепуха. Зачем мне эти страны
Где моя?
* * *
Когда я Русский — всё же русский
Сижу у своего окна
Гляжу на переулок узкий
И это чуждая страна
Я не скрываю пред собою
Что вижу Рим как бы злодей
Рим же усиленный борьбою
Живёт Италией своей
Фонтаны хладные. Фонтаны
На солнце душно. И жара.
Сжимают старики стаканы
Сидят у столиков с утра
Я нынче вечером увидел
Как чёрный в шляпе и пальто
Пил кофе. Груб рукавный выдел
И кофе мелко завито
На стенах надписи крутые
Они хотят чтобы у них
Такой порядок как в России
Без только вывертов больных
Мне надоело. У вокзала
Толкая кресло пред собой
Мужчина-недоросток вяло
Вёз паралитика домой
Трещали дымные каштаны
Жаровню поправлял араб
Три проститутки у фонтана
Изображали жирных баб
На самом деле семь пятнадцать
Автобусы. Кино. Сквозняк
И я прошёл чтоб постесняться
Весь в тридцати одних годах
Заросший ими до макушки
Чуть не до самого хвоста
Три негритянки — три подружки
И всяка — мелко завита
Мне встретились кусками мыла.
А я поэт таких людей
Кого из родины тащило
И бросило под Колизей
* * *
За лесами длинными
Этот год запущенный
Этот град волнуемый
Этот мир виденческий
Если нет развития —
что это зловредное?
Или не допустится —
Или же допустится?
Наблюдаю раннее
Говорю последнее
С тихим медоточием
С безголосым пением
Ходят толпы древные
Дерева бугристые
Человечьекожие
Спит не просыпается.
и танцуют бабочки
Хаос снял исподнее
глины размечталися
И сидят страдания
На почётном празднике
* * *
Огни горят образования
Весёлый воздух. Горький смех
И Рим — культурные предания
Разогревает он для всех
горят вечерней ночью здания
Дыряв фанерный Колизей
Евреев древних наказание
Постройка стен его. Дверей
А мне томительному русскому
Лишь нужен чай и револьвер
Я замышляю странно узкое
Осуществление химер
И замыслов сверхгероических
В кровати возле шкафа лёг
И будет подвигов эпических
Когда поможет ему Бог
* * *
Скотина гадина Россия
Собака родина моя
Люблю имперские прямые
Твои и сосны. Тополя
Тебя никто нам не растащит
Не дам. Подставлю даже труп
Боян бо вещий нехотяще
Края откроет старых губ
Злодеи выродки прямые
Все те кто хочет распылить
Для исторической России
Защитником я может быть.
* * *
Приехал я в Европу
Сижу я на постели
Вчера ходил на виллу
Там кипарисы. ели
Там сосны ветром гнуты
Приглажены на юг
И там на этой вилле
Я каждой пальме друг
С особым чувством к пальмам
Я тихо подходил
Я гладил их. Елене
О пальмах говорил
При пышном свете солнца
Сидели на скамейке
Я говорил о русской
мной найденной копейке
Случайно завалялась
В кармане пиджака
И дай Бог чтоб Россия
Пережила века
Поссорились в вопросе…
Потом пошли гулять
Сплели венки из лавра
И возвратились вспять
Приехал я в Европу
Сижу я на постели
Пойду в музей я завтра
Нужны квартиры мне ли?
* * *
Как я утром за картошкой шёл по Риму
Вспоминал Россию. маму. папу. Диму
Был туман и влажность воздуха была
Люди падали в витрины в зеркала
и выбрасывались смутными оттуда
На базаре овощей дымились груды
эпидемии зелёных и кудрявых
сонной горкою лежащих свежих здравых…
Как я утром за картошкой шёл по Риму
на Франческо Болоньези вспомнил Диму
а на пьяцца Оттавилья повернул
Вспомнил Харьков. папу. маму и вздохнул
Все события. Я мелкий человек
Я поэт. Не итальянец я не грек
Меня гонит и преследует судьба
Я служу ей в чине верного раба
И меня она покажет как пример
Честным жителям страны СССР
На мою судьбу взглянув такой же сын
Отшатнётся. Убоится быть один
Убоится он в Италию махнуть
Проживу в России скажет как-нибудь
* * *
Выпить что ли? Здесь не пьют
Здесь другое отношенье
За обедом да бокал
Разве так я выпивал
Здесь я чувствую смущенье
Мне Алейников приятель
Ворошилов был мой друг
Я так пил что всё вокруг
Только видел в виде пятен
Облезал. Терял я слух
Я валялся под забором
В двадцать лет я был и вором
Здесь же в Риме скушно мне
Грустно как в тяжёлом сне
А Россия мне укором
Что не пьёшь? Поди — встряхнись
Полежи у Колоссея
В Тибр мутный окунись
Итальянцы чтоб глазея
С понто Гарибальди вниз
Знали — есть страна Рассея
Собутыльника вот нет
Эх бы Игоря и Вовку
Наш бы в барах знали след
Мы бы Рим бы так бы ловко
Пропивали бы чуть свет
* * *
Проходит какой-то период
Теряется некий вкус
И я Вас люблю картинно
Заросший и бледный русс
Я вспомнил свою национальность
Когда мне пришло тридцать лет
И вспыхнула маниакальность
У фразы «я русский поэт»
И три восклицательных знака
Мою рассекают грудь
Я раньше был в чём-то кривляка
Теперь я иду крестный путь
Я раньше любил эти Римы
Теперь я люблю Москву
Мне было необходимо
Я только теперь живу
Новый 1975 год
Сегодня утром в Риме
Я вспомнил всех ребят
Наверное их тыща
Лежат они. стоят
Облокотясь на русские
Двери и косяки
Одели свои не узкие
Смешные свои пиджаки
С корявыми же рубашками
Выпив под Новый год
Смотрят глазами тяжкими
Сюда на меня — вперёд
Что им скажу хорошего
В Риме да можно жить
Тряпки красивые. Дёшево
Можно их все купить
Касательно осуществления
Особой моей судьбы
Её наблюдают растения
И статуй привычные лбы
Ребята! Я вами отпущенный
Чтоб тут бы ходить и жить
Другое видеть. Не лучшее
Другим о Вас доложить
Печальную нашу Салтовку
Вспомнил я в пыльный день
Цыгана Славку с палкою
Бокарева набекрень
Гришка Приймак торопится
Вовка Золотарёв
Ситенко. Ревенко толпятся
Вблизи проходных дворов
Воры и честные жители
Распухший Саня Мясник
Похоронили родителей
Пыль застилает их…
Господи Господи Господи!
Они же не видели Рим!
Монахи здесь ходят босыми
Но Вы бы привыкли к ним…
* * *
На секунду улыбнись попробуй
Ветерок играет — ветерок!
Налетает треплет треплет гро́бы
И у шляпной ленты поясок
Я не я — мужчина франтоватый
И вокруг хоть окружает Рим
Я не я — умышленный — проклятый
Никому меня не отдадим
Представитель русского народа
Средь нерусских варварских племён
Итальянцев чёрных от природы
А порою даже англичан
В эту глушь их римскую и зелень
Я приехал из живой Москвы
Жаль что не Россией Рим заселен
Да-с. увы…
* * *
Не ждать советским офицерам
Своих детей издалека
В окошке узком в небе сером
Нью-Йорка чёрная щека
Друзья все там поумирают
И умирая не поймут
Какие ветры здесь летают
Какие стужи здесь живут
В навеки тёплой тёплой тёплой
И непроветренной Москве
Разносмешенье ярких стёкол
Цветы и розы в голове
Лежите дома. Не ходите
На бледный аэровокзал
Чтоб только как чертёж событий
Нью-Йорк железный возникал
* * *
Бросай в простого человека копья
Вяжи его! Топчи его! Преследуй!
Сломай ему хребет! Пырни пониже!
Швыряй его. Дери его когтями.
Пусть будет знать! Пусть знает понимает!
Имей его в виду на белом свете!
Простому человеку на престоле
Тогда не усидеть. Его б мы свергли!
* * *
Тишина. Подкожная трава…
там на Украине голова
До сих пор лежит и возлежит
Между тем как я в Нью-Йорке спит
Между тем как я иду ворчу
Что никем работать не хочу
Что мою свободу русских лет
Не продам в нью-йоркский жидкий свет
Кофе разносите — ну-ка сами!
Вы простые люди — а я нет!
Если вам приятно быть рабами
Чистыми. С усами. с бородами
С тёплой ванной — белый весь клозет
А над мною ветер с башлыками
И тоска с казацкими усами
Сало. Самогон. Расстрел. Обед.
* * *
Из далёкого Нью-Йорка
Посылаю маме
В месяц раз одну открытку
С бледными словами
Вид Эмпайра иль Бродвея
И надежды тоже
Что Америку сумею
Покорить я всё же
Я не знаю верит мама
Только мама знает
Никогда она сыночка
Нет не увидает
В марте ледоходы тучи
Солнце им в апреле
О родимые! О двое!
Как Вы поседели!
Ваш сынок с собачьей рожей
С черномордой волка
От очков отодвигая
молодую чёлку
Упираясь в зонт по лужам
Бродит не смолкая
О Америка чужая!—
Будешь как родная
И сцепивши свои зубы
На большое дело
Я мужик — он шепчет грубо
Я тебя умело…
* * *
Заграница! Заграница!
Что мне делать — плакать. злиться
Наступила заграница
То ли плакать — веселиться
Одно слово — заграница
Я в Нью-Йорке проживаю
Я по авеню шагаю
Я на стриты поворачиваю
Я глаза свои выпячиваю
На Бродвее вижу дым
Из сабвея вышел Джим
«Здрасьте Джим — хэлло — привет!
Извините — денег нет»
Дымы по всему Нью-Йорку
Про инфляцию в подкорку
Мне проникли матерьялы
Безработных губы алы
Глаза сини и черны
Разносмешанной страны
Я уже люблю Нью-Йорк
И его имперский вид
Я уже забыл зачёрк
Где Москва моя лежит
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Коммунисты в кителях
Едут на автомобиле
Я не знаю кем Вы были
Но скажу. что стали ах!
* * *
Нам надо нам надо ребята
Немало немало стихов
Немало стихов есть на свете
Немало прекрасных стихов
Немало прелестных стихов
Стихи эти создали дети
Те кто как и я нездоров
Немало стихов есть на свете
Тягучих прекрасных стихов
А что ещё ценно на свете
Помимо бессмертных стихов
Помимо безумных стихов
* * *
Гражданские идеалы
Взяты Пномпень и Сайгон
Вьетнамские генералы
На груде красных знамён
Приехали помоложе
Поэты из двух Россий
В Америку! Боже мой боже!
Какая возня стихий!
Тёплые небоскрёбы
Солнечная благодать
Бродяга спит гололобый
И Будду ему видать…
* * *
Помню жили мы в отеле
Мучил нас Толстовский фонд
За деньгами на неделю
Я ходил к ним как на фронт
Было душно в Нью-Йорке
Влажно плавали стада
Туч. Как будто Арчил Горки
Взял и вылил их туда
И красиво с запятыми
Жизнь стояла не текла
И Америка святыми
Переполненной была
Мы боролись упирались
Не хотели до стыда
И физически боялись
Клочьев мира и труда
Лучше биться бы в России
Лучше бы сидеть в тюрьме
Мы славянские мессии
Бледнолицые в уме
Пусть назавтра будет голод
Проживу последний день
Только Боже я ведь молод
Мне оковы не надень!
Ваша утварь. Ваша пища
Ваше рабское лицо
Наш сюда не писчи ищет
Нас сюда в конце концов
* * *
Вид музыки меня ошеломляет
Я музыку поскольку ненавижу
Меня её звучание швыряет
Лишаюсь я отдельности бесстыжей
Вид музыки меня связал со всеми
Какая ширь в кретине музыканте
Я ненавижу. я теряю время.
О музыкант в тоскливо-пошлом банте!
И новый в окружении волос
Мне одинаково невыносимы
Я посмотрел в Ти-Ви — один был бос
Угри прыщи повсюду разносимы
У их поклонниц — жирненьких девиц
Или девиц с преступными очками
Я видел ряд постыдно-тусклых лиц
вихляющих нелепыми чертами
Мне этот потный юноша уго́рь
Далёк фабрично-заводской ухмылкой
Орущий что-то с микрофонной вилкой
Американских для Витьков и Борь.
* * *
Быть в мире лично свободным
С большими моими деньгами
Так учит мечтам народным
В окне телевизоров пламя
Так учат меня герои
Со вздутыми пиджаками
И учат меня другие
С длинными волосами
Интрига. Преступные тени
Улыбка в губах холодных
И я вне российской лени
Вдруг очнулся в толпе свободных
* * *
Я дрожу. желаю я зайти
В магазин индийский по пути
Я еду желаю изменить
И индийской пищи накупить
Я варить заставлю рис. пшено
Я индийцем стану всё равно
Это по прибытии в Америку
Я упал в едоцкую истерику
Ненавистен русский мне обед
И его проклятье — сон вослед
Пусть все мышцы у меня чисты
Будут. И покинут их мясы
Сполоснёт рисы китайский чай
И тогда бумагу подавай
Сытый но внутри пустой Лимонов
Поприжмёт Квебеков и Ньютонов
Сытый но без лени и без сна
Станет он работать дотемна
И напоминать его фигура
Будет и даоса и авгура
Йога и факира на стене
А «Индиа спайс» лишь средство мне
* * *
Бедный мальчик Игорь или Женя
Избежав ненужных сообщений
— В феврале мы прибыли в Нью-Йорк
Я увидел длинные машины
Был туман и цвет всего мышиный
Город спал. уныл сгорел. прогорк.
Да тогда мы грелись утюгами
Одеялами. кастрюлями. огнями
Даже спички не ища меж рук
И во вторник первая неделя
Грохнулась и я поднялся еле
Но зато Нью-Йорк отныне друг
Нож во рту. Подруга. Рай. Аптека
Испытанье силы человека
И безумная утечка вин
В магазине чёрного еврея
Я хотел сказать, что «бакалея»
«Ликерс» о простите — это сплин
И теперь уже как месяц пятый
Глупый влажный милый и проклятый
Глупый влажный нервный глупый злой
Я могу сказать с гримасой стали
«Знаете — другими мы не стали
Но Нью-Йорк — он непременно мой»

К положению в Нью-Йорке (1976)
Дневная передача Нью-Йоркского радио
Жалкая буржуазная оборона! Баррикады на Пятой авеню!
Со стороны Бруклина наступает 3-я пуэрториканская имени товарища Дионисия дивизия.
Сегодня в три часа дня по Бруклинскому мосту моторизованный корпус 8-й интернациональной имени товарища Будённого бригады вступил в Манхэттен!
На Парк Авеню пожары и погромы!
Герой мира — генеральный главнокомандующий Лимонов проехал вчера ночью на 62-ю улицу и лично арестовал «рашен мадэл» Елену.
Попутно был учинён разгром в этом буржуазном гнезде.
Остальных моделей господина Золи, его самого и челядь добивали лимоновские ребята, разыскивая по углам.
Здание «Нью-Йорк Таймз» в огне. Продажные журналисты рассыпались как крысы. Их вылавливали и загоняли в огонь.
Огромная буржуазная газета горит хорошо. Продажная бумага и краска — всё весело пылает. Взятие здания «Нью-Йорк Таймз» — личный подарок 5-й дивизии главнокомандующему.
Товарищ командующий Лимонов лично 17 минут лицезрел пожар.
Командующий отомстил «Нью-Йорк Таймз» за 27 мая 1976 года, когда он и его друзья четыре часа демонстрировали против этой мерзкой газеты, но их игнорировали. Наши ребята — знающие каждый факт из жизни главнокомандующего и учителя — отомстили за него.
*
женский голос:
Сегодня по приказанию генерального вождя Лимонова семейные отряды приступили к ликвидации высшего сословия. Были расстреляны, заколоты, забиты насмерть все или почти все представители первых 200 богатейших семейств Америки. Приговоры приводились в исполнение в основном желающими — детьми — подростками — т.е. младшими членами семейных отрядов.
Фамилии подлежащих ликвидации были взяты из экономического ежегодника «Америкэн бизнес экономик» за прошлый год.
В 2 часа 14 минут главнокомандующий имел речь перед 3-й дивизией имени товарища Дионисия.
Речь была произнесена по-испански.
«Не останавливайтесь, разрушайте старательно и упорно эту мерзкую цивилизацию. До сих пор ни одна революция в истории нашей планеты не имела права называться революцией. Они ничего не уничтожали. Разрушить цивилизацию, изуродовавшую мир, очень нелегко. Безжалостно подавляйте в себе желание пощадить что-либо из ценностей этой цивилизации. Человечество будет счастливо в будущем только при условии полного разрушения. ПОЛНОГО РАЗРУШЕНИЯ требую от вас я — ваш учитель!»
Один из солдат 3-й дивизии спросил главнокомандующего:
«Против каких государств следует бороться больше — против коммунистических или капиталистических?»
Командующий терпеливо объяснил:
«С самого основания нашего движения мы не делали разницы между капитализмом и коммунизмом. Для нас это представители одной цивилизации — эти разные строи в сущности стоят на одной основе. Русская революция, к примеру, была ужасающе стара и буржуазна. Менее нереволюционную революцию трудно себе представить. Почему так произошло? Потому что она не сумела разрушить прошлое. Мы должны суметь».
Дорогой буржуазный магазин Теда Лапидуса разгромлен.
Мягкие белые пиджаки разорваны в клочья и выпачканы в грязи. Мебель опрокинута — и большая её часть выброшена через витринные стёкла и валяется на тротуаре. Бесчисленные осколки стекла. Ветер колышет клочья тряпок, причудливо повисшие среди обломков мебели. Никто в армии не зарится на буржуазное дерьмо, никто не подбирает ничего — будь то одежда или картины.
Армия презирает «их» одежду. Обычная форма армии — джинсы и куртки всех фасонов и типов — преобладают поношенные и заплатанные. Кое-кто носит белые бурнусы — но это честь — её нужно заслужить — она выпадает только самым бесстрашным и первым в бою.
— Лучшие витрины в Нью-Йорке — самые «европейские», утонченные и изнеженные — были, конечно, у Генри Бенделя,— говорит главнокомандующий, обращаясь к Мэрэлин Вогт,— одному из членов революционного Верховного Суда, в прошлом члену троцкистской «Сошиал Воркерс Партии». Полюбив и поняв идеи учителя, Мэрэлин однажды ушла из этого узкого неэнергичного кружка интеллигентов и стала активным участником борьбы учителя.
— Да, витрины Генри Бенделя я видел всякий вечер, у меня отваливались ноги от этого города, я возвращался домой, увидав витрины Бенделя, знал, что мой отель близко. Я по-своему любил этого Бенделя и его витрины. Наши ребята сделали с ним то же, что и с остальными. А манекены были у него прелестные — полное выражение буржуазной извращённой сексуальности — утончённые, изломанные, непропорциональные. Создания эпохи упадка,— иронизирует главнокомандующий.
Наш корреспондент подслушал это случайно. Просим извинения у главнокомандующего.
Восставший Вест-Сайд приветствует освободителей:
Как мы уже сообщали, ещё до вступления передовых отрядов революционной армии в Нью-Йорк — три дня назад восстали угнетённые меньшинства Вест-Сайда и Гарлема. Загнанные в эти районы-резервации чёрные и цветные меньшинства издавна являлись очагами недовольства, брожения и революционности.
Часто выступая по неправильному пути расовых столкновений, сейчас они дали революционной армии множество сознательных и непримиримых бойцов со старым миром и его цивилизацией.
Уже три дня эти районы создали круговую оборону, ожидая революционные части нашей армии, и даже не имея настоящего вооружения, совершили ряд успешных рейдов через Централ-парк на Ист-Сайд, наводя страх на не успевших удрать хозяев богатых апартаментов на 5-й авеню.
Сейчас они с ликованием высыпали на улицу. Дети, женщины — все от мала до велика — приветствуют освободителей. Гремят оркестры, раздаётся беспорядочная стрельба — салют революции. Все — в праздничных нарядах.
*
мужской голос:
События в Централ-парке.
В Централ-парке, где расквартирована в палатках 76-я непобедимая дивизия, состоящая из мужчин, женщин и детей всех возрастов и всех форм сексуальной жизни, состоялась аффектированная манифестация, во время которой были принесены в жертву революции четыре кинозвезды, восемь кинорежиссёров, пятнадцать сенаторов. Всего 27 человек. Тела умерщвлены различными способами. Это те, кого революция признала виновными перед ней.
*
женский голос:
В 4 часа дня Главнокомандующий силами мира Эдуард Лимонов объявил, что величайший в мире город — фактическая столица мировой буржуазии — полностью взят революционными войсками!
*
мужской голос:
На Парк-авеню, как уже сообщалось, гнев революции дробит в куски блестящие зеркала, мстит продажным красавицам насильственной смертью, поджигает и заливает нечистой кровью богатых мерзавцев и их столь же отвратительные апартаменты.
Наш корреспондент говорит прямо с Парк-авеню:
— Привет, ребята — это я — Боб Красная звезда! Я и мой микрофон находимся в доме номер 830 по Парк-авеню. Ещё утром это было жилище миллионера Алекса Прегори. Ныне же это место обращено в хаос.
Сломлены зелёные растения, разбиты вазы. Картины Ренуара наши ребята располосовали на куски. Нет и нет и нет старому миру! Вот проходят они мимо меня — запылённые, одетые во что попало, в костюмы всех времён и народов. С автоматами, обвешанные всевозможным оружием парни, девушки, подростки и дети.
— Ты знаешь, что эта картина французского художника Ренуара и в буржуазном мире, который мы разбили, она стоила полтора миллиона долларов?— обращаюсь я к молодому парню лет семнадцати.
— Меня зовут Лючиано. Я не знал, что эта штука стоит 1,5 миллиона. Тем охотнее я растопчу её. Они сделали нас посмешищем. Они предлагали нам работать на них, а в свободное время смотреть телевизор или ходить в бордели. Мы отомстили им. Больше они нас не запрягут. Верховный главнокомандующий об этом позаботится. Я беру пример с моего верховного главнокомандующего. Он и его жизнь — пример для всей нашей бригады.
— Благодарю тебя, Лучиано!
Группа бойцов тащит какого-то человека.
О, они тащат очень странного старика с характерными усами и плешью. Вот это дела, ребята! Попался один из жирных этого мира. Один из его маразматических певцов-восхвалителей — мультимиллионер, художник, продажная тварь, торгующая своим талантом вот уже много десятилетий — господин Доллар — Сальватор Дали. Известный по отвратительным своим картинам этот живой труп попался нашим ребятам — они вытащили его из-под кучи какого-то буржуазного дерьма. Он пытался, говорят, защититься своим именем. Болван. Все отлично помнят, как в 1975 году этот человек приветствовал казнь пяти наших братьев-басков. Я думаю, его прикончит кто-нибудь из наших испанских товарищей — так обычно поступают с предателями их соотечественники.
Да, я оказался прав — вот выстраиваются, выходят испанцы. Одного — мрачноватого художника по имени Луис — я знаю давно. Он в революционной армии с первых дней великого Американского похода. Вот они привязывают мерзавца к дверям столовой. Слышите, как он фыркает и плачет. Даже умереть достойно не может. Испанцы отходят в противоположный конец огромной залы и стреляют в него из револьверов. Что ж, это не такая позорная смерть. Дали повезло, что ребятами командует Луис. Попался бы он Эрнандо, у которого буржуазный мир отнял, убил и искалечил любимую женщину, сделал её подстилкой для миллионеров — Эрнандо страшен в своей справедливой мести. Труп старого негодяя повис на двери в верёвках. Собаке — собачья смерть.
Впрочем — моё время истекло. До скорой встречи, ребятки.
Вёл передачу я — Боб Красная звезда.
*
молодой восторженный звонкий голос:
Я — Вонг! Я нахожусь на катере бывшей береговой охраны, вместе с другими революционными корреспондентами. Великий момент в истории мира приближается. Через несколько минут будет взорвана статуя Свободы — этот позор, этот мерзкий символ буржуазного мира, и обломки её навсегда погрузятся в океан. Около ста лет простояла она здесь.
По предложению товарища В. Бахчаняна — революционного художника и мыслителя — в фундамент статуи и в её внутреннюю полость уже заложены вчера несколько тонн взрывчатых веществ.
Чести повернуть рукоять управления взрывным механизмом удостоен недавно освобождённый из тюрьмы народом один из зачинателей великой революции, один из её предтеч и пророков — Чарлз Мэнсон.
Он находится здесь же — на катере. Я вижу его совсем близко. Он постарел, но всё тот же неутолимый блеск разрушения в глазах. Он несколько замкнут — ведь столько лет просидел он в тюрьме. Тюрьма приучила его к молчанию. Почёт и открытое восхищение на лицах окружающих его юных революционеров, обвешанных оружием. Они уже прошли с боями пол-Америки. У 6-й армии за плечами взятие Чикаго и кровопролитная битва под Сент-Полом, но Мэнсон — великий герой, который тогда, в далекие 60-е годы осмелился в одиночку, с кучкой последовательниц выступить против всего буржуазного мира…
Статуя Свободы хорошо видна с нашего катера. Сегодня восхитительный солнечный день. На небе ни облачка. Блестят океанские воды. Развеваются чёрно-красные революционные знамена. Вокруг нашего катера огромное скопление разнообразных судов, кораблей и катеров. На них армия-народ, что сейчас — одно и то же. В армии даже девочки и мальчики восьми и девяти лет. Прекрасное зрелище представляют эти вооружённые дети всех цветов кожи, столпившиеся на палубе в ожидании единственного в истории зрелища. В длинных волосах многих из них — цветы. Цветы на их оружии и одежде. Они передадут воспоминание об этом дне своим детям и внукам. С берега — из колыбели революции — Манхэттена доносятся звуки многочисленных оркестров — барабанов, труб — всё это сливается в ликующую мелодию.
Но вот всё замолкло. В белой накидке — просторной одежде Востока подходит к пульту управления взрывом Чарлз Мэнсон. Рядом с ним — притихшие, аккуратные, в красных платьях его верные подруги, последовавшие за ним в тюрьму. На голове у Мэнсона венок из красных и белых роз. Он кладет руку на рукоять. Медлит. Справляется с волнением и наконец резко поворачивает рукоять
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Друзья! Товарищи! Братья! Сёстры!
Великий момент!
ВЕЛИКИЙ МОМЕНТ!
Ненавистное сооружение будто подпрыгнуло и как бы целиком взлетело в воздух, но в воздухе разделилось на пять или больше больших и неисчислимое множество мелких частей и упало в волны океана.
В С Ё!
Поставлена точка над старой отвратительной цивилизацией, обрекающей людей в рабство друг другу. Никогда, больше никогда!
Катера, пароходы, авианосцы, с которых по этому случаю сняты самолёты,— всё взлетело на волнах, и раздался ликующий рёв одобрения! Рёв свободного сильного крепкого мира, который свалил наконец со своих плеч тяжесть ущербного мироустройства, звучит в воздухе. Дети и взрослые целуют друг друга. Взаимные объятия и ласки сопровождаются урчанием воды, втягивающей в себя навсегда отвратительные обломки.
Поздравляю вас, друзья! товарищи, братья!
Великий праздник пришёл в мир!
Мы взорвали чудовище и никогда не позволим ему вернуться в этот мир.
Передачу для вас вёл Вонг.
*
женский голос:
Революционный комментатор и журналист Вонг — участник Великой революции с первых её дней. Он — личный друг главнокомандующего Эдуарда Лимонова и вместе с ним работал когда-то в ресторане отеля «Хилтон», где главнокомандующий впервые возмутился эксплуатацией Америкой национальных меньшинств.
Идёт передача революционного радио из Нью-Йорка.
3 минуты осталось до 4-х часов. Температура 79 градусов.
В Сан-Франциско началось слушанием дело последнего (бывшего) президента Соединённых Штатов Америки Элиаса Гольдберга.
Ожидается, что через два часа революционный трибунал вынесет своё не вызывающее сомнений решение — зарезать.
За разврат, коррупцию, насаждение рабства, за ведение военных действий против Великой всемирной революции может быть только такая революционная месть.
Думаем, как обычно, приговор будет приведён в исполнение всенародно китайскими ножовщиками на берегу океана, в пяти милях от города.
Идёт передача революционного радио из Нью-Йорка.
Последний оплот контрреволюции — Бостон ещё держится. Китайские и арабские батальоны находятся на подступах к городу, но серьёзные потери задерживают их продвижение.
ПЕРЕДАЁМ СПЕЦИАЛЬНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ЛИМОНОВА О ФОРМАХ СЕКСУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
Братья и сёстры!
Группа молодых воинов 8-й революционного знамени дивизии имени Че Гевары обратилась ко мне с просьбой разъяснить им вопрос о революционном понимании брака.
Братья и сёстры! Форм современного брака может быть множество. Следуйте в этом вашему естеству. Если вы чувствуете привязанность к одному только человеку, то Вы можете жить сексуальной жизнью только с ним.
Если же вы любите многих — и разнообразие — то живите со многими. Может быть и смесь. Никакой подсказки здесь быть не может. Впрочем, то, о чём я сейчас говорю, давно организовалось уже само собой в наших доблестных революционных войсках. По уставу каждая дивизия, за исключением дивизий особого назначения, представляет из себя объединённое сексуальными отношениями племя. В нём есть дети, женщины, мужчины. Если погибает Ваш любимый, разве вы не броситесь ему в бою на помощь. Потому наши войска так сильны и не знают поражений. Каждый член племени познал ласки и любовь другого. И это наше самое сильное оружие. Есть у нас семьи из пяти-шести мужчин и одной женщины. Есть семьи, где две-три женщины и один мужчина. Ещё более часты браки между мужчиной и мужчиной, между женщиной и женщиной. Ни один пример не следует возводить в закон для всех. Следуйте своим естественным потребностям. Наша революция естественна и потому естественна её любовь.
Любите друг друга — дети мои! Главный лозунг нашей революции — любовь.
Буржуазная цивилизация всячески извращала и убивала любовь. Существовал институт проституции — любовь сделали объектом купли и продажи. Особенно пагубно такая практика отразилась на женщинах. Но наши дети уже не те, что мы. Им не приходится переступать через тысячу запретов. Они любят свободно, свободно по склонности духа и тела выбирают объект любви — любимого. Первым декретом мы объявили упразднение денег. Вы знаете, как это было тяжело и непривычно для людей, но мы освободили этим весь мир. Освободили и любовь. Любите друг друга, дети мои. Сейчас лето — величайшее лето в истории мира и лучшее время для любви.
Любите друг друга, дети мои!
После этих слов главнокомандующий, стройный как молодая сосна, в своём обычном костюме — сапоги, облегающие джинсы, короткая куртка — между брюками и курткой молодой бронзовый живот — подошёл к своим адъютантам — 16-летним Лилит и Марсель и ласково обнял девочек. Во вчерашнем бою Марсель собственноручно застрелила 12 человек. Несмотря на сложность работы — быть адъютантами главнокомандующего силами мире (на этом посту погибло уже в этом году 7 адъютантов) — Марсель и Лилит прекрасно справляются со своими обязанностями.
Они преданы главнокомандующему и в любую секунду готовы отдать за него жизнь. Обе храбры и обе в революционной армии с 12 лет. Лилит — из Судана. Она участница Африканской войны и участница захвата арсенала атомного вооружения в горах Сьерра-Невады в прошлом году.
А сейчас передаём революционную музыку.
Нью-Йоркское время 13 минут после 4-х часов.
Передаём важное революционное сообщение.
Преследуя цель ещё более стереть рамки своей национальности, генеральный главнокомандующий Эдуард Лимонов решил изменить свою фамилию на более вненациональную. Отныне он будет называться Эдвард Ли. ЭДВАРД ЛИ — это одновременно напоминает и об исконно американских фамилиях Ли, и о китайских Ли, каковых миллионы. Тем более, что среди людей китайского происхождения в армии давно называли главнокомандующего — ЛИ.
После перемены фамилии главнокомандующий произнёс речь по вопросу смешения национальностей, каковое он считает главной задачей и следствием мировой революции.
Прослушайте в записи речь главнокомандующего восставшими силами мира Эдварда Ли.
*
Речь главнокомандующего Эдварда Ли:
Друзья! Братья и сёстры! Парни и девушки! Подростки! Вы знаете, как много крови и слёз принесли населению всего мира нашего национальные распри. Турки резали армян, белые преследовали чёрных, многие народы преследовали евреев, и список этот можно было бы продолжать бесконечно. Ограничусь сказанным, каждый может добавить — те из вас, кто постарше — из собственного опыта, те — кто помоложе — из преданий своих народов. Этому наша великая революция положила конец. В основу нашей революции положена идея смешения национальностей, и даже если необходимо — насильственного смешения, настолько важна эта проблема. И ещё более необходимо будущему человечеству смешение рас — особенно двух таких противоположных рас, как белая и чёрная. Все вы знаете, какой болезненной была здесь в Америке негритянская проблема. Друзья мои, соединяйтесь в любви, смешивайтесь как угодно, ваше потомство, зарождённое этим великим солнечным революционным летом, будет здоровым и счастливым. А какого цвета будет кожа у наших детей и внуков — неважно — всякая кожа хороша. Лишь бы наши потомки в исступлении не резали друг другу глотки, утверждая — я — белый, я — чёрный, я — жёлтый.
Нам нужно 15–20 лет, и мы полностью изменим людей земного шара. Для этого я призываю вас ещё более широко сходиться в любви с любимыми противоположных национальностей. Я был первый, кто приветствовал турецко-армянские батальоны и еврейско-арабские батальоны ещё при их создании в виде опыта, теперь они выросли до дивизии, и никогда, за весь Великий поход, мне не случалось слышать что-либо о национальных столкновениях среди их бойцов. Как вы знаете — я — ваш главнокомандующий — живу, как вы, моя жизнь у вас на виду проходит. Вы знаете моих любимых — они и мои дети ходят с Вами и вашими детьми в атаки. Нана, Элизабэт, Лиса, Бачи, Нкора — все мои любимые женщины произвели от меня детей, и я одинаково люблю их всех, и я рад, что это смешанные дети, а их дети будут ещё смешаннее и невозможно уже будет разобраться, кто какой национальности.
Это то, чего мы добиваемся. Стереть память о национальностях и тем уничтожить причины для войн и столкновений. С этой целью, как вы знаете, нами сожжены и сжигаются в каждом городе архивы и метрические книги. Мы начинаем новую историю, и нельзя тащить за собой груз старого.
В сохранении старого была причина неудачи всех предыдущих революций на земном шаре, к тому же они были национальными и потому жалкими.
В дальнейшем мы намереваемся уничтожить и фамилии — этот жуткий и сковывающий пережиток прошлого. В этом мы следуем за искусством, которое веками пользуется псевдонимами.
Языки же постепенно и сами сведутся к одному общемировому языку. Уже сейчас мы не заботимся о каком-то определённом языке. Наша разноплеменная армия прекрасно объясняется. Всё это благодаря смешению национальностей — вот как много выгод приносит такое смешение.
Я призываю вас каждого лично помочь этому делу.
Пусть в нынешнее лето будут зарождены новые — не национальные дети, но дети мира!
Температура — 65 градусов. Время — 4.42.
Через 18 минут в Централ-парке состоится трагическая церемония — будет казнена приговоренная сегодня в 4 часа к смертной казни бывшая жена верховного главнокомандующего и вождя мировой революции Эдварда Ли — Елена. Передача с места казни ведётся крупнейшим революционным корреспондентом, великим революционным поэтом Джонатаном Бойлом. Передачу транслируют все каналы революционной радиосети во всём захваченном революционными силами мире. Она также ведётся по уцелевшим каналам телевидения — видит её сегодня и восставшая революционная Россия.
В затопленной китайской среднеазиатской 2-й армией Москве — на родине главнокомандующего и Елены также будут слышать её.
*
голос Джонатана Бойла:
Люди! Ребята! Парни и девушки! Вот я вижу её! Её выводят из машины — её уже привезли.
Вы знаете, что главнокомандующий не преследовал её, но её казни требовали все мы — вы, и я в том числе, как справедливой мести, как возмездия за те страшные несчастья, которые она принесла нашему вождю.
Ребята! Я вижу её — она в белой нижней рубашке — и она до сих пор ослепительно красива, идёт сама, охрана из чрезвычайного отряда японской красной гвардии — двадцать девушек — идёт кольцом вокруг неё, скорее как почётный трагический караул. Елене была предоставлена возможность самой выбрать способ казни. Она из любви к ложнобуржуазным эффектам, или скорее к некоторой старинной исторической литературности выбрала именно гильотину, которую пришлось срочно доставлять из одного из исторических музеев. Она хочет умереть как Мария-Антуанетта — сказала она. Революционный суд пошёл навстречу её желанию и позволил ей это.
Рубашка её окровавлена в области паха. Совпадение, но действительно у этой бледной белокурой женщины менструация, как и у Марии-Антуанетты. Она идёт легко, может быть, чуть напряжённо, она чувствует величественную трагичность момента, её, с виду слабое, тело, тоненькая шейка, на которой блестит под разъярённым солнцем золотой крестик не вызывают жалости, может быть, печаль.
Печаль о том, что всё проходит.
Но это красивое создание около десяти лет назад продало жизнь нашего Великого вождя, обрекла его на нечеловеческие муки, одним только животным своим инстинктом управляемая, жестокая и отвратительная — она достойна смерти. Кто знает, может быть, она и сумела бы уничтожить нашего вождя, отняла бы его у нас, если бы не исключительные обстоятельства, спасшие главнокомандующего. Все вы знаете биографию главнокомандующего, он не раз выступал перед вами, и много раз его биография пересказывалась по революционному радио, её печатала революционная мировая печать. Действительно, то, что Елена ушла, это животное ушло от него в мир сексуальной грязи — продала себя буржуазному миру — было для нашего вождя самым страшным потрясением в жизни. Он-то любил её другой — русской девочкой.
*
Джонатана Бойла перебивает голос другого комментатора — Джоана Хайца:
— Прости меня, Джонатан, но мне кажется, главнокомандующему нелегко сейчас всё это слушать. Сегодня для него, как и для нас — день печали и мести. Не вспоминай. Лучше предадимся скорби и мести со всеми нашими людьми — их необозримое множество: и на искусственных трибунах, сооружённых вокруг места казни, и на естественных холмах вокруг. Дети взобрались на скульптурную группу «Алиса в Стране чудес».
*
голос Джонатана Бойла:
Лёгкий ветерок колышет рубашку Елены — Великой Любви нашего учителя и главнокомандующего. Она — куртизанка, развратница, изменчивая женщина с пустой душой, сегодня, следует всё же признать, ведёт себя величественно. Нелегко умирать в беспорядочно роскошный, красивый жаркий летний день, когда цветут цветы и наряды раскачиваются на лёгком ветерке, когда пот этой жизни струится из подмышек, когда… Она выбрала почти прозрачную рубашку и идёт среди нас, не стыдясь, покачивая своим сладостно липким и тонкокожим телом, просвечивающим через ткань.
Она проходит сейчас сквозь охрану арабской полиции — у многих юношей при её появлении брызнули слёзы.
Женщины более непримиримы. Японские девушки, сопровождающие её почётным караулом, идут с суровыми лицами — они не могут простить этой торговке своим телом, этому энимал-зверьку, её зверства над любимым вождём.
Пахнет деревьями. Зияет отверстое звонкое небо. Если б меня попросили определить это событие одним словом я бы сказал — «Восторг!» И она — Елена — бледно-припухшая, с мокрыми от пота белокурыми волосиками вокруг лба, магически притягивается допотопным сооружением, наполовину скрытым под цветами. Эта почесть полагается Елене, пусть и преступнице, но всё же бывшей жене вождя.
Гильотина — изобретение шальной, смешной революции в старой маленькой Европе, она вдруг всплыла по прихоти этой хрупкой женщины, спустя два века. Никто не умел ею пользоваться, и только одна маленькая красивая парижаночка Франсин взялась за это дело. Ей 15 лет, и, кажется, за несколько часов она неплохо научилась обращаться с этой штукой.
Любимая женщина нашего вождя у края этого мира. Парижаночке помогают два огромных чёрных парня голые по пояс — их тёмные тела блестят на солнце, сейчас они должны стоять по бокам Елены. Членом революционного Трибунала Конрадом Бауэром будет зачитан приговор этой женщине.
Вот! Слышите! Звучит наш революционный гимн!
Я передаю микрофон Конраду Бауэру.
*
голос Бауэра:
Братья и сестры! Народ революции!
Революционный суд неделю рассматривал дело Елены — бывшей жены нашего учителя и главнокомандующего, а сегодня она была арестована.
Приговор был приготовлен заранее, вы все его знаете, но я зачитаю его ещё раз:
«Революционный Высший Суд Мира в составе товарищей Янь Пиня, Франсуа Рихтера, Патриции Хёрст, Вивианы Рейль, Чарльза Мэнсона, Валентина Пруссакова и Конрада Бауэра изучил дело бывшей модели, бывшей жены нашего учителя и главнокомандующего
— Елены Козловой —
и признал её виновной:
В поступке, угрожавшем жизни нашего великого учителя.
В измене и предательстве интересов нашего великого учителя.
В измене его телу.
В том, что оставила учителя в самый тяжёлый момент его жизни.
Виновной в причинении учителю незаживающей душевной раны.
В унижении его человеческого достоинства.
В причинении учителю Великих страданий и несчастий, едва не стоивших ему жизни.
Виновна!
Виновна!
Виновна!»
Я хочу спросить у вас — одобряете ли вы решение суда — Виновна ли эта женщина?
(раздается рёв народа)
Виновна!
Виновна!
Виновна!
Итак, революционный суд и революционный восставший народ признали Елену виновной и посему она должна быть лишена жизни способом, который она сама выбрала
Да будет так!
*
голос Джонатана Бойла:
Вблизи сооружения — помоста, на котором стоит гильотина и где между двумя чёрными охранителями поместилась Елена, а сзади её — Франсин-парижаночка, появился учитель. Он идёт нелегко. Для него сегодня страшный день. Он не хотел этой казни. Но воля восставшего Народа для него закон, и он вынужден ей подчиниться.
И вот он идёт прощаться с ней. У неё на лице мечтательно-рассеянное выражение. Она как бы сошла с ума.
По ноге её течёт красная струйка менструальной жидкости, что заставляет опять вспомнить историю и Марию-Антуанетту.
Елена видит учителя. Он протягивает к ней руки — обнимает её, целует. По лицу его текут слёзы. Она не плачет — на лице её блаженная улыбка. Они застыли в последнем объятии.
Ветерок слегка смешал тёмные волосы главнокомандующего и белые волосики Елены. Идёт время. Молчит миллионная толпа, наблюдая это страшное прощание. Многие плачут.
Многим жалко эту женщину с лицом ангела, застывшую в роковом объятии с человеком, которого, как сейчас кажется, она, может быть, любила.
Но революционная справедливость должна восторжествовать. Парижаночка касается руки главнокомандующего — он вздрагивает. Целует Елену в лоб, в тонкие слипшиеся волосики. Не хочет уходить.
Замешательство.
На помост подымаются адъютанты главнокомандующего — высокая тоненькая чернокожая красавица Лилит и рыжая француженка Марсель.
Они уводят главнокомандующего под руки.
Он всё оглядывается.
Елена всё в том же состоянии безмятежной рассеянности и покорно выполняет всё, что требуется для этого страшного ритуала.
Вот сейчас она уже подведена к ножу и поставлена на колени.
Она смотрит по сторонам, как будто пытаясь кого-то разглядеть в толпе. Кого?
Последний её любовник — миллиардер Ричард Т. был несколько дней назад пойман в своём охотничьем имении, где он скрывался с отрядом наёмных телохранителей, и был приведён к главнокомандующему, который приказал его оскопить, что и было проделано тут же очень неискусно личным секретарём главнокомандующего Фернандо. После этой операции главнокомандующему пришлось пристрелить Ричарда Т., дабы избежать для него лишних мучений.
Кого же ищет глазами Елена?
У неё удивительно маленькая головка. Последнее, что мы видим, это её мелькнувшие смазанные черты — ей уже наклонили голову и вдели её в специальное кольцо.
Вот! Сейчас это произойдёт!
Звучит барабанная дробь. Это барабанщики 13-го африканского корпуса.
Звучит барабанная дробь.
Парижаночка Франсин — серьёзная, в красном платье, дёргает за верёвку.
Всё! Жизнь Елены окончена!
Мне лично показалось, что Елена что-то успела произнести в этой мёртвой тишине. А может быть, и нет.
Учитель, сидевший под деревом с адъютантами, неожиданно бежит к гильотине. Вся охрана расступается.
Учитель протягивает руки в корзинку, куда в этом ужасном сооружении падает голова, и вытаскивает оттуда, всю в крови, голову Елены. Он прижимает её к груди, он целует её. У головы всё такое же рассеянное безмятежное выражение.
Страшный день.
Подбежавшим адъютантам не удаётся забрать у главнокомандующего голову Елены. Он оставит её у себя.
Наконец главнокомандующего уводят — его личный друг и личный доктор Олег Чиковани и адъютанты.
Страшный день.
Потрясённый народ плачет. Простите, и я, Джонатан Бойл, видевший шесть атомных ударов в Испании и Франции, видевший горы трупов, продолжать передачу не могу. Любовь главнокомандующего неизмерима.
И так же неизмеримо он несчастен.
Передаём траурные марши мира.

Стихотворения (1976)
Елене от её бывшего мужа и неизменного друга.
Э.Л.
* * *
«Солнечный мир перепоя
Я здесь один на ветру
С городом что-то такое
В городе этом помру
Двигатель сердца в ударе
Мы ещё первый герой
Но скоро приедут на бледной паре
Смерть и она за спиной
Я не видал маскарадов
В грубой советской стране
Я не любил отвратительных гадов
Жизнь не топил я в вине
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Но Вы подставляете жопу
Вам поднимают хвост
Боже зачем я привёз Вас в Европу
Позже в Америку свёз!
Как из секс-книжки — блатная
Ходите Вы на ветру
Да Вы никто-запятая
Я Вас возьму и сотру…»
Эти слова говорились
Злостью кипел зоосад
И все медведи мочились мочились
Семь или восемь подряд
* * *
Зелёные лужайки и квадраты Рима
Судьба моя неповторима
Ты помнишь мы ходили виллы посещали
На лавочках сидели и молчали.
Я помню тень. передвиженье тени
Хотелось стать пред Вами на колени.
Мы там молчали русские уда́ренные
Глаза твои большие и распаренные
Ты плакала — я прутиком чертил
Из нас двоих лишь я тебя любил
Заботился. Существовал с тобою вместе
В Италии мы были так на месте
/Ленивых облаков романская красивость
И даже в пальмо-пиниях игривость/.
Лимонов шёл в пол-оборота в профиль-полу
И солнце освещало щёку голу.
Его Елена нынче неверна
Как Боже легкомысленна она!
Всё шляпки грудки
Всё мельканье ручек. ног. гребёнки…
Шальная как все младшие ребёнки
Безумная как все Наташи. Тани!
Вы взрослая. Но что у Вас в кармане?
Не гвоздь ли. Не орехи ли. Не спички?
Ох у неё опасные привычки!
Не доведут затеи до добра
Она меня оставила. Вчера.
* * *
Эти пары ликующих дней!
Эти звонкого солнца угрозы!
Я люблю не машины — коней
По старинке люблю ещё розы!
Молодой человек с козырьком
С отлетающей тенью лопаты
Мы стояли с тобою вдвоём
Там на фото. И мы виноваты
Жизни бешеной вьющийся дым
Мало пили. Некрепко вдыхали
Хорошо умереть молодым
Чтобы женщины плакать бы стали
Хорошо чтоб меня застрелил
Полицейский у края ограды
И апрель понимаете был
Или май — понимаете гады!
* * *
За что скажи далось нам это
Тоска и голод по утрам
Судьба российского поэта
Разрубленная пополам
Как будто я их ниже ростом
Как будто хуже и глупей
О качества мои — короста
И ты — любовь души моей!
* * *
Любила ли ты да — поэта?
Иль пустая чепуха
И пыль и крошка — горсть песка?
Любила ли ты да меня?
На родине его любила?
Над ним смеялась и дразнила
Кусок травы ногою мня
Перед сосною в доме бабок
Да было ли то. А было ль это?
Томился я с тобою робок
В то незапамятное лето
Воняет солнцем и картошкой
Листвой от зноя поределой
Я был крестьянскою гармошкой
Мальчишкой. А ты леди белой…
* * *
Мне поддержку утром дать готов
Так любивший бабу Гумилёв
От него Ахматова ушла
И моя Елена также зла
В муках проявляется порой
Национальный подлинный герой
* * *
Вся в винных пятнах скатерть
И щами пахнет ветер
И я как старый патер
Живу теперь на свете
Как страшно одиноко!
Разъехались все дети
Печально. Неглубоко
Живу теперь на свете
* * *
Вы сочинили мне беду
В том сквернопамятном году
Беду приставили как бритву
Вы к горлу певшему молитву
И я всегда Вас обожавший
Был потрясённый смятый павший
На мои тонкие колени
Молился я Великой Лене
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
А Вы — беспутная чужая
Неумная но дорогая
Ребёнок. Кукла из фарфора
Безумная богиня Флора
Париж! Духи! Кафе-шантан
Шикарный шлейф был даме дан
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Мадам ушла. Она сбежала
Лимонова с дерьмом смешала
И с миром певшим колесом
Ну хорошо. А мы живём!
* * *
Как в просторечьи говорится
«Безумно он её любил»
Горят дворцы и пели птицы
И под окошком зверь ходил
Я наблюдал её все ночи
Я глаз её не отпускал
Дурак-француз за бары-скотчи
Мою голубушку держал
Я думал умные. большие
За мной мужчины. Ну дала
А оказалось половые
Весьма несложные дела
Вы с мордочкой как на параде
Уже стареющая с рук
Вы — злая спереди и сзади
Бросая под ноги подруг
С пустым нелепым чемоданом
В Милан летали налегке
А я остался атаманом
Пусть чуть не умер вдалеке
Я претворю мои заветы
А дни Еленушка — чирик!
Шумит вода зловещей Леты
Здесь девочкин не слышен крик
* * *
Ваш любовник! Боже мой — кошмар!
Да с ума сошли Вы что ли?
Ну любовник! Он же рыж и стар
Глупый. Может с ним Вы поневоле?
Дёрганый нелепый шут
И за эти скверные объятья
Эдичку Лимонова ведут
На такие муки и распятья
Женщина! Вы видимо с ума!
Бедная ползучая Елена
Неужели ты к нему сама
Вот взяла и села на колена?
* * *
Пахнет жуткой тихой медициной
Это лето что идёт навстречу
Я набью себя песком и глиной
Или я Елену изувечу
Не даёт покоя по утрам
Мне золотокудрая мадам
Как ужасно! Не даёт покоя
Ведьма! Сука! Что ж это такое!
* * *
Леночка! Ведь были Вы поэт
Русского огромного размера
А теперь блатная Вы гетера
Уж преклонных извините лет
Я люблю стареющие ручки ваши
Образумить Вас я не пытаюсь
Я люблю Вас даже задыхаясь
(Вы простите мне ту ночь у Саши)
Знаю я одно на этом свете
Где теперь всё просто и легко
Любят только я — да ещё дети
И над нами небо глубоко
Люди. Деньги. Числа. Рестораны.
И размеры секса и моста
Всё только мираж в лучах Урана
Но планета жёлтая пуста
В этой жизни только и осталось
Жест красивый. Рана на груди
Расползающейся крови алость
И смешная слава впереди
В смерть войдут народные дружины
Так невероятно молодых
Где-нибудь в районе Каролины
Или в Иллинойсе. Где-то в них
А другие если не герои
Проходите что же — стороной
Я не знаю — Что вы есть такое
Я увы — герой
* * *
Солнце. Страшные его квадраты
И его глубокие места
Я не знаю чем Вы виноваты
Где планета жёлтая пуста
Как легко и как нетерпеливо
Умереть на свете за народ
И встречает в том миру олива
Потрясённый недозрелый плод
Я люблю гадательные звуки
В древне-римских золотых лесах
И авгуров скрещенные руки
И ножей молитвенных размах
Кажутся пурпурными знамёна
В Централ-парке ноги богачей
Сожжены. Так будет непреклонно
А квартира в дебрях Лексингтона
О ещё Вы вспомните о ней!
* * *
Блатная моя красавица
Больное твоё лицо
В любом мне часу понравится
Как было в краю отцов
Пусть вы ничего не заметили
Живя со мною вдвоём
Считаясь женой моей третьею
Поэтом ещё притом…
Однако стихий союзница
Я признаю теперь
Вы были красивая узница
А я — негодяй и зверь
Я вам не давал развития
Вам яхты не покупал
Работал в чаду наития
Дурные статьи писал
Я вас не водил в китайские
Чтоб есть плавники акул
Местечки все эти райские
Я за́ руку Вас не тянул
Я утром давал два доллара
Чтоб были бы Вы модель
Писал вам записки голые
Стелил вам всегда постель
Являясь с работы вечером
Вас дома не заставал
«Снимается! Делать нечего!»
Садился за стол. Вздыхал.
Но только всё это внешнее
Я был убеждён без слов
Жена у меня нездешняя
И родственница Богов.
* * *
Моя дорогая девочка
С испорченною стопой
Ушла от меня как белочка
Теперь не прошу «Постой»!
Гуляй со стихией с хаосом
Води с ними дружбу води
И рыжих французов с фаллосом
К малюсенькой жми груди
Но только всё это внешнее
Себе ты самой не верь
Моя ты всегда нездешняя
Ведь я негодяй и зверь
* * *
Лена ты Елена — офицерская дочь
Что ты натворила — мне устроила ночь!
Лена ты Елена — за какие грехи
Богу изменила и убила стихи
Помнишь совершался в храме брачный обряд
Целовать иконы нам обоим велят
Мы их и целуем горячо и в лицо
Богу изменила. Потеряла кольцо.
Думаю что дьявол это нами играл
Свечка догорела. Шумно занавес пал
Тени наши вечно в этой церкви стоят
Сладко-бесконечно происходит обряд
Все концы у мира к Вам под юбку сошлись
Жарко да и сыро выделяется слизь
Что же вместо Бога этой дырочки жуть
Если её трогать нажимая чуть-чуть?
Лена ты Елена в красной шляпке своей
Сладкая сирена для проезжих людей
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Эдичка убитый на траве возлежит
Красная рубашка безобразно дрожит
Плачет и не плачет и в восторг приведён
Лена ты Елена — азиатский мой сон
Девочка другая нас не сможет развлечь
Эту лишь желаю. Пусть хоть голову с плеч
Ленку! Дайте Ленку! Самой страшной ценой
Вот что заявляет национальный герой
* * *
За раскрытой Господом страницей
Как всегда не уследишь
Если бы была ты просто птицей
То посадишь в клетку и глядишь
Знал же я — ты не простая птица
Золотого тонкого пера
Надо бы Господу молиться
За сегодня завтра и вчера
Надо было лоб разбить колени
Надо было к дьяволу идти
Чтобы кожу на моей Елене
Гладить трогать видеть и блюсти
За раскрытой Господом страницей
Как всегда не уследишь
Ох была ты белой тонколицей
Или ты Лимонов всё же спишь?
* * *
Мы уплываем в блаженный край
Блаженный край называется «Рай»
Там тучные нивы. смешные стада
И только счастливым есть доступ туда
Мы уплываем сквозь жёлтый снег
Мы поселяемся там навек
Но жалкой улыбкой через два дня
Растерянный друг мой ты даришь меня
И мы вспоминаем сквозь праздную вечность
Былые страдания. былую беспечность
Часть бедного мира на бедной земле
Бывало что лира лежит на столе
Бывало играешь бывало поёшь
И правды не знаешь и ложью живёшь
Но мы уплываем в блаженный край
И это есть благо. Запомни и знай
* * *
Я крикну радостное «Лена»!
Она мне кинется в объятья
И плакали мы постепенно
И я кусал кусочек платья
И было нежно и безумно
Так как росли сады в апреле
Молниеносно и бесшумно
Но вовсе безо всякой цели
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Теперь о подоконник утром
Тоскливо бьёт нью-йоркский дождь
Я просыпаюсь рано — смутно
На полумертвеца похож
В аллею рук её не вхож
Я бледный шут из старой сказки
Она косматых тыщу рож
Рукою гладит без опаски
Она себя им отдаёт
И потому что те косматы
Звериный требует народ
Моей души — бесценной платы
Я крикну «Лена — я же тот!»
Она мне кинется в объятья
О, брось печальный идиот
Ты не кусал кусочек платья
* * *
Собственно я конечно не знаю
Может она или не может
Судьба эта может или не может
Меня схватить за белые руки
И повести в тонкосложные муки
Я-то конечно имею цели
Только помешан на этом теле
На этой пятке на слабой грудке
Цели мои откровенно гадки
Мысли мои откровенно жутки
И сочиняя тебя из влаги
И покрывая тобой бумаги
Я-то конечно и верно знаю
Что и кого я в тебе открываю
Ты есть мохнатый и острый дьявол
Только что спим под одним одеялом
Кажется город американский
Ветер и дождь. Океан гигантский
Рядом лежит укрупненно влажный
Только она не рассказ бумажный
Страшная явь на моей подушке
Бледные дьявола бледны ушки
Дьявол скитается вечерами
Пудрой покрыт. Облечён чулками
Шёрстку скрывают тонкие ткани
В мире мужчин собирает дани
На после полуночи входит дьявол
И заползает под одеяло

Мой отрицательный герой (1976–1982)
* * *
Мой отрицательный герой
Всегда находится со мной
Я пиво пью — он пиво пьёт
В моей квартире он живёт
С моими девочками спит
Мой тёмный член с него висит
Мой отрицательный герой…
Его изящная спина
Сейчас в Нью-Йорке нам видна
На тёмной улице любой.
Лето 1978
По вечерам я пил чаи
Вдыхая лист китайский чайный
И думал глупости свои
Мир посещая узкий тайный
Я был восторженно один
И если что-то волновало
То это книга задевала
Или случайный господин
Случайно порешив гулять
Я в Грейси-парк ходил без дела
Детей там наблюдал несмело
Мечтая с ними поиграть
Впотьмах исследовал дорожки
Как был учитель старый школьный
Порой прелестнейшие крошки
Меня бросали в жар невольно
Крым
Вы помните того индейца
Который не на что надеится…?
Вы помните Бернар ту Сару
Которая жила и стала старой…
Вы помните волну и звуки буги
В пятидесятые на юге
Тогда вдруг Крым украинским вдруг стал
Хрущев сказал. Никитушка сказал
Украинскими стали пароходы
Деревия тропической природы
Вдруг резко отошли к УэСэСэР
И скалы что похожи на химер
Я в это время корчился во чреве школы
Подросток был я невеселый
Я позабыл ловить как пчёл
Занятий новых не обрёл
Как бы меж стульев я сидел в те дни
Подростки — мы всегда одни
Мы на расстрел приходим в наши школы
Одни непоправимые глаголы
Летают в воздухе соляной кислоты
Учителя погружены в мечты
Директор Сталину удачно подражает
И первоклассницу в руках сжимает
А наверху проклятые часы
Как бы для времени весы
Не бьют, но каждый озирается на них
Их звук нам грозен, хоть и тих
Да и сейчас в мои тридцатые
Часы мешают мне проклятые…
Люблю я Крым в виньетке чайных роз
Сухой поселок Коктебеля
Где я сидел как бы Емеля
На море глядя под откос
Где пограничники гвардейцы
Литературных ловят дам
Мы все по сути коктебейцы
Земли я этой не предам
Весь полуостров обожаемый
стоит передо мною отражаемый
Моей весёлой памятью поэта
Я не одно провёл там лето
Но лица женские смешались в улыбание
В него же перешло страдание
А вечера безженские унылые
Те в памяти погибли хилые
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Приятель мой читает Роб-Грийе
А я в кино иду и жду в фойе
Двор проходной писательского клуба
Построенный когда-то грубо
Вокруг благоухают жёны знаменитые
И поэтессы ныне уж забытые
Стоят жестикулируя руками
Не верите — езжайте сами…
Был Крым — наверное и есть на месте
В Америке как в Бухаресте
По окончании войны
Меняют деньги на штаны
Заботы их здесь прохиндейские
Создать компании злодейские
Инкорпорейшены фондейшены
Спешат и дети и старейшины
Я думаю о них что варвары ещё
И потому так любят денег счёт
И поглощение еды в столовой белой
Что скушно расе постарелой
Придёт их время тоже вскоре
В междоусобной дикой ссоре
Их дети бизнес вдруг запрезирают
По-русски даже застрадают…
Появятся другие интересы
Люблю я Крым и не люблю Одессы
Америка — Одесса же сплошная
Вульгарная страна, неразвитая.
* * *
Геринг даёт пресс-конференцию в душном мае
Победившим державам
Чьи корреспонденты гордо выпытывают его
В маршальской фуражке
В кресле поставленном прямо в траву
Ботинки у Геринга в траве утонули
Тяжёлый микрофон старого стиля стоит на низком
столе
Буйствует зелень на заднем плане
Ломит и прёт уже побеждая войну
Горячо и жарко
И Геринг держится грустно
Победоносные прошлые лета
Стучат сапогами в его голове
(А также любовницы, жены и ветви цветов и деревьев
Июли и августы и на оленей охоты)…
Упрячут опять от зелени в темный угол
Геринг не Геринг…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Стоят офицеры, сидят.
Иные в касках. Другие в фуражках
Третьи подставили волосы ветру
Военные корреспонденты — грубые как слоны
Что они понимают
Что мы все понимаем
Простите меня за вмешательство — маршал покойный Геринг
Однако я менее склонен сочувствовать голым трупам
Из другой фотографии — рядом в газете «Пост»
Чем Вам — мяснику. негодяю. эсэсовцу. наци.
Чем Вам — маршал Геринг
Который как будто причина второй фотографии
(Я имею в виду голые трупы)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Хорошо вот так вот
Войну проигравши
Сесть в старом кресле
Ботинки воткнуть в траву
Отвечать им негромко — корреспондентам
Устало как после работ землекопных
В мундире в шитье в этой Вашей Герман фуражке…
Ну удавят — удавят
Зато как по Европе шагали…
На том свете наверное пахнет мышами
А походка-то маршал ух как хороша хороша…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
И думаю пахнут духами и потом слегка
Подмышки немецко-австрийских женщин
И возле Дуная и Рейна
Цветут разлохматясь цветы
* * *
Ветер. Белые цветы. Чувство тошноты.
Ветер. Понедельник. Май. Недопитый чай…
Это я или не я? Жизнь идёт моя?
Книги. Солнце на столе. Голова в тепле…
Или этот натюрморт вдруг придумал чёрт
Чёрт придумал. После взял — заковал в металл
И Нью-Йорком окружил. И заворожил.
А в середине господин. Он же — блудный сын
Блудный сын сидит в окне. Ищет истину в вине
Что-то делает рукой. С левою щекой…
— Милый близкий блудный сын. Ты опять один
На сколь долгие года? Может навсегда
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* * *
В краю поэмы и романа
Всегда бывает хорошо
В лесах охотится Диана
Меркурий радостный прошёл
И на груди у Аполлона
Уснула рыжая сестра
Так было всё во время о́но
У греко-римского костра
К утру натягивали тоги
И грели сонные тела
И были Боги — Жили Боги
Любовь и ненависть была
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В дневном пожаре, в тяжком горе
В Египет проданный я плыл
И Афродиту встретил в море
И Афродиту я любил
Молился ей среди пиратов
Пытался пальцы целовать
Она смеялась виновато
Но изменяла мне опять
Она на палубе лежала
Матросов зазывая вновь
Текла по палубе устало
Моя расплавленная кровь
Смеялись воды. Рты смеялись
Смеялись крепкие тела
Дельфины горько удалялись
Их помощь временной была
Не умирая в божьей воле
Привязан к мачте я стоял
Во тьме ночной агентства «Золи»
Пустые окна наблюдал
Она являлась на машинах
Она шаталась и плыла
Вся в отвратительных мужчинах
И шляпка набекрень была
Я так любил её шальную
Гордился что она пьяна
Что в красоту ей неземную
Душа неверная дана
Я был поэт её и зритель
Привязан к мачте я стоял
Глядел как новый похититель
Её покорно умыкал
Смеялись воды. Рты смеялись
Вдали Египет проступал
И двери туго затворялись
И в верхних окнах свет мелькал
Я шёл один, я был в экстазе
И Бога я в себе узнал
Однажды на зелёной вазе
Его в музее увидал
Он там сидел простоволосый
И дул в надрезанный тростник
Как я скуластый и курносый
Мой древнегреческий двойник
Да он любил её больную
И ни за что не осуждал
И только песню еле злую
Он за спиной её играл
* * *
Вот я скитаюсь в могучих кварталах эпохи
Я не достиг (я расту) потолка моей жизни
Люди собаки пейзажи — неплохи
Переносимы газеты дома пешеходы и вдруг налетевшие бризы
В двух зоопарках живут шимпанзе и тюлени
Матери тупо глядят прижимая младенцев
Дети орут. Все мы ищем партнёра по лени
Лечь. развалиться. лежать. никогда не одеться
Кто это так вам надул ваш живот — молодая?
Он ли прыщавый с немытым акцентом — принц Бруклин?
Этих объятий не мог позабыть с четверга я
Жёлтые шеи. кривые мне помнились руки
Люди стареют и всё человечество сразу
Время прийти нам на смену жукам или крысам
Бог нас смахнёт со стола как простую заразу
Так-то мой друг, мой единственный Эдичка-рыцарь.
* * *
Люди. ноги, магазины…
Все изделья из фасона
Из стекла и из резины
Продаются монотонно
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Непреклонною рукой
Своё личице умой
Соберись поутру строго
Ты Елена. вот дорога
Уходи куда-нибудь
В чёрный хаос выбран путь.
Дура-девица. тогда
Были лучшие года
И у тебя и у меня
Был разгар земного дня.
Ну а ныне эти люди
Для которых моешь груди
— Беспросветные лгуны…
Не из нашей тишины —
Не из нашего отряда
Ты ошиблась — моё чадо
Сверхвозлюбленное
Чуть пригубленное
Потерял тебя навек
Эдька — смелый человек
Эдька умный. Эдик грустный
Эдичка во всём искусный
Эдинька вас в каждом сне
Видит словно на луне
Там вы ходите поляной
В пышном платье. Рано-рано
И в перчатках полевых
Эдинька находит их
Из травы их подымает
И целует и кусает
И бежит к тебе — кричит…
Добрый дядя — тихий жид
На горе в очках стоит
И губами улыбается
Он любуется. качается…
Там есть домик в три окошка
Яблоко висит. блестит
«Хватит бегать — моя крошка».
Произносит добрый жид
«Ну иди обедать детка!»
Детка — длинною ногой
Сквозь траву шагая метко
Направляется домой
С нею дикие собаки
Я последний прибежал
И за стол садится всякий
И целует свой бокал
Так мы жили. Нынче ужин
Я один съедаю свой
И ни я ни жид не нужен
Деве с легкою ногой…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Чтобы вас развлечь — малютка
Я всё это написал
Эдька знает — жизнь-минутка
Жизнь — мучительная шутка
Лишь искусства яркий бал
Этот хаос освещает.
Потому взгляни легко
Счастлив тот, кто сочиняет
Сочиняет сочиняет
И витает высоко.
Пусть тебя не омрачает
Жизнь тебя не омрачает
Пусть земное не смущает
Будет очень далеко…
* * *
Я не верю уже в эту даму
Чей пронзительно-серый глаз
Погружает мужчину в драму
И меня. И его — Адама
Я не верю дружок сейчас
Если я перед похоронным
Блеском бара — бутылок. свеч
Сам с собою сижу с бездонным
Ни за что не позволю сонным
Пауковым жестом наклонным
Дамьим пальцам на плечи лечь
Но надвинув на брови шляпу
Пятой рюмкой взмахнув у рта
Тихо вспомню в России папу
Полумальчика и растяпу
Хоть Россия уже не та
— Офицер ты мой офицерик
В гимнастёрочке полевой
На украденном фото — скверик
Ты и друг лейтенант Валерик
Перед самой большой войной
Ах когда на душе полвторого
И все мысли спешат в Москву
Я припомню тебя сурово
И десятую рюмку без слова
За тебя отец подыму…
В шесть часов на Бродвее хмуром
Рано утром я брёл в отель
Примыкая к другим фигурам
— К проституткам. пимпам. амурам
А все дамы ушли в постель…
Кто-то вроде Лимонова
Бархатный коричневый пиджак
Светлая французистая кепка
Два стекла округлых (Он в очках)
Брюки по-матросски сшиты крепко
Кажется в Аравии служил
После пересёк границу Чили
И в Бейруте пулю получил
Но от этой пули излечили
Где-то в промежутках был Париж
И Нью-Йорк до этого. И в Риме
Он глядел в середину тибрских жиж
Но переодетым. Даже в гриме
Боже мой! Куда не убегай
Пули получать. Стрелять. Бороться.
Свой внутри нас мучает Китай
И глазами жёлтыми смеётся
«Если в этот раз не попадусь
Брошу всё и стану жить как люди
На пустейшей девочке женюсь
Чтоб едва заметны были груди»
* * *
Рабочие пиво пили
И молча потом курили
Рабочего долги часы и минуты
А мимо Волги несут мазуты
Рабочий на мутную воду глядит
В плохом настроении. хмурый вид
Любая работа приносит лишь горе
Как сладки безделия — солнце и море
Вот если ты фермер — ты рад и червям
Ах быть бы вдруг фермером нам!
* * *
Пред лицом мадонны-девы
В пиджачке с укусом Евы
На моём плече
Я стою в немом параличе
Вот считаюсь я писатель
Многодуматель создатель
Как интеллигент (о, этот «класс»!)
Я вложил себя в культуру
Предпочёл её я сдуру
Или это сделал напоказ?
А на деле я поклонник
Воздыхатель и бессонник
У мадонны липких светлых глаз
У мадонны сонных пьяных глаз
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
А со мной стояла рота
Люди всякие без счёта
В бархатных порою пиджаках
Или те кто спят на чердаках
Все мы ёжились ленились
И в лицо мадонны впились
Как бы это раки впились в труп
Не слетало слово даже с губ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
А свечи вдруг венчальные
Стали погребальные
И вокруг мадонны-девы
Проститутки справа-слева
Плачут и поют
Свечи продают
Чёрные и белые
Проститутки смелые
Страшные в своей беде
И забыли думать о еде
Вся восьмая авеню
Шепчет тихо «Схороню
Схороню младенца моего
Только вот не знаю от кого»
Умер Ирод уж давно
И солдатам всё равно
На живых охотиться не в мочь
Если же охотится солдат
Предпочтёт не сына он а дочь
Дочери он больше будет рад…
* * *
Кровавая луна над городами
Бактериями станем. станем вшами
А я люблю кровавую луну
В развалинах и впадинах страну
С диктатором — интеллигентом строгим
Хорошим — только сбившимся с дороги
Прекрасным — но имевшим жизнь плохую
Поэтому и льющим кровь людскую
Под пальмами вся та ж тоска и скука
И смерть скушна как каменная бука
Ребёнок увидал из лимузина
Большая бука села как корзина
На возвышенной северной скале
Диктатора ребёнок на Земле
Имеет нерешённые вопросы
Вокруг него солдаты красноносы
И ветер с моря шевелит бананы
А жители глядятся как цыганы
И верхний свет. И вспененное море
И бука — знак войны что будет вскоре
* * *
В тёмном саду лежал апельсин
На деревянном столе
(Руки и ноги были во мгле
у женщин и у мужчин)
Сплетаясь с моей прихотливой судьбой
Шар возлежал тугой
Сзади судьба моя как сатин
Оттеняла собой апельсин
Когда-то я молод был. И у вокзала
Вместе со мною она стояла
Держа в руке столь забавный плод
Выпуклым был живот
«Довольно выпуклы вы и манерны
Так я сказал с придыханием серным
И высоки и совсем худы
Пьёте много воды…»
«Животик всегда выступает вперёд
У тех кто игриво живёт
У тех кто играется всякий день
Часто под глазом тень»
Это так мне она отвечала
Та чудесная дама вокзала
Проживавшая в прошлые века
Для судьбы и забав человека
Приглашение к балету
— Пойдём посмотрим на балет
Один лишь раз за много лет
Хоть я и не люблю балета
В одной из секций туалета
Любимый встречу мне назначил
Где джентльмен себя разрачил
Там где всегда вода журчит
В антракт свиданье предстоит
— А я иду из-за буфета
Шампанское и шок. конфета
Пойдём посмотрим на балет
Один лишь раз за много лет
Пойдём пойдём чего упрямиться
Там Чайковский ниткой тянется
Там музыка грохочет громыхает
И некрасивая красавица летает
У ней черты напряжены
Как бы при чтеньи «Мира и войны»
Балета бездна поглощает зрителей
Как звери поглощают укротителей
Пойдём посмотрим на балет
Один лишь раз за много лет
Там и ничтожному и ложному
Во фраке юноше тревожному
Наполненному шёпотом и криками
Исколотому внутренними пиками
Откроется какая-то педаль
И ничего и никого не жаль
Резиновая грязная педаль
заполнила у юношества даль
Глядя балет я вспомню есть Уайльд
Оскар и иллюстрации Бёрдслея
Как после грубо пошло Саломея,
В Америке заплёвывать асфальт
Пойдём ей богу, поглядим балет
Пойдём вдвоём чего же нет
* * *
Осень. Холодно. Капают листья
В рощах ходят холодные старики
Я чувствую меня гимназистом средней руки
И у рук ветер дёргает кисти
А ближние вершины гор далеки
Тёплое дыхание твоё. Где оно?
Вы разлюбили меня на пустой белый свет
А глупый слепой белый свет без демона
Страшного и прекрасного волосистого облика нет
Не сияют очи. Не бегут напрасно
Очей лиловые — его ручьи
Жизнь не прошла но стало беспощадно ясно
Что мы ничьи и Вы ничьи
Так чего же Вы голову клоните к чаю
Я делаю вид что я не замечаю
Как грустней от встречи к встрече твои черты
Что уже видела когда-то гордая ты
Мир тебя заставил искалечиться
Ну что передо мной ты говоришь
Куда ни едешь а нигде не лечится
Милан ли то. Нью-Йорк. Париж.
Везде ты чувствуешь что грудь тесна и солнца мало
И говоришь внезапно «Все пропало!»
Не плачешь но сидишь в очках
Стеклом скрывая тёмным страх
Скрывая глаз во что попало
Поникли серые твои жемчужины
Сейчас в них боль и стыд кусками
Какими были юными и нужными
Но мы копаем ямы сами
* * *
Я изменился. душа изменилась
Что-то прошло. Словно только приснилось
Помню в зимний морозный день
Было учиться стихам не лень
Помню в такие же зимние ночи
Носил на руках я жену свою очень
Вносил на далёкий пятый этаж
Какой был здоровый. отважный. Наш
Но время идёт и люди живут
И год равносилен пригоршне минут
И день как десяток тягучих лет
И жизнь нам не скажет ни «да» ни «нет»
Перетянут и папочка был портупеей
Были люди талантливей. Парни умнее
Были собаки и были ежи
Деда Чепигу. по краю межи
Помню идущего. дедовы ноги.
Так бы расплакаться к Богу с дороги
Я тоже ребёнок у Божьих ног
Я тоже хочу целовать порог
Дело не в том чтобы не умереть
А чтоб не страдать бы. а чтоб не болеть
А так бы возвышенно к Богу вспорхнуть
И не испугаться его ничуть
Ничуть. ничуть. Совершенно нет
Ещё ведь и рад он. Что я поэт
Эпоха бессознания
Из эпохи бессознания
Миража и речки Леты — Яузы
Завёрнутый в одно одеяло
Вместе с мёртвым Геркой Туревичем
и художником Ворошиловым
Я спускаюсь зимой семидесятого года
Вблизи екатерининского акведука
по скользкому насту бредовых воспоминаний
падая и хохоча
в алкогольном прозрении
встречи девочки и собаки
всего лишь через год-полтора
Милые!
Мы часто собирались там где Маша шила рубашки
А Андрей ковырял свою грудь ножом
Мы часто собирались
чтобы развеяться после
снеговою пылью над Москвой
медленно оседающей в семидесятые годы
простирающей своё крыло в восьмидесятые
За обугленное здание на первом авеню в Нью-Йорке
Все та же одна жизнь
и тот же бред
настойки боярышника
«это против сердца»
сказал художник-горбун из подвала
впиваясь в узкое горлышко пятидесятиграммовой
бутылочки
Против сердца —
против Смоленской площади
где троллейбус шёл во вселенную
где встречались грустные Окуджавы
резко очерченные бачурины похожие на отцов
где на снегу валялись кружки колбасы
и стихи и спички
и пел Алейников
И подпевал ему Слава Лён
* * *
Вы будете меня любить
И целовать мои портреты
И в библио́теку ходить
Где все служители — валеты
Старушкой тонкой и сухой
Одна в бессилии идёте
Из библио́теки домой
Боясь на каждом повороте
* * *
И вместе с беломраморной зимою
От шёлкового смуглого чулка
Я свою ногу ласково отмою
И здравствуй милая российская тоска
Метели с виски мы пережидаем
Глоток и розовый румянец щек
Добавим англицким красивым крепким чаем
Склонив внимательно над чашкою висок
Потом картишки и ещё рисунки
Но сердцу глупому готовится удар
Взгляни назад — там преступлений лунки
Там вниз ушла любовь как бледный солнца шар
Уже на зимний день надежды не имея
Я с пуговицей полюбил пальто
И в белый свитер свой тихонько шею грея
Меня не любит здесь — зато шепчу никто
Меня не любят здесь. Сараи здесь. Ангары
Здесь склады стульев и столов
Здесь ветрено — светло и в дверь летят удары
Отсюда я уйти в любой момент готов…
* * *
В мире простом украинских хат
Был неземной закат
В состав заката входили тогда
Прожитые теперь года
Казалось умру. И не встать вполне
И было пятнадцать мне
И если ствол дерева или угол дома
Или куст шиповника возникал
То он провинцией насекомой
А значит жизнью вонял
Я тогда называл свою маму дурой
С отцом ни полслова не говорил
Я был ворюгой. Дружил с физкультурой
И Блока читал. И винищу пил.
* * *
Живёт он у теплого моря
С ним дружит красный Китай
У него миллионов много
Злодей — он имеет рай
Любые у него красотки
Разных цветов и рас
Хочет — имеет японок коротких
Расхочет — катается в подводной лодке
Смотрит в подводный глаз
У него различные залы
В его внутрискальном дворце
Он энергичный — а солнце устало
Играть на его злом лице
Он ничего не пророчит
Живёт себе да живёт
Мальчиков ли щекочет
В девочек ли плюёт
Он — Эдуард — как прежде
Выглядит как картинка
И только к ночной одежде
Пристанет порой пылинка
Ну он её и смахнет.
Брезгливым движеньем. Вот…
* * *
Меня подруга нежная убила
На личико она надело рыло
Кричала и визжала и ушла
Как будто в рай. где смех и зеркала
Я целый год болел и бормотал
Хотел исчезнуть. но не умирал
Мой ангел то в Париж а то в Милан
И кажется он болен или пьян
Но я слежу внимательно и жду
Когда-нибудь в каком-нибудь году
Она вдруг отрезвеет и поймёт
И ужаснется её сладкий рот
И закричит те нужные слова
«Твоя любовь права! права! права!
А я больна была и всё убила!
Прости меня!» и сдёрнет маску рыла…
Э. Л
Писал стихи своим любовникам
Бродил по городу как шлюха
В богатый дом хотелось дворником
Когда в желудке было сухо
Глядел в витрины с уважением
Сжимая кулаки в карманах
Мечтал окончить жизнь в сражении
И что-то о небесных маннах…
* * *
Всё в этом мире эх зря
Чёрный наряд короля
Девочка в белых ботинках
Книжки в ужасных картинках
Радостные поля
Эта ли — та ли земля
Что я кричу с корабля
Лес ли какой в паутинках
Всё в этом мире смешно
Дождик впадает в окно
Рыба на взморье
Кит в плоскогорье
В окнах отеля темно
Любишь не любишь
Жизнь свою губишь
Но проиграл ты давно
Я просыпаюсь в тоске
Бьются часы на руке
Ветер кудлатый
Окна в расплату
Пуля как будто в виске
Вот я лежу здесь один
Падает небо с вершин
Эдичка здрасьте
Тайные страсти
Вы испытали — наш сын
Всё в этом мире ничто
Встанешь наденешь пальто
Шляпу надвинешь
Номер покинешь
Рыба из мира Кусто
Волосы щёткой
Выйду красоткой
Нас не догонит никто
* * *
Осени запах и прерии
Чай из Британской империи
Я возлагаю надежды мои
На этого чая струи
Пью улыбаясь и думаю
Может убью я беду мою
Тем более знаю я где и когда
Ко мне привязалась беда
Три деревенских стихотворения
1
Лампа. Книга и машинка.
Где исчезла та пружинка
Напрягала что меня
Как горячего коня
И держала день и ночь
В состояньи мчаться прочь
Вот Америки деревня.
Не как русская так древня
Но такая же темна
И печально холодна
Осень. Я живу один
Сиротливый вид равнин
Частью серых и зелёных
Кое-где уж подпалённых
Выйдешь около пяти
А куда уже идти…
Нальёшь чашку шоколада
Под холмом гуляет стадо
Четырёх баранов спины
Как с французския картины
Клод Лоррен или Пуссен
Только нету старых стен
Моя жизнь на грустном месте
Лишь плохие слышу вести.
Та ушла, та изменила.
Ну и ладно. Ну и мило
Проживу один в ответ
До каких-то средних лет
2
Там дальше — поле кукурузы
А выше ферма и арбузы
Вотермелоны называются
И тряпки чучел развеваются
Внизу — (не верится) река
Прозрачная и небольшая
А в ней форели есть. Какая
Во всяком случае тоска
Я днём работаю. А в час
Когда темнеет небо круто
Пишу ребятушки для вас
Отмывши руки от мазута
«Оно» вернее лишь смола
Мы кроем толью крышу хлева
Джорж. Билл и я. И нам без зла
Бросает листья осень слева
Вообще вид странный у работ
Когда их кто-то совершает
Кто и не только что живёт
Но также пишет и читает
3
Землекопную оду
Подношу я народу
И лопатой поэта
Мною закопано лето
Глубоко в сентябре
Листья страшными стали
Листья тоже устали
И лежат во дворе
Шесть утра. Еле видно
Мне совсем не обидно
Я тружусь не сержусь
Крепким чем-то и хлёстким
Мужиковским московским
В эту жизнь вгорожусь
Люди. Джорджи и Биллы
Мне не то чтобы милы
Деревенский народ
В разных странах у света
Грубо трудится в лето
В зиму лапу сосёт
(Всё сосание лапы
Если вы не растяпы
Состоит из жены
Или бабы иль девки
Из Сюзанки иль Евки
С коей сняты штаны)
День тяжёлый и рыжий
Заработаем грыжи
Тонны камня и глины
Вынимаем для мины
Для цистерны воды
Вот где наши труды
Будет старая дама —
Голубая пижама
Пить. Гостей приглашать
Выше бревен и досок.
Выше труб-водососок
Над цистерною спать
* * *
Фотография поэта
В день весёлый и пустой
Сзади осень или лето
И стоит он молодой
Возле дерева косого
Морда наглая в очках
Кудри русые бедово
Разместились на плечах
Впереди его наверно
Рядом с делающим снимок
Кто-то нежный или верный
(Или Лена или Ди́мок)
Фотография другая —
Через пять кипящих лет
Маска резкая и злая
Сквозь лицо сквозит скелет
Никого на целом свете
Потому тяжелый взгляд
По-солдатски на поэте
Сапоги его сидят
Ясно будет человеку
Если снимки он сравнит
Счастье бросило опеку
И страдание гостит
* * *
Когда изящный итальянец
Вас пригласил на чёрный танец
Когда без умолку болтая
Он вёл вас крепко прижимая
То мне подумалось невольно
«Как странно. Страшно. Но не больно»
А в зеркалах стояли розы
И серебро толпилось грузно
Сквозь музыки большие дозы
Вдруг кто-то всхлипывал арбузно
У вас под чёрным платьем грудки
Капризно-мелкие торчали
Он говорил вам нервно шутки
А Вы молчали и дышали
Американцы и лакеи
Ходили в разных направленьях
А я в божественных селеньях
Смотрел на геммы и камеи…
Вернулись Вы. От платья ладан
Иль дым какой-то благовонный
И итальянец с Вами рядом
Как видно замертво влюблённый
«Ну да. Жена моя. А что же».
Я подыму подол у платья.
И покажу ему… О Боже
Коль буду в силах показать я…
Потом пойду спокойно к бару
Нальют шампанского мне люди
Я так устал. Я очень старый
Мне тридцать шесть уж скоро будет
Пойди найди меня и кротко
Целуй меня за синей шторой
Как девочка — больна чахоткой
Целует куклу без которой…
* * *
В газетах опять о Вьетнаме
А я не пишу моей маме
И где потерялась жена
Которая нежно нужна
В газетах про рис и свободу
И о президентах народу
Сказавших прекрасные речи
Я кутаю тонкие плечи
В мой белый балетный пиджак
Ах скушно мне все это как!
Среди городского обмана
Вся жизнь как открытая рана
Встречаются женщин тела
Короткая нежная ода
Смыкается снова природа
И женщина тихо ушла
Как утро прекрасно и мутно
И мне беспокойно уютно
Что я одинокий такой
Что эти печальные страсти
Меня разрывают на части
И бездна свистит за спиной
Какое холодное небо!
Хотя на земле и жара
И в поисках крови как хлеба
На тело летит мошкара
В возвышенной нашей печали
В погубленной нами любви
Мы сами себя не узнали
Убили и в грязь затоптали
Прекрасные лица свои
Я стал настоящий мужчина
Ты — женщина с лёгким хвостом
Но только меня половина
Регалии блудного сына
Забыто лежат под кустом
Потери! Потери! Потери!
Предчувствий трагических дрожь
И верю тебе и не верю
Как страшному дикому зверю
И правдой мне кажется ложь!
* * *
Дорогой Эдуард! На круги возвращаются люди
На свои на круги. И на кладбища где имена
Наших предков. К той потной мордве, к той руси или чуди
Отмечая твой мя́совый праздник — война!
Дорогой Эдуард! С нами грубая сила и храмы
Не одеть нас Европе в костюмчик смешной
И не втиснуть монгольско-славянские рамы
Под пижамы и не положить под стеной
Как другой океан неизвестный внизу созерцая
Первый раз. Открыватели старых тяжёлых земель
Мы стоим — соискатели ада и рая
Обнимая Елену за плечиков тонких качель
О Елена — Европа! Их женщин нагие коленки
Всё что виделось деду, прадеду — крестьянам, и мне
Потому глубоки мои раны от сказочной Ленки
Горячей и страшней тех что мог получить на войне
Я уже ничего не боюсь в этой жизни
Ничего — ни людей, ни машин, ни богов
И я весел как скиф, хохоча громогласно на тризне
Хороня молодых. Я в восторге коль смерть прибрала стариков!
Прибирай, убирай нашу горницу — мир благовонный
От усталых телес, от измученных глаз
А когда я умру — гадкий, подлый, безумный, влюблённый
Я оставлю одних — ненадёжных, растерянных вас
* * *
У Есенина Серёженьки
В земле рученьки и ноженьки
И зарытые и чёрные
Землёй хмурой промочённые
Но лежит он на Ваганькове
Вместе с Катьками и Ваньками
Вместе с Олями и Танями
Под берёзами-геранями
Не лежать же там Лимонову
Блудну сыну ветрогонову
А лежать ему в Америке
Не под деревцем. Не в скверике
А на асфальтовом квадратике
В стране хладной математики
Идиот
Вновь ты будешь одиноким в ноябре
Когда дождик, холод, слякоть на дворе
Листья всюду как проклятые лежат
Отвратительные ветры дребезжат
Да ты будешь одиноким и простым
В Нью-Йорк Сити жить — где утром серый дым
По утрам в кино дешёвое ходить
В порнозвёзд влюбляться может быть
И мечтать об огнедышащей пизде
Нежной, маленькой как птичка на гнезде
Да без денег да опять опять опять
Ненавидеть богачей и проклинать
И не чувствовать светло как ясный грек
Ты позорный и продажный человек
Надо б кепочку поглубже на глаза
Чтоб не видели там злоба иль слеза
Чтобы только бы и знали,— вот идёт
Препротивнейший прохожий. Идиот.
Нью-Йорку
Прими газету в этот день
Как бы подарком с неба
Газеты пусть кривая тень
Закроет день… как не был
Газета пишет напрямик
Что в ночь застрелен был старик
Что друг зарезал друга
И полицейский Финнеган
Проверить рад чужой карман —
Бандит в часы досуга
Велик наш город да и плох
В нём много миллионов
Людей как в грязной робе блох
И нету им законов
Блестят алмазы. Молох жрёт
Количество людей растёт
А деньги управляют!
И денег льётся тусклый свет
А у кого их денег нет
Те плохо проживают
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
И мне так страшно и легко
Поэту иноземцу
И пью я кофе с молоком
Над нашим грешным островком
Который бьёт по сердцу…
В противоречие вступив
Вдруг тихо понимаю
Что город Дьявола красив
Совсем с другого краю
О посмотрите на паром
От берега идущий!
На этот дикий бледный дом
Из неба как бы сущий!
На чаек утром. На туман
На голые ущелья
Как поселения зырян
Где бизнесмены разных стран
Дела ведут с похмелья
Здесь пар проросший сквозь Бродвей
Стремится к Уолл-стриту
И Атлантических дождей
С утра слыхать сюиту…
Меня смущает самого
Любовь к Нью-Йорку граду
Не очень ясно отчего
Но сердце всё же радо
Ведь раны он мои лизал
И подползал на брюхе
Когда я брошенный искал
Лишь гибели-старухи
Он спас меня своей чумной
Таинственной насмешкой
Своей нахальной наготой
Хоть не орлом. Но решкой.
* * *
Я проезжал кварталы бедноты
Здесь люди говорят друг другу «ты»
В полуразвалинах смеющиеся лица
Здесь игры у детей… А здесь больница
Вот девочка с тяжёлыми ногами
Её большой и очень взрослый рот
Сейчас. еще минута. и пред вами
Поэт,— вся эта туша проплывёт
Ей лет тринадцать. но её зрачки
В таком позоре и таком испуге
Что ясно: воет подлая о друге
И чтоб её ломали на куски
Я проезжал. Я тоже был бедняк
В машине бедной. С эмигрантом братом
В берете чегеваровском. подмятом
С особым шиком. Эдак и вот так
Меня и бедным не считал никто
Я был собой зачислен в партизаны
Во снах я видел лакомые страны
Войну. Жару. Военное пальто
Я так носил как здесь никто не носит
Моя беда уска́льзывала вдаль
Ведь если эти люди тебя просят
То ты скрывай усталость и печаль…
* * *
Островок наш ничего
Населенье таково:
Из испанцев или чёрных
Каждый третий у него
Мы плюёмся и жуём
Чуингам зубами мнём
Делать деньги не пытаясь
Мы на Вэлфере живем
Солнце мутное. Жара.
Мир гудит с шести утра
Мир гудит в средине ночи
И буржуем стал рабочий
Революцию пора
Островок Манхэттан мал
Я любить его мечтал
Я приехал и надеюсь
На пожарище согреюсь
Я сюда не опоздал
На Бродвее вонь-моча
Мои ноздри щекоча
Позволяет думать даже
Мы на лезвии меча
Хватит купли и продажи
Нужно строгого врача.
Я живу сейчас один
Возле каменных вершин
Мутно небо. Тёплый ветер.
Я тебя ещё не встретил
Я товарищ — господин
Поджигаем старый дом
Хватит мы пожили в нём
Продавай старик Манхэттен
И гори дурак огнём
Революцией на свете
Революцией взмахнём
Моя новая страна
Твоя новая вина
Ты меня не привлекаешь
Не берёшь и не ласкаешь
Пожалеешь ты сполна
Загремишь и запылаешь
Вспомнишь наши имена!
* * *
Уже шестое февраля
С утра заснежена земля
Пронзительный и хмурый свет
И от судеб защиты нет…
И рюмку с горькою водой
Ты тащишь хрупкою рукой
И взор лукавый мутен
Ах друг мой — ты беспутен!
Уже шестое февраля
Лежат открытые поля
Где человек лишь точка —
— печальный одиночка
Или по улицам Нью-Йорка
Плывёт наш человек как корка
Банана или апельсина
Больная хворая скотина
(Ты не ходил бы — ты бы лёг.
Ах не мочил бы бледных ног!)
(Наш человек он для примера
Всегда стоит у обелиска
Или колонны старой эры
Он на линейке как бы риска.
Возьмёте двадцать его штук
Поставите их друг на друга
И древних нам видна заслуга
Достичь стремились солнца круг).
Уже шестое февраля
В Париже набраны стихи
С журналом новеньким шаля
Меня прочтут большевики
Большевики начнут читать
Начнут скрести свой грешный волос
И Родина — плохая мать
Из-за спины подаст свой голос…
Метель. Я пролетарий стран
Объединившийся без друга
Сижу в Нью-Йорке как цыган
И своё дело знаю туго.
В двенадцать подтянув штаны
Надев тулуп почти советский
Пойду квартиру красить в грецкий
Цвет и горчицы и вины
Чрез метель мне доллар виден
И он ведёт меня туда
На ниву потного труда
Который труд он не обиден
Но этот мир… что с него взять
Большевики… Капиталисты…
Не стану больше обнимать
Их страны сердцем моим чистым.
Обитательница Сохо
У неё широкие штаны.
Попка перетянута штанами.
Сзади хлястик. С именем жены
Но с чуть-чуть проросшими усами.
Сумка на плече. Почти мешок
Грязная нога в большой чувяке
От нечистой кожи запашок
Словно бы от кошки иль собаки
Лето 1977-го
Лето прошло без особых утех
Редко слышны были шутки и смех
Но если слышны они были даже
То отдавали духом пропажи
Чистил и мыл я полы и предметы
Юбки я шил (Есть хотят и поэты)
Вечером слушал Теле и смотрел
С Джули-служанкою дружбу вертел
Если же Мэрианн вдруг приходила
Джойнт ирландка всегда приносила
Марихуанки курнув забывал
Что не допущен на сказочный бал
Так мы и жили всё лето. И вот
Август сонливый и мятый встаёт
И над Нью-Йорком как призрак грядущего
Осень кричит голоском неимущего.
* * *
Подари мне хризантему
Или что-нибудь такое
Больше хризантемы вдвое
Но на ту же впрочем тему
Подари мне не спеша
Вдруг большой цветок лохматый
Как бы душный как бы смятый
Чтобы плакала душа
Чтоб штук пять корявых строчек
Много русских важных точек
Как бы ватных одеял
Я б с тоски нарисовал
Чтобы чувствовал как в Риме
При Нероне — Никодиме
Под конец каких-то ид
Войн Помпейских инвалид
Девочка. Придя во вторник
Принеси цветок как шапку
Не завернутую в тряпку
Лепестков широких сборник.
* * *
…И мальчик работал в тени небосводов
Внутри безобразных железных заводов
И пламенем красным, зелёным и грубым
Дышали заводов железные зубы
И ветер и дождь за пределами цеха
Не были для мальчика грязь и помеха
А грязью был цех. Целовала природа
Когда умудрялся избегнуть народа
И выйти из скопища грубых товарищей
От адовых топок — гудящих пожарищей
Во двор, в снеготу, в черноту, в сырость мира
Стоять и молчать, тихо думать, что «сыро…
А если у веток содрать кожуру
То видно как жилы пронзают кору…
И крыса и суслик ведь роют нору…
И ели так жалко что рубят в бору…»
Швыряли товарищи злобные шутки
Металлы гремели там круглые сутки
И таял там снег. И воняло там Гадом…
Народом. Заводом… загубленным садом…
Начало
…И только Иван был чернее меня
На журавлевском пляже
Лет двадцать назад Ивана кляня
С ним я сдружился даже
Загар его был в цвет сажи…
Вот мы и ходили с Иваном вдвоём
Средь них удивительным чёрным зверьём
Ночами работали оба
Запомню Ивана до гроба
Его съел кожевенный старый завод
А мне «Серп и молот» вдруг сунул расчёт
Свобода. И двести рублей
И август. Принцесса и змей…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
…И помню я водки холодный стакан
Причёску под Элвиса Пресли
Я харьковский вор. Я бандит-хулиган
Пою под гармонику песни…
Мне Немченко Витька с похмелья играл
Любил меня Витька Карпенко
Сестра у него была полный отвал
В неё был влюблён друг мой Генка…
Ирина? Нет кажется Люда? Ах нет…
Какое-то имя простое
Я стал забывать по прошествии лет
Начало исторьи героя…
Себе самому
Времени всё меньше
Все тропинки уже
Нет прекрасных женщин
Воздух пахнет хуже
Все мужчины — трусы
За спиной — злодеи
Скушны все Эльбрусы
Все подруги — змеи
Не доверь и брату
А тем паче — бабе
Ходишь по канату.
В молоке — быть жабе.
У любой столицы
Ты равно — прохожий
(И Москва-девица
Сюда входит тоже)
Не предаст лишь пуля
Тихая и злая
Эх ты моя гуля
Пуля дорогая…
Бога тоже нету
Лишь интеллигенты
Верят в басню эту
Да ещё студенты
Нет уже обмана
Вам — Лимонов бедный
Оттого так рано
Стали злой и вредный.
Фрагмент
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Мы рот открыв смотрели на пейзажи
На города на бледные моря
В морях порой киты плескались даже
Глазами тёмно-синими горя
В зелёных льдах весёлые пещеры
В руинах замков музыки и свет
Прекрасных дам сжимают кавалеры
Ведя порнографический балет
С журналом мод в кустах лежат сатиры.
Ив Сен-Лоран наброшен на бедро
И попки нимф похожие на лиры
Среди камней расставлены хитро…
С подводной лодки спущен жёлтый ялик
На тонкой мачте бьётся черный флаг
(Гляди на весла! О, Жолковский Алик,
Сейчас взлетят, с волны сдирая лак!)
То Фантомас в компании блондинки
Спешит брильянты закопать в атолл
Но вдоль луны (Здесь крупный план корзинки!)
Воздушный шар с полицией прошёл
Вниз Шерлок Холмс сигает с парашютом
Он курит трубку не снимая плащ
А Робинзон, откушавший шукрутом,
Следит за всем, труба торчит из чащ…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Мы рот открыв смотрели с Робинзоном
На облака, на тучные стада
Дышали морем, дымом и озоном
И Пятниц приручали иногда…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В зелёных льдах… (Реши, профессор Алик,
Кто повлиял? Бодлер или Рембо
Или Жюль Верн?) букашкой видит ялик
В козлиной юбке Робинзон с трубо…
* * *
И все провинциальные поэты
Уходят в годы бреды Леты
Стоят во вдохновенных позах
Едва не в лаврах милые и в розах
Расстёгнуты легко их пиджаки
Завернуты глаза за край рассудка
Когда-то так загадочно и жутко
Стоят на фоне леса иль реки
Где вы ребята? Кто вас победил?
Жена, страна, безумие иль водка?
Один верёвкой жизнь остановил
Другой разрезал вены и уплыл
Аркадий… Ленька… Вовка…
Дома
На полу лежат несколько седых волос Эдуарда
Их бы следовало подобрать руками или пылесосом
Но Эдуард настолько ещё одурманен гашишем
Что никак не может собраться…
Сконцентрироваться ему трудно
И проходя мимо волос раз уже десять
Он всё-таки говорит себе «Позже.
Я ведь иду на кухню поставить чаю
Чай важнее, чем сорный волос
Подыму волос — о чае забуду…
Прямая существует опасность…»
Потому седые волосы. Коротки и прямы
Лежат на полу и глаза мозолят
О, гашиш! Восточный источник лени!
Не курите, друзья мои, гашишу
В запустение гашиш дом приводит…
Жена бандита
1
Роза стоит в бутыли
Большая роза прекрасна
Она как большая брюнетка
Как выросшая Брук Шилдс до отказу
А кто же принёс мне розу?
Её принесла мне… подруга
Подруга — жена бандита.
Люблю опасные связи…
Ох, если бандит узнает,
от распрей междоусобных
с другими бандитами, сразу…
от маленьких проституток,
которых он сутенёрит…
ко мне и жене повернётся…
Убьёт он нас двух, пожалуй…
Имеет два револьвера
И верных друзей в придачу…
Боюсь. Но любить продолжаю
Я тело жены бандита
И ласковый темперамент
Сладки опасные связи…
2
Она подарила мне ручку
И подарила цепочку
И принесла мне розу
Одела на палец колечко
А кто я такой ей? Любовник…
Могла бы решить: «Не нужно
Сделает и без розы,
Даже коты умеют
Знают как влезть на кошку…
На кой мне нести подарки…»
Из солнечной из долины
Где родилась… До Парижа
Девочка докатилась
Разные нас дороги
Внесли в этот серый город…
Спасибо за твою ласку —
Подруга — жена бандита…
Людвиг
1
Ох и Людвиг-поляк, ну он и Людвиг!
Зубы рыжие ощерит и смеётся
(Будто скачет разбитая телега
Поперёк моего большого детства…)
Кокаину нюхнёт, а после пивом
Кокаинную светлость он снимает…
Рядом бегает чёрная собака…
Дальше прыгает сын в жерле квартиры
Гости Людвига пьют да горлапанят
Режиссёры… Актёры и актрисы
(И Анук Эмэ была там с ними,
Только старая. Бедная стеснялась…)
Проживает Людвиг на Монмартре
Он его поддерживает славу
По монмартрским переулкам он качает
Свою пивом надутую фигуру
«Запердоляный в дупу» он гуляет…
Есть ещё на свете и поляки…
2
Но однако Людвиг прост не так-то
И свои проблемы он имеет
И имея все свои проблемы
Он однако их вовсе не решает…
14 июля
Инспектор тюрьмы и начальник работ
Прекрасный вокруг народ
Светлейшие лица, большие очки
Добрейшие мысли и с флагом значки
Французский флаг развевается вздут
Под флагом каждый одет-обут
Под флагом каждый с бутылкой вина
И по паштету на говоруна
Да здравствуют кролики разных народов
Сплочённые вместе приятным трудом
Повысим усилия кролиководов
И больше кроликов произведём
К утру через матку выходит кролик
Ботинки. Жакет. Голубая плешь.
Зовут его Жан и зовут его Толик
Возьми-ка морковку, дурак, и ешь
Очки и пиджак и галстук на темя
На жопу глаза и в карман — банкнот
А ну, расступитесь, Товарищ Время
К своей Демократии кролик идёт
Несёт он ей губы и острые зубы
Сосёт её грудь горячо
Жандармы трубят во французские трубы
Взнеся с аксельбантом плечо…
«Сосед англичанин надел кожух…»
Сосед англичанин надел кожух
Подругу взял и пошёл в кино
И не возвращался часов до двух
Вернулись вдвоём, я видал в окно
В Париже холод такой густой
Как будто Сибирь — Красноярский край
И нету дома. «Пойду Домой!»
А сам идёшь в дровяной сарай
Живу как волк и умру как волк
Вчера пережрал и болит живот
Свинину ел и была как шёлк
Но много съел и страдаю вот
Была бы жена чтоб сказать «Постой!
Довольно съел. Потерпи до утра».
Но так как живу я вдвоём с собой
Так ем раз в день и по полведра
К чему эта жизнь меня приведёт
Как всех к концу, а конец один
Я вижу как грубо мой труп кладёт
В большой чемодан чужой господин
Нет он не поправит за членом член
Чтоб мягко лежали, не тёрлись бы
Его профсоюз ввиду низких цен
Ведёт забастовку против судьбы…
Зависть
Иосифу Бродскому,
по поводу получения им очередной денежной премии
В камнях на солнце рано
Лежу как обезьяна
Напоминая мой недавний бред
Между камнями на песке скелет
Большой макрели. Чайки Тихоокеана
От рыбы не оставят мяса. Нет.
Волна в волну, как пули из нагана
Вливаются по воле их стрелка
Как Калифорния крепка!
И частной собственностью пряно
Несёт от каждого прибрежного куска
«КОРМИТЬ НЕМНОГИХ. ОСТАЛЬНЫХ
ДЕРЖАТЬ В УЗДЕ
ДЕРЖАТЬ В МЕЧТАХ О МЯСЕ И ГНЕЗДЕ».
Мне видятся Вселенского Закона
Большие буквы… Пятая колонна
Шпион. Лазутчик. Получил вновь — «На!»
И будет жить как брат Наполеона
Среди других поэтов как говна…
«Тридцать четыре тыщи хочешь?»
Я крабу говорю смущён.
«Уйди, ты что меня щекочешь!»
И в щель скрывает тело он.
Я успеваю вслед ему сказать
«Тридцать четыре перемножь на пять»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Какой поэт у океанских вод
Вульгарно не поглаживал живот
Мы все нечестен. Каждый нас смешон
А всё же получает деньги «он»
Мне интересно как это бывает
Что всё же «он» все деньги получает
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Подставив огненному телу все детали
И тело сваленному древу уподобив
Лежу я, джинсы и сандали
На жёстком камне приспособив
И чайка надо мной несётся
И грязная, она смеётся,
В камнях всю рыбу приутробив
«Что ж ты разрушила мокрель?»
Я говорю ей зло и грубо
Она топорщит свою шубу
И целит подлая в кисель
Оставшийся после отлива
Прожорлива и похотлива
Как Дон-Жуан косит в постель
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Мне всё равно. Я задаю вопросы
Не потому что я ищу ответы
Не эти чайки — мощные насосы
Говна и рыба. Даже не поэты
И нет не мир покатый и бесстыжий
Мне не нужны. Смеясь, а не сурово
Я прожил целый прошлый год в Париже
И как эстет не написал ни слова
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Однако б мне хватило этих сумм
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Иуда на Бродвее
1
Я шёл по Бродвею, одетый в полковничий плащ
Полковник был русский, а после — нацистский палач
Покончив с войною, в Нью-Джерси приплыл в пароходе
И умер недавно согласно закону в природе
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В двадцатом-то веке уж можно ходить без калош
На вашего Бога прохожий в калошах ужасно похож
Бородка. Усы. Небольшие пустые глаза…
(Чуть что происходит, уверен, глаза орошает слеза)
Характер истерика. Нервная дама, не муж
Змея,— так гадюка, хотя это маленький уж
Ему быть Христом, никогда не носить эполет…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Жил Слава Васильев когда-то. Тишайший поэт…
Он тоже немного, но Бога мне напоминал
Ходил он по водам. Он в ливень бутылки сдавал
Набьёт свой рюкзак и идёт и плывёт по земле
Где маленький Слава? Увы он окончил в петле…
(Он «кончил» буквально. Про это все знают давно
Оргазм наступает, коль горло у вас стеснено
Прямая есть связь между горлом и «кончил в петле»
Из тех же чудес, как «рисует мороз на стекле»)
2
И жил некто…овский. Вполне подходящий поэт
Прошло уже двадцать по-моему всяческих лет
А где этот…овский? и где остальные, где дюжина?
Я помню был суп. И одна в этом супе жемчужина…
По мискам щербатым, что сделаны были в Астории
Разлили мы суп в самом-самом начале истории
Две тысячи лет пролетело. Жемчужина сальная
Досталась Иисусу, а с нею и слава скандальная…
Так если ты миску рукою от брата берешь
То помни последствия. «Бразэр» конечно хорош
Однако предательство — тоже приятная миссия
Кто самый известный? Иуда. Признает любая комиссия
Любая статистика скажет — Иуда, глава романтической школы
К Христу наклонясь, мы помним, он шепчет глаголы
Блистают глаза его. Дерзостно молнии мечутся
И в суп попадая, шипят… умирают… колечатся…
3
Я шёл по Бродвею, одетый в полковничий плащ
Полковник был русский, а после — нацистский палач
Он умер в Нью-Джерси. Один, без друзей и родных
Оставил он тряпки. И я унаследовал их…
Прекрасен Бродвей! На Бродвее просторно и ветрено
Хотел написать о количестве монстров квадратном на метре, но
Вдруг вспомнил, что грязный Бродвей полагается мерить количеством ярдов
…и вдруг натыкаешься — «Бринкс» …и встречаешь двух гардов…
Мешки. Револьверы. Глаза под фуражками грозные
Порезы от бритвы, и ох, подбородки серьёзные…
А так как вы знаете, ветер средь нас по Бродвею гуляет
То ветер естественно старшему гарду наклейку с щеки отгибает…
4
Манхэттен с Бродвеем готовят себя к Халуину
Идя по Бродвею ты видишь внезапно витрину
Где смерть как мужчина токсидо напялила гордо
И держит за талию женщину-смерть она твёрдо
Кровавая маска все крутит и крутит педали
И кровь всё течет. Как же ноги ей не отказали?
Кровавая маска, подпорчена скверной могилой
Отчасти зелёная, детям она представляется милой…
Стоят три ребёнка и просто раззявили рты
Я думаю — «Дети-то нынче тверды и круты
Кровавую маску, ещё и фу, гадость! что в связи с могилой!
Лет тридцать назад не назвал бы я мальчиком милой…»
(Вообще-то я думаю часть населения к празднику зря деньги тратит
Для многих и маски не нужно, лица вполне хватит
Манхэттен с Бродвеем достаточно монстров вмещают
Таких выразительных, что Франкенстайны линяют…)
5
Такие дела… А иду я в «Бифбюргер», ребята
Хотя и писатель, однако живу не богато
Предавший друзей. Ими преданный тысячу раз
Иуда. Я жить научился один наконец-то сейчас
Бродить по Бродвею и по Елисейским Полям
Чуть-чуть оживляться среди «обольстительных дам»
И руки засунув глубоко в карманы, в полковничий плащ
С достоинством шествовать средь человеческих чащ
Чего там… Всё ясно. И дамы и войны двух мух…
И слава… Увы человеческий это всё дух
И крепко вдохнув этот сыру подобный вонючему как бы рокфору
Их запах… Иду, а Бродвей загибается в гору…
Парижские стихи
1. Баллада парка Лобо
Пахнет бензином над бурой водой
Солнце за тучей сырой
Ботик моторный пропы́хал «Жюстин»
В дождь. Неприятно один.
Бросил вдруг в Сену бутылку араб
Грек откусил свой кебаб
Слева француза целует француз
Каждый имеет свой вкус.
Ива. Каштан. Лавровишня и ель
Справа бродяга забившийся в щель
В тряпки. Гнездо из кусков одеял
Он гениально создал
Девушка с толстым хорошим бедром
Занята длинным хорошим письмом
В парк вдруг заходит печальный Никто
Член показать из пальто
Голубь увечный летает не злясь
Лапа отпала гноясь
Но ничего — проживёт он и так
Скачет и жрет он маньяк
«Живы мы!» «Выжить!» — природа кричит
Каждый имеет уверенный вид
Даже волна весела и бодра
Форму имеет бедра
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Если бы был авиатор мне друг
Он оказал бы ряд важных услуг
Так над Парижем из газовых струй
Он написал бы мне ХУЙ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Знаю я женщину — ей сорок пять
Ох как не хочет она увядать
Женщиной быть она хочет всегда
Нежною щёлкой горда
Мне приходилось работать Христом
И не с одной Магдалиной притом
Каждую нужно ободрить поднять
Новое имя ей дать
Целая очередь бледных блудниц
Хуже чем в худшей из худших больниц
Мимо прошли. Я работал Христом
Жил этим тяжким трудом
В парке весь мир как бы в капле росы
Произошли у бродяги усы
Девушка с толстым и мягким бедром
Сели с арабом вдвоём
Перестановкою света и туч
От Нотр-Дама протянут нам луч
Мы уцепились… И вот на пальто
Кончил за всех нас Никто…
2. После фильма
Где все эти Good bad girls
Жестокие девушки с резко откинутыми головами
с расширенными зрачками
безжалостно ищущие любовь по всему миру
начинающие с ничего?
Где мужчины с блестящими проборами
в больших костюмах
остро танцующие танго с неожиданными поворотами
целующие девушек с вампирским видом
хмуро наклоненные над girls?
Где шумная экзотическая толпа
топчущая лакированными туфлями
гладко причёсанные лужайки
Толпа — которую поджидают огромные белые
роллс-ройсы
(— усики мужчин крупным планом
ещё шёлковые чулки des femmes fatales)?
Куда они пропали?
Куда устремились роллс-ройсы
после того памятного пикника?
Куда они приехали когда прошёл дождь?
Что случилось за надписью The End?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Они — старые и незаметные
тряся облезлыми головами
живут на Central Park South
— утверждает мой знакомый журналист
Вечерами спускаются в тёмные кожаные старые бары
слушать негритянский джаз
В барах пусто (до сих пор было пусто), пахнет опилками
И никто их не узнаёт…
Кое-кто тихо умер от OD (овердозы наркотиков)
и мирно покоятся на тёмно-зелёных кладбищах
Калифорнии
С полдюжины героев намеренно покончили с собой…
Двух или трёх след затерялся…
Тарзан кажется служит дорменом в одном из отелей
Лас-Вегаса…
Но в любом случае жизнь прошла…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Чего же мы-то ждём
бессмысленно ссорясь —
мой друг!
Придержи свой гнев — надевай поскорей свою шляпу
И поедем давай танцевать!..
3. Романс
Я вас люблю так солнечно-легко
Мне как бы в кровь вкололи вашу тайну
Я вас впитал бесспорно с молоком
Но в молоко проникли вы случайно
Не этот мир. Не этот жалкий мир
Мне вас прислал мир страстный и надменный
Мир молодой стремительный и пенный
Где нимфу вод преследует сатир
Где вдоль ручья след маленький ступни
А на камнях сыр козий недоеден
Где дух вина и где никто не беден
Где наконец и ты и я одни
Ну доберусь до маленьких сосцов!
Лишь протяну желающие руки
До тела нежной девочки и суки
С беглянки нимфочки сорвав её покров
Ты вся испуг и резкий поворот
И полусмех и «нет» и «да» и «можно»
«О уходи!» — ты шепчешь мне тревожно
протягивая мне живот и рот…
Я вас люблю. Я вас люблю. Тебя!
Мне никогда не выпить вас Елена
Всё тело вас любя и теребя
Все уголки изведав постепенно…
* * *
Ты сидишь на скамейке французского старого парка
Хоть и лето… увы, почему-то не жарко
Пробегают у парка по всем направленьям авто
Так прохладно в июне, что впору одеть бы пальто
У тебя столько опыта в русской груди
Но куда с этим опытом… сколько веков впереди?
Ты всё знаешь: что плохо, что честно, а это — красиво…
Ты всё знаешь? Зачем же живешь несчастливо?
Почему на лице твоём хмурая тень
Если знаешь — красивую мину надень…
Ты сидишь. Плутоватые школьницы быстро бегут из лицея
Пары, тройки спешат, или еле идут как болея
Накопленья в глазах и плечах и коленях
Не проснувшейся страсти и жирной младенческой лени
Плотоядную булку жуя с шоколадной конфетой
Ты — французская школьница входишь в холодное лето
Хрупким жуликом, подняты плечи и усики тонки
Я гляжу как проходят мадамы-ребёнки.
Нежной шляпкою плотно прикрыв лысоватое темя
Неудобный старик обгоняет прошедшее время
И завязаны в узел шоссе и мостов злые жилы…
Парижане веков, холодов мировых старожилы
Мы длиннее поём наши песни строку развивая
А над ними тоска всех часов мировых, боевая…
У Сены
Дама исчезает…
Ветер лист срывает
Туча наползает вдруг
Пусто на скамейке
Нет в саду еврейки
Грустно стало,— милый друг…
Очень грустно стало
Ветка вдруг упала
Катер протащился вниз
Ищут что ли трупа?
Доктор смотрит глупо
Полицейский пьян и сиз…
Трупов нет, не видно
Всей команде стыдно
В воду что глядели зря
Воду наблюдали
Трупы-то искали
Револьверами горя…
* * *
Хорошо и скушно быть поэтом
Только русским комариным летом
На старинной даче с самоваром
Хорошо поэтом быть нестарым
Да ещё с бутылкою порой
Обнимаясь тонкою рукой
И грибы — отрада для желудка
В лес пойдёшь — загадочно и жутко
И с подругой Леной у воды
Вы плюёте в тёмные пруды
Ходит бабка как больной ребёнок
Колокольню видно за горой
И когда пойдёшь отлить спросонок
То раздавишь ягоды ногой
Хорошо поэтом быть в России
Но теперь Россия на замке
И цветы косые и кривые
У меня в протянутой руке
Бог простит земельныя уродцы
И без нас там что-то происходит
Каждый день встают большие солнцы
И под вечер солнышко заходит
* * *
Я ходил в супермаркеты вместо дворцов
Проводил я там множество тихих часов
Злобно слушая музыку, о дорогая!
И скопления мяса кровавых кусков
Реквизитом казались мне рая…
Я дрожал перед стендами. Горы еды
Моря пива и реки шипящей воды
Ударяли мне в челюсти, их омывая
Разминая в кармане горсть тёплых монет
Ощущал я как хрупок мой хрупкий скелет
Под одеждой дрожит, распухая
Я ходил в супермаркеты… Там как Мельмот
Я топтался часами. Презрительно рот
Искривлялся в улыбочке бритвенно-тонкой
Вы хотите чтоб после, я род бы людской
Я любил бы как прежде. Как червь городской
Умилялся мадонне с ребенком..?
* * *
Демонстранты идут по майской земле
Их столько лежит уже в тепле
На кладбище парок и мусор сгребли
От порта удаляются корабли
Отец заменяет в кармане платок
Душит затылок, скрывает плешь
В мае всегда винный дымок
Красиво одетый пирог ешь
Мама танцует и папа плясал
Да только присел он — устал
Звучит гитара. А задний план
На кладбище мочится хулиган
Сирень как безумная прёт из земли
В порт Туапсе пришли корабли
Сидят моряки — пьют красный кисель
Качает ветер сухую качель
Пыльный наш двор. Фазан да павлин
Две книжки Фройда читает наш сын
Добавив Гамсуна книгу «Голод»
Поймём что ужасен, уныл и молод
Бродяга купается в майских волнах
Над плавучей столовой развевается флаг
Медузы плывут. Валунов нанесло
И тухлая рыба воняет не зло
Перевёрнут баркас. Натянут канат
Две шерстинки пеньки из каната торчат
Мокрое дерево сложено в кучи
С моря идут полотняные тучи
Жёлтое что-то надев. Погрустив
Бродяга бросает Туапсинский залив
И уходит на станцию вдоль порта стены
И видит на станции станционные сны…
Доктор Джакиль и мистер Хайд
По светским раутам гуляя доктором Джакилем
Он удивлял народ одежды элегантным стилем
Но выпив из пробирки смесь шипучую
Растрепанным злодеем становился с кровью жгучею
И назывался ночью,— мистер Хайд…
Был мост над речкой… (Темза или Клайд..?)
И ветер дул, морщины неба раздвигая…
Вот мистер Хайд, зловеще приседая
И зверем волком ногу волоча
Покинул дом приличного врача
Спешит сквозь дождь терзать красивую брюнетку
Которую поймал он в золотую клетку
Лишив работы в результате крупного скандала…
Терзает… бьёт… Она кричит… Ему всё мало
Вращая бешено зрачками по белкам
Аккомпанирует ненастным небесам
Расшлёпанным рисунком рта охального
И непричёсанными волосами…
Он рвёт на ней скорлупку платья бального!
Брюнетка щеголяет телесами…
И складок как английский торт Джакиль
В пробирках он выращивает гниль
Влюблён в дебелую профессорскую дочку
О нравы буржуазные среды!
Гуляет с нею в парках у воды
Но все ж содрать стесняется сорочку!
День X
Сегодня лидер оппозиции
звонил правительству с утра
что революция в столице, и,
«власть отдавать уже пора»
В ответ «путана», в трубку харкнули
и связь прервалась. Лидер встал.
Сказал: «Ну что же, будет жарко им
Дворец остался и вокзал»
Четыре танка стали серые
у президентского дворца
Спокоен президент «Я верую…»
Но пляшут губы у лица
По радио Бетховен, Моцартом
перемежаемый порой,
Отрыгивает пламя косо ртом
повстанцев пушка за горой
Хоть семь утра, но жар сгущается.
Уже готовы те и те.
И ночь поспешная кончается,
и день страшит их до костей
Майор Ривера гладко выбритый
засовывает в горло кольт,
и бренди прошлой ночью выпитый
печёт желудок тыщей вольт
С посольской крыши с жопой бабочки
слетел последний вертолёт.
Посол Вудстокер нервно сняв очки
из фляги виски жадно пьёт
Советник жжёт дела секретные
а звёздно-полосатый гад
сползает нехотя, конфетный, и
вдруг падает, накрывши сад
Антонио (племянник Санчеса)
пятнадцать лет сегодня бьёт,
но ровно через два часа
в мальчишку пуля попадёт
на ляжке револьвер с брелоками,
«Калашников» в другой руке,
он упадёт и брызнув соками
замрёт на каменном куске…
Капрал Родриго жадно держится
за Мэри-Анны белый круп
и семя медлит, медлит, нежится
стекает девке между губ…
Сейчас он вскочит. Вдруг оденется
покинет девку и постель
(капрала пуля ждёт) он ленится
а девка сонно моет щель
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Смеётся лидер оппозиции —
Горбатый человек в очках.
Уж журналистов (бледнолицые!)
подвёз автобус второпях…
Картина мира
Браунинг взвёл китаец
Нож достаёт малаец
Пятеро храбрых бразильских ребят
Банк грабануть хотят
Жизнь происходит круто
У капитана Кнута
Кнут капитан продал АК
И купил в Макао песка
Таиландский рыбак и малайский пират
Получили Калашников-автомат
Им пожимая жёлтые руки
Кнут обещает привезть базуки
Том руку Дику перетянул
И шприц ему в вену воткнул
В Нью-Йорке в кровати ребята лежат
Не выйдет из них солдат…

Стихотворения из разных книг (1977–2001)
Наташа
Это кто идёт домой,
Не подружка ль наша?
Косы в лентах за спиной —
Милая Наташа!..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ветер свежий, и сирень
Расцветает пышно,
В белом платье в белый день
Погулять ты вышла…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Это кто идёт домой,
Не подружка ль наша?
Величавою стопой —
Русская Наташа!
* * *
По пустынным бульварам ночных городов
Я шагал одиноким злодеем…
Но из женщин не пил я холодную кровь
Ни вампиром, ни гадом, ни змеем…
Я любил их другими… В горячем поту
Возлежащими круто над бездной,
Я любил их, восторженных, с членом во рту,
С этой красной трубой бесполезной…
* * *
Мою девушку из машины
За руки вытащат люди
Я посмотрю как мужчины
Её насиловать будут
Мужчины с крутыми затылками
С запахом папирос дешёвых
Кобелями забегают пылкими
Возле бёдер твоих лажовых…
* * *
А утром начальник, стесняясь, сказал,
Что «вышку» мне дали за это.
И что через час повезут меня в зал
И там расстреляют поэта.
Что если хочу сигарет и вина,
То мне принесут их без звука,
И что мне письмо переслала «она»,
Но я перебил его: «Сука!..»
* * *
На студёном ветру ледяном
Стынет жёлтая бритая щёлка китайской красавицы.
— Наползай, наползай на мой синий член,
слегка червивое мясо…
Как была ты прекрасна у трёх сосен,
Когда начинается ветер.
Я грущу. А ты уже умерла.
Груди-шары унесла.
Спокойно-спокойно через жёлтую землю. Наш катится ветер.
Нет тебя на моём хую. Пуст член. И только припадок пейзажа.
Да кусок глаза.
— так написал, глядя на китайский рисунок.
* * *
Для шёпота с оркестром
Я целую свою Русскую Революцию
В её потные мальчишечьи русые кудри
Выбивающиеся из-под матросской бескозырки
или солдатской папахи,
Я целую её исцарапанные русские белые руки,
Я плачу и говорю:
«Белая моя белая! Красная моя красная!
Весёлая моя и красивая — Прости меня!
Я принимал за тебя генеральскую фуражку грузина,
Всех этих военных и штатских,
Выросших на твоей могиле —
Всех этих толстых и мерзких могильных червей.
Тех — против кого я. И кто против меня и моих стихов!
Я плачу о тебе в Нью-Йорке. В городе атлантических сырых ветров. Где бескрайне цветёт зараза. Где люди-рабы прислуживают людям-господам, которые в то же время являются рабами.
А по ночам. Мне в моём грязном отеле. Одинокому, русскому, глупому. Всё снишься ты, снишься ты, снишься. Безвинно погибшая в юном возрасте — красивая, улыбающаяся, ещё живая. С алыми губами — белошеее нежное существо. Исцарапанные руки на ремне винтовки — говорящая на русском языке — Революция — любовь моя!»
* * *
Эдюшечка, Эдюшечка —
хороший человек.
Красивый мальчик, душечка,
люблю тебя навек!
Пою с тобой романсы,
Танцую с тобой танцы.
Ты храбрый и большой —
С израненной душой!
* * *
Холодно в доме и сыро
Лена ебаться ушла
Если б злосчастная дыра
Вдруг у неё заросла.
Итоги
1
У меня до сих пор красивая длинная шея
Последние пару лет я стал носить рубашки без воротника
К сожалению слишком поздно
мне об этом сказали
несколько женщин
из тех которыми я пренебрегаю
Елена никогда не сказала мне о моей шее
Ей всё равно
какая у меня шея
Елена не понимает
как это приятно
хотя ты и Лимонов —
услышать о длинной шее
пока ты ещё жив
(у многих мужчин нет шеи)
Елена не понимает что жизнь — мгновение
Увы — она не философ.
2
У Елены муж давно граф
и в Италии живёт Елена
В чужой зачем-то семье
как будто она подкидыш
Пишет там… спит… смеется
пьёт вино и целуется с графом
граф меньше ее по росту
Там есть «папа» и «мама»
Служанка есть и собака
Елене не нужно работать
И дарят ещё бриллианты…
Однако как русский мальчик
(живущий в теле тридцатисемилетнего парижского писателя)
я не могу понять
зачем от наших законов —
(кровь и любовь — измены —
весь кодекс в одну страницу)
ушла она к их законам
длинного римского права
нудного. На латыни.
Тома стоят в переплётах…
И граф её служит в банке…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Пойду я работать в церковь
В церкви хотя бы красиво…
3
Жить со мной — невозможно
У меня ужасный характер
Я женщину не понимаю
Я не даю ей свободы
Я грубый и злой и жадный
Её я хотел присвоить —
— так говорит Елена
Конечно права Елена
Она представляет реальность
Она стала очень практичной
Дана ей любовь и свобода
с её итальянским графом
А я ей давно не нужен
Парижские наши встречи
Нашей ошибкой были
Разбитого нам не склеить…
Растерянно и печально
Я думаю рано утром
(В Париже тепло и дождик)
Выходит я хуже худших…
Есть у алкоголиков бабы
Есть у калек на стульях
Крутящих свои колеса
Даже слепые утром
Проснувшись гладят по жопе
Свою любимую бабу
Есть у воров невесты
Любят убийц — я знаю
Меня же она не любит…
4
Почерк её — как птичьи
следы на дорожках парка…
Её я сам и испортил
За десять лет поклоненья
Меня она не уважает
привыкла к стихам и книгам
моей красоты не видит
живёт среди нищих духом
и мне читает морали…
Послушай «моя Елена»
без горьких моих историй
Была бы ты просто Галя
И Ольга… одна из Нелей
Из русских девочек. Лучше.
Красивей. Стройнее. Выше.
Однако сама ты знаешь —
Бриллиант это тоже камень
Бриллианту нужна оправа…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Я знаю — ты не согласна…)
5
Увы — мы уже не мальчик
время пришло одеваться
наверно темно и грустно
Молчать. Говорить немного
Сидеть в больших ресторанах
как с похорон бы явившись
(к тому же в любви неудачник)
Увы — мы уже не мальчик
одним наивным нахальством
уже не прикрыть от мира
того что прикрыть обязан.
Поэтому покупайте — мой милый
— тёмные вещи. Садитесь в углу. Тяните
напиток. Ну скажем — вермут…
Пора доиграть Бодлера
Пора быть безвольно-слабым
Довольно активных в мире
(К тому же в любви неудачник)
И траур вполне к лицу вам
Париж несчастливых любит.
* * *
О моя ветреная муза,
Где ты сейчас, в каких краях
Бежала нашего союза,
Была лишь ложь в твоих словах.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
И кто сейчас в ночной тиши
целует русую головку,
кумир мечтательной души
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
и никогда уж не взовьётся шпага,
не вступится за вас моя отвага
во имя дружбы и любви…
* * *
Anarchists and fascists
Got the city
Order is new
Anarchists and fascists
Young and pretty
Marching avenue
* * *
Однажды…
в войне на Балканах
в ледяном декабре…
Однажды за Дунаем-рекою,
за мостом «двадцать пятого мая»
там, где гаубицы и мешки с песком…
Неизвестным солдатом двадцатого века был и я никому не знаком…
На смерть майора
Майора убили потом в Чечне,
Он кепи своё дал мне.
Махнулся со мной на кепку мою
(Не раз побывала она в бою).
…У майора Касаткина отпуск был,
Через Москву он лежал.
Я майора Касаткина не забыл,
На подкладке он написал:
«Кто найдёт эту кепку — тотчас отдай
майору Касаткину».
Я надеюсь, майор, ты попал в рай,
И рай твой ведёт войну
С адом соседним за райский сад,
Примыкающий к ним двоим.
Я надеюсь, майор, что твой отряд
Наступает сквозь адский дым.
Что крутая у вас в раю война,
Такая, как ты любил,
Как Сухуми взятие, так и на —
ступленье подземных сил.
* * *
Старый фашист (Пьер Грипари)
на «днях литературы» в городе Коньяк,
посоветовавший мне прочесть Нерваля,
умер недавно…
Старый французский фашист и старый педераст.
Нерваля я не прочёл, но знаю,
что он повесился на фонаре в Париже
под первыми лучами зари
на улице Старого Фонаря. Как красиво!
Проклятый поэт должен быть фашистом.
Другого выхода нет.
Все мы одержали победу (то есть
потерпели поражение) в 1995-м и рядом
Краинские сербы потеряли их землю,
Я потерял Наташу.
Не удалась попытка Денара
отбить Коморские острова.
И умер Миттеран фараон…
(Умер даже Бродский — мой антипод-соперник.
Некому посмотреть на меня,
один я остался)
Проклятый поэт должен быть фашистом.
Не удалась попытка…
Христос проиграл…
И Че Гевара с Мисимой, и Пазолини,
мы все проиграли, т.е. выиграли все…
Мы в тысячный раз выходим с тобой
из жёлтой больницы, Наташа,
у Нотрэ Дам (О, госпиталь Бога!), и апрель
наступает опять и опять…
Я был фашистом, когда я шёл с тобою
по каменным плитам
госпиталя Бога…
Я был им…
Я им остался.
Ты превратилась в бродяжку, панкетку, рок-группи,
пожирательницу грибов, в
женщину-газированный автомат.
А я не могу больше быть и…
только фашистом
примет меня земля.
* * *
Смерть и Любовь над миром царят,
Только Любовь и Смерть.
И потому Блядь и Солдат
Нам подпирают твердь
неба. Горячие их тела
(он — мускулистый, она — бела,
так никого и не родила,
но каждому мясо своё дала),
переплелись и пульсируют вместе.
Ей — безнадёжной неверной невесте —
В тело безумное сперму льёт,
Зная, что смерть там она найдёт.
У Бляди мокрый язык шершав.
В щели её огонь,
Солдат, отрубатель и рук, и глав,
Он семя в неё как конь…
Она ему гладит затылок,
И он извивается пылок…
* * *
Когда себя введу
в твой молодой канал
И на стене в аду
(а ад кромешно ал)
тебя собой распял
скользил и воспарял
И горечь на губах
и твой ночной живот
и думаешь впотьмах:
«ну и случилось, вот».

Ноль часов (2002–2006)
В тюрьме Лефортово
Тюремный день, турусами шурша
Уже начался и едет не спеша
Газету принесли… Стучат ключом
Лекарства, что прописаны врачом
Сложив в бумажку, нам суют в кормушку
Вторую чаем вспененную кружку
Я допиваю. День пошёл баржою
Если тюрьму можно назвать рекою
Отель Лефортово, военные погоны
И стоны, стоны, стоны, стоны
Души, здесь похороненной живьем
«Как Вы, мсье?» — мне «человек с ружьем»
Вопрос лукавый задаёт, он лыс
Сей младший лейтенант и вправду лис
Он тонкий лис, перловкой и морковкой
Его рубаха пахнет, он с золовкой
До «Бауманской» ехал поутру…
«Я — все нормально, скоро не помру
Назло Вам проживу ещё лет триста!»
— Звучит ответ философа-«фашиста»
Философ гриву отпустил как мог
В кормушку он смеётся и плюётся
Он отжимается, он не сдается
«Он супермен»,— сказал бы педагог
Он высший сорт, он — экстра, мегастар
А младший лейтенант — он русский самовар…
* * *
Насте
Страшно проснулся: пустая тюрьма
Утром проснулся рано
А под ногами с крутого холма
…Бактрия и Согдиана
Жёлтые обе. Милые две
Родины у султана
Бактрия — словно бы грива на льве
Дождь золотой — Согдиана
Я не доставлю вам… я не умру
Как лепестки у фонтана
Нежно стучат о земную кору
…Бактрия …Согдиана
Ты пишешь письмо мне
А адрес прост: каракули крупного плана
Азия — где небеса купорос
Бактрия. Согдиана.
Будет полёт золотых орлов
Хоть соль будут лить на рану
Пока не увижу с высоких холмов
Бактрию и Согдиану…
* * *
Принцем Тамино, с винтовкой и ранцем
Немец австрийский Гитлер с румянцем
По полю французскому славно шагал
Но под атаку газов попал
«Кози фан тутте». «Ди Зауберфлёте»
Австрийского немца моцартовы ноты
Ездил в Париж. Жил полжизни в каретах
Музыку сфер записал он в дуэтах
Курфюрсты. Эрцгерцоги. Клары. Кораллы.
Наци вина нацедили в бокалы
Гомо-фашисты, Эрнст-Ремы и гомо
Имя Моца́рта фашистам знакомо
Будь я эсэсовцем юным и смелым
Слушал бы я Фьердилидж с Дорабеллой
Два офицера: Гульельмо, Феррандо
Их Муссолини прислал контрабандо
Двух итальянцев,— штабистов смешливых
В наши кафе кобылиц боязливых
Как я люблю тебя Моцарт-товарищ,
Гитлер-товарищ — не переваришь,
Гитлер амиго принцем Тамино
Нежно рисует до́мы в руино…
Саратовский централ
Тюрьма шумит от двери до двора
С утра вползает влажная жара
И выползает мокрый влажный зверь
Чтобы в окно протиснуться теперь
Тюрьма гудит, кричит и говорит
Тюрьма ключами ковано стучит
На суд-допрос, на Бледный Страшный суд
Нас пацанов испуганных влекут
Тюрьма живёт вся мокрая внутри
В тюрьме не гаснут фонари, смотри!
В тюрьме ни девок нет, ни тишины
Зато какие здесь большие сны!
Тюрьма как мамка, матка горяча
Тюрьма родит, натужная, кряхча
И изрыгает мокрый, мёртвый плод
Тюрьма над нами сладостно поёт
«Ву-у-у-у! Сву-у-у-у! У-ааа!
Ты мой пацан, ты мой, а я мертва
На суд-допрос, на Бледный Страшный суд
Тебя пацан, вставай пацан, зову-уут!»
Смерть Александера
Цветут болота Вавилона
Вода из Тигра и Евфрата
Весной микробами богата
Царь пьёт за прах Гефестиона
Царь сник. Царь-алкоголик болен
Ему мудрец Калан когда-то
Предрёк что нет, не смерть солдата
Найдёт. Но смертью вавилонен
Он будет в городе разврата
Тень синяя от стен суровых
Ширь медная пустынь вдоль ложа
На сказку свежую похожа
У изголовья, вин багровых
Стоят сосуды с бурдюками
Закаменевши желваками
Александер отходит к мёртвым.
Его красивым и простёртым
Мечи сжимая кулаками
Толпа угрюмых и упёртых
Ждёт полководцев. Сквозняками
Дворец весенний ощетинен
Держава. Азия. Держава
Угрюмо остаётся справа
Ведь смертью переполовинен
Дворец двоится обессинен
Смерть входит слева
Смерть спокойна
И Азия большая знойна
И Вавилон обескартинен
Смерть — юная большая дева
Чей взор стеклянен и невинен.
* * *
Насте
Пойти бы погулять с блондинкой
С изящной тонкой половинкой
Пойти бы с ты бы погулять
Блондинку б нежную обнять
И сиську ей рукою мять
Блондинки это же не люди
С тобою с ангелом иду
И озираются все люди
В две тыщи, а каком году?
Ты как цветок на нежном поле
Как платье льнёт к тебе. Доколе
Сидеть в тюрьме, пыхтеть, вонять?
Блондинку б скользкую обнять!
Элен
Песнь механического соловья на рю Пайенн
Масонский дом, где пирамида с треугольником
И встреченная девушкой Элен… Элен… Элен…
Тележка, что влачит угольев ком
Влачит, свистит, визжит, старушкою ведомая
По рю Пайенн идёт близкознакомая
Ко мне идет и «пэ» несет, чтоб спариться
Так что же ей с старушкою базариться?
Заткнувши пальчиками ушки и зажмурясь
Она бежит по рю Пайенн прищурясь
И блики и удары солнца в уголь
«Бзынь! Взынь!» — блик отлетает в угол
И тьму разит. А та несёт мочой
Таков был быт несложный, городской
В год восемьдесят первый там в Paris
Элен… Элен… Элен… ты мокрая внутри
Была.
* * *
К своей невесте Пелажи
Маркиз де Сад спешит
И гравий под ногой визжит
На «ша» и «жэ» и «вжи»
Глубокий вырез. Сонный лиф
Холодных сисек гроздь
Над ней маркиз де Сад, как гриф
У ней как в горле кость
Он пилит, рвёт, кусает плоть
Толчёт её как соль
Она визжит: «Господь! Господь!
Меня он режет вдоль!»
(Затем он ей, на то и люб
Блондин, садист, маркиз
Что с нею — нежной, страшно груб
Её швыряет вниз)
Её слуге он отдаёт
Слуга хватает плеть
И истязает ей живот
И топчет как медведь
Она спала бы без него
Сосала бы конфет…
(И обожает оттого
Что без маркиза своего
Её на свете нет)
«Амёба хрупкая моя!
Моя ночная жбан!»
«В неё внедряйся как копьё
Топчи её, мой Жан!»
Воняет плоть, смердит дерьмом
О белозадый зверь!
О Пелажи, ты жадный дом
Холодных сисек этажи
Вчера, всегда, теперь…
Лимонов жил, Лимонов жив
Лимонов будет жить
К своей невесте Пелажи
Маркиз де Сад спешить…
* * *
И вязкий Ленин падает туманом
На ручки всех кают над океаном,
И ржавый Маркс — заводоуправления
Прогрыз железо: рёбра и крепления
И чёрный Ницше — из провала — крабом
И сонный Будда, вздутый баобабом
И острый я, как шип цветов колючих
На Украине призраков летучих,
На Украине снов, где Гоголь с вязами
Где буки и дубы и рощи базами…
Такие мы. А вы — какие?
Мы — неземные. Вы — земные.
4 февраля 2003 года
Где-то Наташечка
Под тёплым мелким дождичком
Идёт сейчас босая
А выше над облаком
Господь играет ножичком
Блики на лицо её бросая
«Бу-бу-бу-бу-бу-бу! Ба-ба-ба-ба-ба-ба!»
— так поёт Наташечка нагая
Выпятила девочка нижнюю губу
Мёртвенькими ручками болтая
И ножками тоже помогая…
Поспешает в направленьи Рая
Мокрая Наташечка нагая.
* * *
Насте
Когда-нибудь, надеюсь, в ближайшем же году
Я к маленькому панку с улыбкой подойду
— Долго мы не виделись, товарищ панк,
Пойдёмте, погуляем (не против?) в зоопарк.
Там умные пингвины и лица обезьян
Там ходит волк красивый, как красный партизан
Что-то вы не веселы, товарищ панк,
Для маленькой прогулки не взять ли нам ли танк?
И эта чудо-девочка, с прекрасной из гримас
Мне скажет: «Волк тюремный! О, как люблю я вас!
Я просто молчалива. Я вовсе не грустна.
Всё классно и красиво!» — так скажет мне она.
Где плещутся в бассейнах тюлень, гиппопотам
На танке мы подъедем к мороженным рядам
Мы купим сорок пачек ванили с эскимо
От зависти заплачут те, кто пройдёт мимо́.
* * *
Пахнет еда экзотических стран
Мимо фонтана ползёт караван
Нашу решётку пронзил воробей
Время с пространством на время убей!
Остра еда экзотических стран
У тротуара шашлык и нарзан
Луком горелым и водкой несёт
Кто же, стремительный, время убьёт?
Время с пространством убила тюрьма
А за забором — жилые дома
Старый Саратов — как старый сарай
В этих домах — Магдалины и Рай!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
У Магдалины сочные створки
И только спадают одежды как корки…
* * *
Вечером у сквера
Там, где дом родной
Девочка Холера
С мальчиком Чумой
Бродят молодые
В поисках беды
И глаза их злые
Черепа тугие
Их глаза как льды
Девочка Холера
С мальчиком Чумой
В тихом Подмосковье
Только ветра вой
Резанёт вдруг криком
Но рот ему зажат
Только кровь гвоздикой
В кулаках ребят…
* * *
Тайны мистических малолеток
Отсосанных в пещеры сладких конфеток
Сталактитов. И мягкого плюша снов
Исследования липко-пальцевых докторов
Щупанья, растягиванья и созерцанья
От которых выступают капли страданья
Как щупальцы из красных кустов…
После тюрьмы
* * *
Я помню стихи о России
Учимые в южном краю
А грязи детьми мы месили
Среди милицейских насилий,
Стихи про Россию мою
Родная, чужая, большая
Крестьянкою с длинной косой
Ты мне представала слепая,
Глухая ещё и немая
А мальчик я был небольшой…
Какой это ужас — Россия!
Я помню твой мертвенный зрак
Среди милицейских насилий
Свистел эмвэдэшный кулак
Была ты красивая так!
Россия кряхтит от усилий
Себе раздирая живот
Каких же мы гадов родили!
Террариум целый рептилий
С тобою Россия, и вот,—
Тебя ли я вижу, сухую
Крестьянкою с длинной косой
Ты косишь всю воду живую
Всю живность, всю плотность святую
Ты — смерть! Смерть — Россия, постой!
Бухара 1919 и далее в будущее
Горячий город Бухара
Дрожит под криками «Ура!»
На кладбище идут бои
И мусульмане все свои
Бухарский полк в афганский полк
[И только ружья: «Щёлк! щёлк! щёлк!»]
Стреляют без обмана
Кто не убит, там рана
В плече, в спине, иль в голове
И дервиши ползут в траве
Зубами ятагана
Сжимаю голубую сталь
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Нам прошлого отрадна даль
Но в будущее рьяно
Антенны выпятим свои
А там везде идут бои
На землях Туркестана
И чёрно-красное, смотри!
Страстно́е наше знамя
Вдоль купола ползёт на шпиль
(Какой имперский, мощный стиль!)
И вот взвилось! Как пламя!
Мы будем страшные как смерть,
Прекрасны, смелы, юны
Мы будем рады умереть
[В народе нас им не стереть!]
И сверху ангелами петь
Народные трибуны!
Наташе I
Мы мало зрели парижских прикрас, Наташа!
Мы мало гуляли в вечерний час, Наташа!
У музея Пикассо тебя я застал, ты шла и пела!
Я мимо прошёл, я тебя обожал, и душу и тело!
Вечер спустился и был тогда, ты шла в берете!
О если б вернуть мне тебя сюда, и чувства эти.
«Амора миа!» — пела Грейс Джонс, пантера, пантера…
Так была ты безумна, и красных волос куст, этцетера!
«Лав ю форевер!» — кричала ты и ноги сбивала
Ты умерла, ушла в цветы, и было мало…
Мало мы съели устриц. И роз мы нюхали мало
Тринадцать лет и всего-то слез, лишь миновало
Ай лав форевер твое лицо, и красный волос
О если б знал я в конце концов, что значит твой страшный голос
А значил он вот что: смерть в феврале, под одеялом
Мы мало жили и ног в тепле, мне было мало…
Наташе II
Мы любили друг друга при Миттеране
А когда к власти пришел Ширак
Мы разошлись как в Вавилонском плену израильтяне
Вот так моя мёртвая, вот так…
Так летели самолёты на твой день рожденья
О четырнадцатое число! О июль!
Там остались всегда возбужденье, волненье
Там всегда над окном надувается тюль…
Там на рю дэ Тюренн
Больше нет этих стен
Там где жизнь в розовом цвете цвела
Лишь чердак… Это так
И парижских небес зеркала…
Больше нет этих луж
И тебе я не муж
И ты мёртвая, как крокодил
Я тебя три династии в прошлом любил
[Да, Жискар-фараон, Миттеран-фараон
И Ширак-фараон, дальше — некто, кто он?..]
Я тебя три династии страстно волок
Так как волк тащит детку-волчонка
Нет я больше не смог
Столь высок был порог
Вот и сдохла ты, эх ты девчонка…
* * *
Меня интересовали Ленин и Пугачёв
И тот и другой выступали против одних врагов
С точностью раз в столетье народ подымает ор
Праздник себе устроив, хватает мужик топор
Идут на гробы берёзы, лихо горят города
Русский мужик сквозь слёзы шепчет не имя розы,
Но «Родина» и «пизда»…
Эти две девки злые, красивые как змея
Нам подстрекают Россию, сын каковой и я…
Над головами реют, и ещё сотню лет
Нас угнетённых греют, после картины бед
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Двадцать первого века на карте ищу очаг
И этот век не калека, будет вам красный стяг!
Перемещенье будет новых, страшных племён
Разину, Пугачёву, Ленину бьём поклон
Это наши пророки, поскольку мы чёрный народ
Раз в столетье жестоки, вороны на Востоке
Поскольку мы вороны, вот…
Пугач — воронёнок в тулупе. И Разин — мужик в чалме
И Ленин, взбив крови в ступе, считает себе в уме
Будет в районе Алтая, Каспия новый бунт
Вижу — буржуй покупая, ищет крупы и унт
Спичек и крупной соли. Плохи буржуй дела
Это мы намололи, дров наломали и боли
Вечная нам хвала!
* * *
Мальчик в очках с сигаретой
Тоненький как ремешок
Я это? Я это? Это
Книжки старинной кусок
Нравится сочная книжка?
Нравится наглый мальчишка.
Нравится фотка, очки?
Вот как пылают зрачки!
Мальчик, куда Вы пропали?
Где задержал Вас конвой?
Вижу — на пьедестале
Даром — что злой и в опале
Мудрый старик… Боже мой!
* * *
Собака толстая храпит
Негромко в коридоре
А рядом девочка лежит
В горячих ляжках огнь горит
(Но попа на запоре…)
Так начался мой вольный год
О Боже мой, как мне везёт!
Проснулся, встал, а в окнах
Вся белоснежная, сама
Её Величество зима
Лежит, чтоб только охнуть
И нет решёток, вышек нет
Нет офицеров мятых
А есть сквозь окна белый свет
И девочка немногих лет
Вся без морщин проклятых
И попу гладить мне легко
И сиську я достану…
Вхожу в неё как в молоко
Вцепившись в оба из сосков
И к десяти не встану!
Объявление что ли дать?
Вот я вышел к тебе из тюрьмы
Но как будто чужие мы…
Страсть, что раньше ключом текла
Видно в письке твоей заросла
Объявление что ли дать
Что ищу молодую блядь?
Ибо снятся мне писек ряды
А ещё молодые зады
Попки крупных размеров к талиям
Разлились как Европы к Италиям
Хоть и мэтр я, и дьявол тонкий
Но мне нравятся девки-ребёнки…
Пусть я есмь бородатый гуру
Но люблю молодую дуру
Вот и снятся мне сисек ряды
И еще малолеток зады
Объявление что ли дать
Что ищу молодую блядь?
* * *
Вот идёт противник, ребята!
Мы стоим напротив, ребята!
Тыща их, а у нас маловато
Но не увидят спину солдата
Вот идёт противник, ребята!
В тело его бьём с автомата
Он нам отвечает как может
Наш огонь их крошит и ложит.
Наш огонь их к лесу вот гонит
И в реке их трупами тонет
Мы их не спеша догоняем
И из пулемёта кромсаем
. . . . . . . . . . . . . .
Делаем в них срезы и дыры
Нечего идти к нам, мундиры!
Танки средь дорог побросали,
Как собаки прочь убежали!
. . . . . . . . . . . . . .
А война, она не зараза
Для войны не нужно приказа
Только лишь два зоркие глаза
Да патронов чтоб до отказа
. . . . . . . . . . . . . .
А война — священное дело
Чтобы наша пуля летела…
За рекой в далёкие дали
Чтоб они на пулю попали
. . . . . . . . . . . . . .
Если же из наших упал кто
Мы ему курган нагребаем
Мы его сжигаем, и пылко
Мы ему Валгаллы желаем
. . . . . . . . . . . . . .
Он у нас лежит над равниной
И ветра играют чупрыной
А дожди весь череп ласкают
Так его стихии кохают
. . . . . . . . . . . . . .
Вот идёт противник, ребята!
Мы стоим напротив, ребята!
Пусть сегодня нас маловато,
Не увидят спину русского солдата!
25 марта 2004 года
Умер отец мой сегодня днём
Можно заметить: «Мы все умрём!»
Но умер отец мой, тот самый кто
Водил меня в цирк, снимал на фото́
Сидел надо мною от кори глухим
Ушёл ты, отец мой, как сладкий дым!
Немногословный отец-офицер
Честный как штык, как СССР,
Умер от старости и от того
Что не увидел меня, своего…
Сына, отец мой Вениамин,
Прости меня, я у тебя был один
Господи, упокой душу раба твоего, Вениамина
Коммуниста, и отца грешного сына…
Принцесса
Королева в синем салопе
Открывает не то фонтан
Не то лужу. По всей Европе
К Вам припадок любви, Диан!
Рыжей дылдой, женой плешивца
Принца старого ты жила
Ты терпела его, нечестивца
Но арабу потом дала…
Вас убили вместе с арабом
Ваш шофёр был якобы пьян
И туннелем как баобабом
Вас ударило, о Диан!
* * *
Хорошо работать в модной газете
Быть молодым, иметь подружку
С пышной грудью и тощей попой
Поздно ложиться, вставать от воя
Длинных трелей звонков ответсека
И бормотать: «Уже еду… Я вышел…
Ну выхожу…»
Но вернуться к телу…
Брызги шампанского — стиль этой жизни…
Хорошо бы работать в модной газете
Быть молодым… Ну и эту, подружку…
* * *
Мне скучно. Мне ведомы тайны
Египта, Блаватской и Тани
Сокрытые между двух ног
Мне скушно. Скучающий Бог
Я злой по квартире скитаюсь
От жизни я не отрекаюсь
Я только её не касаюсь
Я зол, как последний бульдог
И выше пространства и меры
Как скучны мне все офицеры
Все офисы, весь их чертог
Вигвам государства горбатый
И сам Государь полосатый
Больной, неприличный, помятый
Пусть он перестал бы и лёг…
Трещать перестал ты пустое
Ведь нужно кольцо золотое
Одеть на единственный рог
Чтоб был Государь носорог…
Воспоминание
Ворона тяжкая слетела
И ветвь дрожала после долго
Ворона, ты чего хотела
Куда ты птица отлетела
Там что ли где-то речка Волга?
А я в колонии томился
С утра с усталыми бойцами
С утра я вскакивал, я злился
Под голубыми небесами…
Сад под луной
Сад под луной был пуст
Был под луною пуст
Казался изваяньем куст
Настолько сад был ночью пресен, жалок,
И без милых уст
Как без прожилок и кинжалок
Там женщина не шла
Кувшина не несла
Её не мчали там в автомобиле…
И потому о прелести забыли
И сад и куст
Без милых (нижних) уст
Мне дьявол под ребро
Толкнул я бы сказал, остро
А дьявол он, ребята, существует,
Он дьявол, узников целует
Он любит тех, кому не повезло
— Какая, Бог, тюрьма?
Какая, чёрт, свобода?
Мы лишены пейзажа и народа
У нас лишь посох и сума
Мы не сошли с ума…
Восстание! Вот выход! Вот исход!
Все так кричат, бегут, осуществляют
Толкают, бьют, свергают, убивают
Ей-Богу, все восстания желают
Восстания! Свержения! Свобод!
Сад под луной был пуст…
Лишь слышен был качелей хруст…
«В земли носорога Егузея…»
В земли носорога Егузея
Шли мы изумляясь и глазея
Изумрудный страшный Егузей
Нам в глаза глядел из-за ветвей
Твоя попа рядом колыхалась
Маленькая ручка мне вцеплялась
В взрослую суровую ладонь,
Вёл тебя я, как кобылку конь
В горы безобразные и дали
Ах чего же мы не повидали!!!
Звери и разбойники в детали
Часто перед нами возникали…
А когда заканчивался день
Я входил в тебя как толстый пень
Ноль часов
Со всеми пострадавшими и страшными
Убившими, ограбившими, падшими
Стоял я в длинной очереди к медсестре
А день лишь занимался на дворе
Светало. Было страшно. Жутко холодно
В тюрьме. Одновременно очень молодо
Всё как в Аду. Светло и тяжело
И прошлое застыло. Не прошло
Мы были не в лохмотьях. Но казалось
Они свисают с нас. Зияют. Алость
Пурпурная из глуби их светилась
И медсестра мне в волосы вцепилась
Ища там вшей. На шее. Близ ушей.
И не было там. Не было там вшей.
У медсестры сухи в перчатках руки
Её лицо изображает муки
Сухое эмвэдэшное лицо
И свет зияет в эти ноль часов,
В которые нас водят и шмонают
Под лестницею держат. Раздевают
Зажав в кольцо из хриплых голосов
О эти рано утром ноль часов!
Тюрьма живая как предгорья Рая
Тюрьма кишит. И вшами умирая
Мы бродим и заламываем руки
О эти наши утренние муки…
О ноль часов, о ноль часов! Тоска
Как будто жизнь — могила из песка
Наёмники
— Договорились. Воюем в Дарфуре
По возможности забыв о пуле-дуре
А если дела наши плохо обстоят
Мы с тобою бежим в соседний Чад
А в соседнем Чаде, в Раю, а не в Аде
Великолепные пальмы
Большой ресторан
Где мы будем пьяны и нахальны
Если не умрём от ран…
— Так что договорились. Воюем в Дарфуре
Не думая о белой нашей шкуре
За негров воюем, за долла́ры
И посещаем местные бары
Об империях
Там Юдифь к Олоферну идёт молода
Саломея, главу на блюде
Иоанна, танцует через года…
Были более храбрые люди тогда
Жили более храбрые люди…
Там на меч Митридат упадает собой
Там копьё Александр бросает
Таким образом Азию всю золотой
Под своё он крыло принимает
Клеопатра плывёт на корме через Нил
Брут и Кассий на Цезаря-Бога
Каждый страшный кинжал обнажил,
И кричат о Республике строго…
Но трагична республик дорога…
А империй судьба велика и страшна
Так, была на земле и сияла одна
Вся зелёная и островная страна
Над которой шумели, слетаясь, стрижи
— Ты ведь знаешь империи имя, скажи?
— Да, Британской её называли
Там дубы шевелюрой махали
Там короны тускнели, и молнии в трон
Королевский, впивались вязко
В блеске лат, а потом эполет и погон…
Где теперь старый лорд, лейборист, фанфарон
Носит орден с названьем «подвязка»
А непальские гурки, народ боевой
На индийцев в строю наступают…
— Неужели имперьи такие бывают?
С мерной поступью этой стальной?
— Да, бывают, бывают родной
И тебе предстоит основанье такой…
* * *
Я прочитал записку-интернетку.
«Похоже на французскую разведку»,
— подумал я. (Да и не я один!)
В ней о свиданьи просит господин
Голландец с псевдонимом «P. Rodin»
Голландец, но с французским псевдонимом
Чрез Интернет пробрался пилигримом
И на свидание в Москву готов
Приехать, чтобы спросить у Limonо́v
Какие у него отныне взгляды
Разведки всего мира будут рады
Узнать к тому ж и цвет моих носков…
«Жизнь моя»
Меня ещё не кормила ООН
Не давала рупии Индия
Но я прожил огромный цветастый сон
Называемый «жизнь моя»
Я ещё не шагал сквозь тугую грязь
Получать муку и галеты
Но, о жизнь моя! Ты такая вязь!
На тебе такие сюжеты!
Беженцем-мальчиком с членом-морковкой
Я не бежал за соседкой-плутовкой
За рыжие косы её не тягал
Я под другими тентами спал
Но лепёшки твои, моя Азия-дева
Я жевал сотрясаясь от страсти как древо
Но в горах меня брала сотня стрелков
Под предутренний вой волков
Но луна там всходила медной монетой
Древней и жирной пухлой котлетой
Вода шумела, зияла дыра…
Когда мне будет уйти пора
Туда где героев страна Валгалла
Мне моей Азии будет мало
Мне будет мало её минут
Так пусть же вечно стрелки ведут
Нас арестованных, снег глубокий…
В горном Алтае, что на Востоке…
Меня еще не кормила ООН
Не давала рупии Индия
Но я прожил огромный цветастый сон
Называемый «жизнь моя»
* * *
А на столе стоит
В бокале и в бутыли
Вино «Шато-Лафит»
В луче из светлой пыли
Когда мне подфартит,
То не в Мадрид, не в Чили
Спрошу «Шато-Лафит»
В запущенной бутыли
И кто это сидит
Со мной в развязном стиле?
Кто пьёт «Шато-Лафит»
О Боже мой, ну ты ли?!
90-е годы
Я пил ракию
Я имел Марию
Я счастлив был
А комендант мне браунинг дарил
Такими были годы девяностые
По ним бродили сербы многоростые
Великолепные года!
В Сараево стрелял и я тогда
Дружком Йована Тинтора я был
А Тинтор уже много натворил
Военным комендантом он служил
Но Президент поста его лишил
То время выражал я репортажами
Экстазами, эксцессами и ражами
О, девяностые года!
Марии этой красная п…звезда!
И сербских рек тяжёлая вода…
Осень патриарха
I
О маленькая blond!
Удачное созданье
Что прыгает в незнанье
Затмивши горизонт
С утра в моём окне
Играет, мяч кидает
И бешено во мне
Желанья разжигает
О маленькая blond!
С нежнейшим ушком голым
Ты избежала школы
Не учишь ты глаголы,
Ко мне ушла на фронт,
Перед моим окном
Стоишь и жмёшь чуингам
О юная мадам!
Тонка, изящна, ловка
Куда ты, как морковка
Как белка лижет хвост
Так чешешь ты украдкой
Вся потянувшись сладко
Невидимых корост
На бёдрах, шейке, ушке
И между ног. Подружке
Смеёшься ты в ушко́
Ты пахнешь молоком
И сладеньким чуингамом
Куда там нашим дамам!
Ты юная,— птенец,
Ты — головокруженье!
А вот и твой отец,
Он курит и в волненьи
Идёт с тобой домой…
— Да он любовник твой!
II
Девочка в платье из ситца
Спрятана в ситце волчица
Сладко живот выпирает
Глупый сосед страдает
Он из окна наблюдает
Словно бы яду лакает
А девочка не замечает…
Девочка в платье цветами
Вы моя милая сами
Знаете что Вы развратны
Пусть как ребенок приятны
Пухлы, чисты и опрятны…
С виду едва Вам пятнадцать
Надо бы мне Вас бояться
Но попа меня привлекает
Вон как её колыхает!
Мне представляются ножки
Входят, смыкаясь, в пух кошки…
. . . . . . . . . . . . . . .
О, хватит! Её уберите!
С ней под окном не ходите!
III
— Иди сюда! Мы посчитаем зубы
Волосики разделим на пробор
Мы будем нежны и поочерёдно грубы
Мы проломаем к центру коридор
Мы будем промокать тебя и гладить
Дразнить, щипать, как кошку теребить
Кричать, тащить, внезапно не поладить
Я буду рвать, втыкаться и месить…
Тебе всё будет сладко выносить…
Потом опять у тёмного окошка
Сидим, молчим, ты куришь, а я пью
— Иди сюда, моя смешная крошка
— Иди сюда! И я в неё сую…
Ночь перед coup détat
I am, I am, I am Борис
You are, you are, you are Лилит
И край луны завис, завис, завис
Переворот спешит, спешит, как coup dе́tat спешит
В беретах все сидят и в сапогах
А раньше все сидели при свечах
А руки крепко держат на стволах
И некая возвышенность в очах
Назавтра будет новый государь
А старого зароют кое-как
Поместят ли в мешке, в железный ларь?
Но мы-то лишь стволы в твоих руках,
О Господи, о милосердный наш!
Погибнуть-то хотя нормально дашь?
Обыкновенная паранойя
Милиционер приехал на обед
Следит ли он за мной, или же нет?
Майор отъехал, скушавши котлет
Приставлен он ко мне, или же нет?
В малиновой «девятке», толст и лыс
На первом этаже живёт с женой
Я государственный преступник твой —
Майор! Со мной живут хомяк и крыс…
А вот пришли. За деревом стоят.
Два мужика. По тридцать. Что, следят?
На окна смотрят. Что-то говорят
Меня судили. Знаю этот взгляд…
Четвёртый переулок
Здесь молодые незнакомки
Лениво бороздят потёмки
Четвертый тёмный переулок
Голубоват и гулок…
Здесь дамы с мордочками лис
От папы с мамой родилис…
А наверху железная дорога
На кой вагонов очень много
Сквозь Курск идут все поезда
На юг, на Сочи, всё туда
А здесь с улыбкой, незнакомки
Собой торгуют сквозь потёмки…
Вспоминаю семидесятые в Нью-Йорке
Сегодня ветер… снег… со снегом ветер
И время для воспоминаний что ли
Сегодня время думать о Нью-Йорке
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Уже не встретишь Уорхола в Нью-Йорке
Он с лунными не бродит волосами
И красным рюкзачком, безумный чех
Уже напротив здания United Nations
Не пробирается весёлый Трумэн
Капóти (cup of tea, не правда ль, верно?)
На брови нахлобучив свою шляпу
Во вторник толстый, а в четверг худющий…
Капоти Трумэн, writer, больше не в природе
Он из природы выбыл. Всё. Капут.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
И только снег и ветер по флагштокам
Сдувает флаги…
В Нью-Йорке. Плаза Хаммершельда Дага.
Здание United Nations как костюм двубортный.
Спиной к Ист-Ривер —
Словно сигарету,
Прикуривает гангстер, отвернулся
От ветра с океана
Стал спиной…
Даг Хаммершельд разбился в шейсят первом
Над северной Родезией, над Ндолой
В девяти милях. «Ди-Си-шесть» разбился…
Осталась плаза, площадь. Ветер… снег…
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Не пробирается весёлой Джули…
Ах, Джули, Джули, нас ветра раздули
И умер наш приятель Леонид…
Пустой East-Side, пустой как инвалид
Рукав которого лишь ветер теребит…
Семидесятые… как память их болит
Там в памяти и я один стоит…
В очках…
Фотография
Воспоминания. Париж
Париж и Эйфелева башня
И ты над городом стоишь
Смотреть на это фото страшно
Иная жизнь, разлив иной
Глубоководной, мутной Сены
Вот извивается двойной
Змеёй сквозь боли и измены
Там в сорок лет я молод был
В плаще на крыше Растиньяком
Хромой Гасто запечатлил
На зависть снобам и макакам
Какая сложная судьба!
Какие предзнаменованья!
Тряситесь, ветхие гроба
Я там стою для назиданья
На крыше старой Нотрэ-Дам
Я миллионы вам отдам,
О Боги, но перенесите,
В восьмидесятый, в Paris City!
* * *
Когда мёртвых и больше и лучше живых
Когда каждый второй ушёл
Появляется в жизни немой глагол
Соединяющий даты — штрих
В восьмидесятые так не мёр
Быстро и рано люд
Так не работал смерти топор
Так как работают тут
Нынче смертей молодых топоры
Новые, да быстрей
Звонко мелькают в тартарары
Среди квартир и дверей
Шапки долой, господа, говорю.
Кепки и «пидорки» с глав!
Кланяйтесь, суки, смерти-царю
Он этот дядя, прав!
* * *
Паук ждёт муху целый год
А муха — где она?
Та муха страстная живёт
Другому отдана
Вот так и я: ЭэЛ, Эдвард
Живу как тот паук
Подвесил сеть как умный гард
И жду рывок и звук
Её прелестные слова,
Её округлый зад,
Как трепыханья божества
(О, божества! Да, божества!)
Тебе я, муха, рад…
За плоть Европы
Опять страна ведёт войну
На юге (Где ж ещё и надо?!)
Опять небес голубизну
Пронзают тяжести снаряда
А горец храбр, а горец зол
И потому по тихим храмам
Внутри России тёплых сёл
Заупокойным фимиамом
Кадят священники-орлы
Служа за упокой Коляна
А горцы — дети Абдуллы
Скорбят своих в тени платана
. . . . . . . . . . . . . . .
Доколе будут минарет
И колокольня неспокойны?
Каким количеством побед
Мы остановим наши войны?
Пошли-ка лучше на Стамбул!
Ведь он добычею богатый
Россию завсегда тянул
Да и чечен пойдёт усатый
Собратом русского вперёд
Дабы отвоевать проливы
И будут каждый наш народ
В бою отважны и счастливы
А турок побежит туда
Где сладко-злобная Европа
Свои разбила города
У рек из масла и сиропа
Пора нам захватить и жать
Их девок сладостные попы
Пошли, чеченцы, воевать!
И русские, за плоть Европы..!
(И турок тоже надо взять…)
О драконах
Воспоминанье о драконах
Порой пронзает и учёных
И Дарвином на бриге в шторм
Учёный видит Scaly worm
Найди чешуйчатых червей
В укромной глубине планеты
И будут радостью согреты
Сердца учёных и детей
Исходит из пещеры рык
Потом и рог крутой показывается
И вся История развязывается
И что прогресс? Ему кердык
Зато ребёнку — красота!
Сбылась его всегда мечта
Чтобы крылатые чудовища
Хранили яркие сокровища
И бороздили небеса
И в пять утра и в два часа
О Боже, Боже, Боже, Боже!
Что за хвосты! Какие рожи!
Ребёнок плачет и смеётся
Однако счастлив и здоров
Что сверхъестественное бьётся
Летит, шумит поверх голов
Не заунывные марксисты
Не серые капиталисты
А вот летит фашист-дракон
И как прекрасен, страшный он!
* * *
Писька должна быть как кипяток
А не как сопливый и мокрый платок
В письке должно быть как в кипятке,
А не как в сопливом и мокром платке
Вот отчего мы расходимся, Настя,
В письке кипящей Лимонова счастье
Был я в тюрьме, твоя писька слепилась
Счастье Лимонова вот и закрылось
Кате
Гёрл жила такая умная и злая
А потом ей встретился пацан
Голова седая, паспорт из Китая
Стройный как подводник-капитан
Если хочешь — знаешь, если знаешь — можешь
Мир сооружаешь для себя
Гёрл ходила в театры и садилась в ложи
Вечерами жизнь свою губя
Ах гёрл! Из неё энергий так и пёрл
Поток. И был у неё острый локоток…
Храбрецы интернета
Храбрецы Интернета —
Великие Кормчие «мышки»
Вдохновенные трусы, с ленивой губой
Эти юные старцы, седые мальчишки
Выплывают они в океан голубой
Звонко лают в пространство —
Ведут меж собой перепалки
Всё узнали и знают и всех затмевают собой
О Великие люди! Колумбы на кресле-качалке!
Каждый нажил уже, иль ещё наживёт геморрой
Революцию любят они обсуждать, демагоги
У пикейных жилетов, у них планетарная спесь
коноплёвы и маляры равно глупы и убоги
Хотя дугины тоже средь них истеричные есть…
Что не вечер, безмолвные речи так страстны
Раскричатся бывало, давя и на «мышек» злобясь
Как один бесполезны, никому не опасны
Современная плесень. Мгновенная связь…
Храбрецы Интернета…
Колумбы на кресле-качалке
Хаусхоферы, Бисмарки спальных районов у МКАД
«Генштабисты» в кавычках ведут меж собой перепалки
Впали глупые дети и дяди в азарт…
Это я говорю вам, отец Эдуард…
Алтай
На наркотических вершинах
Не то, что в низменных долинах
Свирепствует красивый свет
И от судеб защиты нет
Вдоль наркотических слободок
Меж ёлок, как бы между лодок
Потоки горные стремят
Угрюмый мощный водопад
Там красный кедр растёт могучий
Там в иглах вязнут сапоги
В то время как дождит из тучи
Сноп ослепленья бьёт в мозги
И молнии перелетают
У всадника через плеча́
И звери молча убегают
Вдаль от винтовки палача
Таким Алтай для москвича
Предстал мне тем далёким летом
Перед арестом роковым
С метафизическим приветом
Алтай мне щурился сквозь дым
Вокруг грибы росли большие
И рыбы морщились в воде
Предатели, враги, святые
Сопровождали нас в беде
Я жил как божий одуванчик
Как заговорщик и стрелок
Я вёл себя тогда как мальчик
Алтай был хмурый старичок.
Сербская Лили Марлен
Вонючие женщины в центре Европы
Зловещие сумерки. Бледный Париж.
И снова захочется к сербам в окопы
Ты сумку хватаешь — и в небо летишь
Летишь в Будапешт аэрфрансовой птицей
А там тебя ждут дорогие друзья
Два мощные серба с вульгарной девицей
И больше не надо тебе ни хуя
Смотреть как девица ест «мешане мясо»
Как жадно глотает подруга вино
А то в ресторане рывки контрабаса
И три пистолета у них как в кино…
А то в ресторане запели цыгане
Балканские, жуткие, связкой сердец
А девка рукою своею в кармане
Сжимает твоём твой горячий конец
(— А ты молодец, мой «франсэ», молодец!)
В Белграде жара, рестораны полны
Как следует быть им во время войны
Солдаты и женщины смердят вином
Трусы раздирая идут напролом
И девки визжат… и приехав с войны
На девок залезли, рычат пацаны…
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Под утро сержант тебе в номер стучит
Одеться скорее тебе он велит
А ты не ложился, а ты уж одет
Девица тебе поправляет берет
Целует и слёзы роняет девица
Хотя она в общем безмужняя птица
Назавтра другого солдата найдёт
Взамен укатившего в дальний поход
Пока я иду меж гостиничных стен
Рыдает в конце коридора Марлен!
Суд в Саратове
Судья сидит в судейской тоге
Две адвокатши дремлют в шубах
Два прокурора — демагоги
На четырёх играют гу́бах
Шесть автоматчиков у двери
Четыре пристава у шкафа
Здесь нелегко Любви и Вере
С Надеждой выцарапать графа
Лимонова из-под закона
(Всё это шло во время о́́но
Всё это шло, всё это длилось
И обвинение вило́сь
И прокурорами крутилось
И адвокатами стряслось…)
«На вольных землях Казахстана
Чтоб государство основать
Хотел Лимонов Нурсултана
Из Казахстана выжимать…»
— Так обвиненье стал читать
И лжёт законник, словно тать:
«Хотел военные колонны
И драгметаллов миллионы
Сплотить в могучий вольный State
Но эфэсбэ сказало: wait!
Эй Вы, товарищ, что в горах Вы
Делаете́ на высоте?
Два взвода с бухты и барахты
Собрались в полной темноте
И на рассвете взяли с ходу
Избу, где восемь пацанов
И сообщили всенароду
Что госпреступник был готов
На вольных землях Казахстана
Вооружённые и злые
Формирования стальные
Создать, что в теле будет рана
В просторном теле Казахстана»
. . . . . . . . . . . . . . . .
Судья сидит в судейской робе
Хороший, рослый человек
Саратов, спрятавшись в сугробе
Глядит устало из-под век…
Здесь судят русское желанье
Здесь судят русскую мечту
Другим отважным в назиданье
А узник мечется в поту
В железной клетке как зверюга
В железной клетке как медведь
Эх ты, о родина-подруга!
Тебя бояться буду впредь!
Русская карманьола
Вы тыщу лет нас угнетали
Теперь пришёл веселья час
И все Коляны и Натальи
Идут с дрекольями на вас!
(Все с арматурами на вас!)
Мы не потерпим больше гнёта
Довольно правил нами бес
Россия сбросит все тенёта
И жить Кремля мы будем без!
Мы будем сами управляться
С богатой нашею землёй
Вам предлагаем убираться
Не то повесим вас весной
. . . . . . . . . . . . .
Она идёт! Она огромна!
То Революция сама
Не уберечься вам от тёмной,
Мешки протухшие дерьма!
Идёт! Идёт! Идёт ночами!
Идёт! Идёт! Всё ближе зверь!
Вам угрожает фонарями
Повесим мы вас всех теперь
Вы тыщу лет нас угнетали
На войны гнали и в тюрьму
Но вот Коляны и Натальи
На Кремль идут — на суть саму!
Суть угнетения в дыму!
Пусть Кремль пылает, башни руша
Горит как Дьяволова печь
Мы никого не станем слушать
Пусть Кремль спадает грузом с плеч!
Пора себя самих развлечь!
Пора себя самих развлечь!
Гатчинская школьница
В той школе, где музей открыток
Сидели дети и стоял
Ансамбль из мелких афродиток
И пел возвышенный вокал
Когда я вдруг туда попал…
Меня смутили эти дети
Их ручки, личики, носочки
Одежды их в тяжёлом свете
Семей рабочих эти дочки
Серьезной Гатчины цветочки
Мне про Алису и ириски
Ансамбль звенел сладкоголосо
А между тем все эти киски
Меня оценивали косо
Одна особенно без спроса
О разомлевшая от зноя
В своих девических трусах.
Вокал, страдая с перепоя
Ты выводила второпях
Потом бедром толкнув в дверях
Ко мне в гостиницу пришла ты
Сквозь снег, муссоны и пассаты
И я снимал с тебя чулки
О пьяной школьницы зрачки
Холодные как казематы
Неласковые как зверьки…
Холодной попы без оплаты
(Но за бутылку, от тоски!)
Отведал я, как конь крылатый…
Прозрачны Гатчины лески
А школьниц бёдра узковаты
Протолкновения легки
Сквозь все муссоны и пассаты
В вас, молодые уголки!
Римский папа умер
В дерьме и в муках умирает
Простой рабочий скорбный люд
И никого не возвышает
Готовящийся Страшный суд
Но если Римский Папа пресный
Сойдёт стопой своей туда
Тогда отменят день воскресный
И остановят поезда
И будут плакать и молиться
Притворно сладкие кюре
И многочисленные лица
Напомнят сверху нам пюре
Если фотограф неизвестный
С углом широким объектив
На Ватикан направит тесный
А сам он молод и красив
А сам он, словно демон с крыши
На происшедшее глядит
(Он мог забраться ещё выше
Ему редактор не велит)…
Козетта
Я старый каторжник Вотрен
Где моя бедная Козетта?
Дрожишь, стоишь полуодета
Ты у вокзальных грязных стен?
Тебя найду у трёх вокзалов
Печальной девочкой в трико
Тебе куплю я молоко
И шлем, что надевал Чкалов
Док-Мартинсы куплю лихие
И научу стихи писать
В стихах не ставить запятые
И в попу буду целовать
(А вдруг меня менты закроют
За малолетнюю особь
И прокуроры успокоют
В колонии близ речки Обь?)
Но я же каторжник Вотрен
И малолетняя подружка
Нужна мне словно зэку кружка
Я юных шлюх люблю — сирен
Русалок маленьких столицы
Вот крошка, я купил вино
Глотни портвейн сигаролицый
И будем жить мы, как в кино…
Вотрен твой человек известный
Седой и страшный человек
(— Ну арендуй канал свой тесный!
Ну не надолго, не на век…!)
И пусть меня менты закроют
За малолетнюю особь
А прокуроры успокоют
В колонии близ речки Обь.
* * *
Кате
Вы пронзительно красивы, о Екатерина!
Вам бы южные заливы
И прибой бы терпеливый
Дополняя картину…
Вам бы броши, кринолины
Рюши и так далее
Вам бы паж в кустах малины
Подавал сандалии
Но вы курите чрезмерно
Но вы пьёте, и худая
По дороге зла и скверны
Ходите младая
Отвернув от Рая
Называться бы Вам, Высочество!
А у Вас в глазах одиночество
И у Вас больна Ваша дочка…
Вы трагичны как мать-одиночка!
* * *
Кате
Хорошо ебаться
С милой девочко́й
Слипаться, разминаться
Писькой и башкой
Хорошо руками, попу обнимать,
Темными ночами девочку ебать
Смерти злые чары, нужно обмануть
Потому пожары, крики и удары, и ночная жуть
Между сладких ножек, там где шерсти клок
Есть такой порожек, вход в тебя дружок
Я войду стеная, я войду шепча, дочь моя святая
Блядь моя родная, радость палача
Русские
Они как алжирцы и турки
Кожаны их куртки
У них как алжирцев и турков
Во ртах корешки окурков
И женщины их не сопровождают
Они без женщин гуляют
Они как злые албанцы
Им не ведомы бальные танцы
Русские это адамы
Но живут, как будто вигвамы
Покинули спешно и чумы
Кулиевы словно Кайсумы
Абдурахманы, Тагоры
Иль авторитетные воры…
О русский турецкий дух!
Где гарем, лишь гарем для двух
Где женщина — посудомойка
Или нахалка, что стойко
Себя отстоять готова
Вот жизни её основа
Здесь женщина низшая каста
Но класс-то какой, но класс-то!
Бродят как королевы
Под внутренние напевы
Безумные Шахерезады
А руки, а сиськи, а за́ды!
А бледные лица волчиц
И гривы до самых ключиц…
* * *
Из жизни женщин ярких сцен
Достаточно картинок боли
Когда пороки искололи
Чело, и кожу у колен
Как роза чайная гола
Стоишь ты в позе непристойной
На стол ты сиськами легла
В пол уперла́сь ногою стройной
Зад тяжелейший подняла
И сзади фаллос принимаешь
И в то же время у стола
Ты грани острые ласкаешь
Из жизни женщин ярких сцен
Достаточно бывает смрада
Однако подымать с колен
Тебя, дрожащую не надо
Тебе любезен острый стиль
Ты хочешь, чтоб терзали груди!
Ты драма, ты же водевиль.
И вы её возьмите, люди!
* * *
Надела женщина трусы
Сидит актриса молодая
Зрачками бешено играя
Живот напрягся, как осы
Ополосаченное брюшко…
О Катя, страшная подружка
Моей военной полосы!
У нас с тобой выходит браво
И преступленье с наказаньем
Легко у нас выходит слава
Совместная, одним изданьем
Мой фаллос для тебя как Бог
Как Дьявол я, его владелец
(И если б даже меньше мог
И то бы выглядел умелец…)
У нас с тобой есть всё, и только
Нам лимитировано время
Моя чеченка, моя полька
Дана нам не судьба а долька
Судьбы, и смерть нам дышит в темя
Я в моём возрасте Пророка
И в качестве моём героя
Я буду жить с тобой до срока
До волчьего под утро воя
И ты останешься одна
И будешь видима светилам…
. . . . . . . . . . . . .
Одна на паперти, бледна
Там эта Катенька ходила…
Love I
Газету «Дэйли телеграф»
Не изучают лорд и граф
Её читает бой простой
Охранник банка молодой
А рядом чай ночной стоит
На блюдце чашка дребезжит
С простейшей ложечкою в такт
И банк ночной вокруг как факт
Молчит, зевает темнотой
«Мой револьвер всегда со мной»
Так думает охранник-бой
И на экран глядит пустой
Пустой он был, но в краткий миг
Отряд бандитский вдруг возник
Пренебрегая тишиной
Бежит к охраннику, и злой
Взорвался выстрел, но глушитель
Так сделал, что не слышал житель
Домов соседских ничего
Охранник мёртв, но что с того?
А «Дэйли телеграф» упала
Лежит она как одеяло
В крови омочен её край
Мораль: ночами не читай
. . . . . . . . . . . .
Бандиты весело болтают
Деньгами сумки наполняют
И наступая друг на друга
Бегут компактной группой туго
Ступая в «Дэйли телеграф»
На слово «peace», на слово «love»
Love II
Императора первым Зубов Платон
Ударил табакеркой в левый висок
А Вы сидите в клубе «Шестнадцать тонн»
И Вы сжимаете синий платок
Тяжёлая музыка страшных встреч
Гвардейцы были шампанским пьяны
Вам ничего не стоит с прохожим лечь
Императору шарф затянули в одиннадцатый день весны
Зубов Платон был могучий граф
А душил Скарятин — офицер Измайловского полка
Ты влюблена не в меня, а в «love»
Ты в «love» влюблена наверняка
Императрица и Волков-капитан
Такова была сцена номер два
А ты ведь тоже Волкова́
Возможно с тобой я попал в капкан
Волков — офицер Семеновского полка
А ты сидишь в клубе «Шестнадцать тонн»
Императрица не надев башмака и чулка
Бросилась в покои, где же он?
Затем императором стал Александр
Сукин сын, Павла сынок
А клубе над Вами потолок-палисандр
И Вы сжимаете синий платок…
Затем Николай, Александр, Александр-Три
И Николай Второй,
Ленин и Сталин и Путин — цари
Love не вышло в России злой…
Не хочу оставлять вдову
Я не хочу оставлять вдову
Я хочу безраздельно сам
В горную пасть от пули, траву
Лежать окровавленным, во рву
И чтоб гусеницы по волосам…
Вдова городская, водкой залив
Воспоминания обо мне
Предложит себя как свободный массив
Мужчине, при полной луне
Нет, не нужна вдова мне…
Со вдовы моей мужика рука
Чёрные не сдвинет трусы
Талию вдовы, как осы
Не охватят пальцы вахлака
До свиданья, вдова, пока…
Я не могу оставлять вдову
Чтоб таскали её по рукам
Лучше любовь свою прерву
Лучше уйду, страдая, к зэка
К партийцам и мужикам…
Есть выход,
Впрочем, простой как вода
Ты погибнешь вместе со мной
И тогда уже никогда-никогда
Ты не станешь моей вдовой…
Петербург
Меня привлекают твои наводнения
Гнилые мосты твои, о Петербург!
И в классе придворном нагорного пения
Меня обучал о тебе Демиург…
Михайловский замок. Могучее мясо
Затянут у Павла на шее шарф
С поганого неба, со злого Парнаса
Скрипучие всхлипы доносятся арф
Бродил в Петропавловке я. Озирался
Дождём как тишайший Кибальчич промок
(А после с Перовской я рядом качался
А раньше с царем Гриневицким я лёг…)
Меня привлекают твои безобразия
Текущий на Запад болотный дымок
Россия горит — беззаветная Азия
Худющий старик — благородный Восток
В чалме и халате глядит, улыбается
И тянется ввысь он сигарной рукой
«Тук!»… лёгкий удар, то окно закрывается
Что, Пётр Алексеич, во казус какой!
В Европу окно, где де Сад с анархистами
Старик-то захлопнул спокойно окно!
Мы будем отныне дружить с исламистами
А Питер взорвём, как в научном кино
Родителям заключённого нацбола
Оставьте парня! Дайте быть героем.
Не родственник, не сын он, а герой
Мы двери тюрем всё равно откроем
Свободы ветер дул бы над страной
Оставьте парня, плакальщики быта
Жрецы дивана, тапочек, стола
Нет, жизнь его не только не разбита
Она в тюрьме свирепо расцвела!
* * *
Я родился в пепельную среду
Арестован был в страстной четверг
Вертеру я брат, и Грибоеду
А отец мой страстный Гутенберг
Воля к власти
Воля к власти сильнее любви
Беатриче, к себе не зови
Я хочу и чумы и напасти
И мне видятся толпы в крови
Воля к власти!
Воля к власти — безудержный зов
Гул в ушах и тяжёлый и медный
И полёты имперских орлов
Величавый их взмах победный
Далеко над вулканами, в красном свету
Медных перьев и лап когтистых
Абрис яростный на лету
Вот он — власти портрет трилистый
Беатриче легка, холодна и свята
Но особенно не нужна мне
А нужна мне тяжёлая, страшная та
Та которая вся из камня
Власть нужна мне.
Пей, Сократ, и виси, Христос!
Обыватель стирает своё бельё
Уже двадцать шесть веков
Раскладывает на камнях, вешает тряпьё
Обыватель,— он таков…
Обыватель растит своих дочерей
Груди и попы, и пах
А я их у него заберу поскорей
И познаю их второпях…
Обыватель растит своего сынка
А я очарую его
И придет он издалека
Отведать ума моего
Остр мой ум. Ядовит. Ядовит.
Нравится он бунтарям
Сердце твоё, обыватель, болит
По сбитым с пути сыновьям
На самом деле Я — Вечный Путь
Указую своим перстом
Лучшее вкладываю им в грудь
Чтоб не остались скотом
Меня можно распять
И цикуту мне дать
Пей, Сократ! И виси, Христос!
Но нельзя перестать, нет нельзя перестать
Со смертью решать вопрос
Решать этот вечный вопрос
Крови, мозга и старых волос
Пей, Сократ! И виси, Христос!

Мальчик, беги! (2006–2008)
Стихи этой книги писались в 2006–2008 годах. Порядок их внутри книги соответствует хронологии постепенного написания их.
Помимо «антологических» стихотворений (таких, как, например: «Четвёртое сословие», «О бородатые мужчины из 19-го века», «Забастовка» и других), в книге явственно прослеживается и поэтический дневник — история моих личных отношений с актрисой Е.В.— моей женой. От счастливого Нового 2007 года (стихотворение «Дом») до несчастного 6 января 2008 года (стихотворение «В сторону матери»), когда произошёл разрыв, через две поездки Е.В. в территорию Гоа (ставшую мне ненавистной, как легко заметит читатель),— развивалась и разрешилась иррациональная трагедия нашей семьи. Я так и не понял, почему она случилась. Вероятнее всего Е.В. просто устала. И решила отдохнуть на обочине жизни с нашими детьми. Но я не устал. Лучшее доказательство — шальной темперамент этих стихов.
Впоследствии наши семейные отношения упорядочились, как говорят сейчас, «устаканились», у нас родился второй ребёнок — дочь, хотя мы и не воссоединились. Однако не появилось причин, чтобы не публиковать эти стихи, некоторые из них очень злы. Пусть останутся «куском искусства», памятником иррациональной трагедии.
Э. Л.
Я
Из глуби амальгам несозданных церквей
Седой Ересиарх идёт царём зверей.
Стопой железных руд,
На фоне белых зал,
С глазами изумруд
Безумный прошагал.
Народы тьмы
Стоит туркмен, и жмёт мне руку
— Я радуюсь тебе, туркмен!
Стоит монгол, и жмёт мне руку
— Но я дойду до ваших стен,
И Ашхабада, и Урги
Мне грозный Боже, помоги,
Не зря же нёс я эту муку!
И был подвергнут. Подвергаюсь.
Я был колеблем… не шатаюсь!
Но твёрд мой взгляд, и трещин в камне
Непрочность духа не нужна мне.
Я канделябр в руках у тьмы!
Объединю в лучах свободы
Собою многие народы
Зарою ветхие гробы…
— Туркмен, с лицом из терракоты.
Благословляю Ашхабад!
И строится спокойно в роты
Восточных всадников отряд
То мы…
Народы тьмы…
* * *
О, девка ушлая!
Вы мне моргали
Во всероссийском выставочном зале!
О, девка стройная,
Как жопой Вы виляли
Во всероссийском выставочном зале!
Леди X
Билеты государственного банка
Порхали словно мотыльки,
Переходя вдруг из моей руки
Во глубь твоей руки,
Зиявшей словно ранка…
Такая участь у билетов банка —
Являться в час расслабленной тоски
И оживлять (как воды у реки!)
Пейзажи жизни вдруг. Ты как вакханка,
Зависишь от числа билетов банка.
Ты кружишься, кричишь, рычишь,
Но только не молчишь
Хрустя в руке билетами из банка…
Депутаты
Паркет Государственной Думы
Ужасны, странны и угрюмы,
Толсты, тяжелы и брюхаты,
Топтали вчера депутаты.
Грозили, роптали, кричали,
И гражданам всё запрещали:
«Нельзя! Недозволенно! Хватит!»
«Как мало налогов он платит!»
«Ату, гражданин пресловутый!
Пришли тебе, сволочь, капуты!»
Ловили в силки, западнями,
И просто ловили руками,
Дабы обобрать гражданина
Заведомо сукина сына!
Паркетины выли, пищали
Ковры их не заглушали
И была им невыносима
Насильная, как Хиросима,
Толпа депутатов тяжёлых
Ужасных мужчин, и бесполых…
Как азиатская луна
С малышкой, тайской медсестрой,
Связался, разведясь с женой.
Казалось, так жену любил,
А вот оставил и забыл…
Что сердце у мужчин неверно
Противно, господа, и скверно!
А то, что с тайской медсестрой…
Она ему массаж тройной,
Массаж ступней, массаж спины…
И он привёз её с войны…
Британский этот бритый лорд
был офицер. Простой народ
Где медсестру найдёт с войны?
Красивы тайки и умны…
Про этих таек много баек…
Над мутной Темзой тучи чаек
Который год? Двадцатый год
А лорд всё с тайкою живёт…
Смеётся… Полысел… она
Подобно лотосу бледна,
Подобно лотосу юна,
У лорда девочка-жена,
Как азиатская луна…
* * *
Ты Анна умерла, а я живу,
Великолепный, молодой, здоровый
И с женщиною страстною и новой,
Ты Анна умерла, а я живу!
Наташа умерла, а я всё жив!
Седой, красивый, благородный
Такой прославленный, такой народный
Наташа умерла, а я всё жив!
О случай, ты, безумный, прихотлив!
Ты смерть, какие странные вы оба!
Меня спасли доселе вы от гроба
О смерть, и случай, каждый прихотлив…
Мне совершить вы что желать хотите?
Чтоб я довёл толпу и смёл режим?
Мой нрав вы почему не укротите,
Скажите, почему я ещё жив?
Чур, чур, меня! как царь Борис я стражду,
Как Пётр, я знаю всю мою судьбу…
Я утолю моей России жажду
И буду хохотать в моём гробу…
* * *
Бока шершавые планет:
металлы, кварцы и граниты
Истёрты, грубы и избиты
Как движетесь вы в толще лет!
У вас такой аллюр и бег,
Что стал, дрожит, не шелохнётся
Белёсый жидкий человек
Венцом творенья он зовётся…
Да, мне милее в толще лет
Бока шершавые планет…
Железо грубое и камни,
Куда уже теперь пора мне?
* * *
Для кого-то это — последний день,
Над ними в горах — огонь…
Кому-то встать и умыться лень,
А я как весёлый конь
Меж чресел твоих вбиваю ялду
В две тыщи шестом году.
Нежна как княжна твоя дыра,
Что впору кричать «ура!»
А те, кто в горах, дыша как волы,
Глядят со своей скалы,—
Видят как встал их последний день…
А с вертолётов стреляют в тень
Каждого жаркого боевика
Из АКМ и АКа.
Надо вокруг себя презирать
Потных солдат чужеземную рать
Достойно сжавши гранаты шар
Крикнуть «Аллах Акбар!»
* * *
«Ребёнок купается в кислой среде,
Как дельфины в морской воде…
Ребёнок, завёрнутый в матку лежит,
Как культя́, завернул её в бинт инвалид…
Или как жемчуг дремлет ребёнок
В устрице розовой, в море солёном…»
Я эти строки в ту ночь повторял,
Когда рядом с беременной Катей лежал.
Я думал о том, что в беременной даме
Ребёнок лежит, как зерно в тёплой яме…
Я мыслил Вселенную, зёрна планет
Оплодотворённые может быть мною?
О, я не знаю! Быть может и нет,
Но мне-то Вселенная маткой простою
В ту ночь представлялась. Пульсировал свет
Тёмных, больших и набухших планет…
— Что у тебя, объясни, с животом?
Кто там лежит? Тот кто будет потом?
Генка
Я помню Генку в «Лангустин»,
Уже наверное больного.
Не на бульваре Капуцин,
На Монтпарнасе в пол-восьмого.
(Идя пешком от «Клозери»
Вы «Лангустин» легко найдёте…)
То, что мне Генка говорил,
Всё пустяки в конечном счёте.
А главным был тогда Paris,
Шумел он липами и модой…
«Ну говори мне, говори,
Что Бродский?», но с такой погодой,
Ни Джозеф Бродский, ни иной
Соперник мой литературный
Не мог нам аппетит бравурный
Испортить. Возгласом «Смотри!»
Меня вдруг Генка прерывает,
И взор восторженный бросает…
Увы на юношу, повеса!
А юноша, как фея леса
Проходит сукой за стеклом…
Поскольку я не «гей», не «гом»,
То я бы был увидеть рад
Скорее юных дев отряд,
Идущих лёгкою стопой…
А Генка стонет «Боже мой!
Лимонов видел это чудо!?»
и рукава макает в блюдо…
«Скандал!» Смеётся. Генка милый!
Уже давно ты взят могилой,
И подвигов моих не зришь…
Еврей и гей ты обожал Париж,
Но жил в Нью-Йорке, в городе Содом.
Теперь ты спишь последним сном,
Как сноп был свален ВИЧ-инфекцией,
И не смущаешь дам эрекцией…
1977
Виски пью я, виски пью я…
У окна страдает Джули.
Ни цветка, ни поцелуя,
В те июни и июли,
Ей совсем не доставалось.
Мне не нравилась подруга.
Подло мне тогда мечталось:
«Отдохну, и в земли юга!
И прощай, прости подруга!»
Виски пил я, виски пил я,
Притворялся что я янки,
Шляпу крупную носил я
(Но тогда родились панки!
Появились на Ист-Сайде
Нижнем. Бедные и злые.
Не означенные в «гайде»
стали мне они родные…)
Виски пил я, виски пил я…
Между тем менялись годы,
И в Париж вдруг укатил я
Улетая, угодил я,
В Paris в поисках свободы…
* * *
Какое облако в окне!
Большое, белое, кудряво…
Мечтал я в детстве — будет слава,
Она пришла давно ко мне,
Гляжу на облако в окне,
А голубое небо — справа.
Я разглядел ещё тогда,
Ещё сидел на троне Сталин…
Вперёд грядущие года
Ну как бы и Москвы — Саха́лин…
Я разглядел у славы перья,
Прошёл я все земные дверья…
Меня склоняет гнусный враг,
Как будто я урод зловонный,
А я поэт, дурак бездонный…
Философ странный как овраг,
Что полон воров и бродяг…
Колониальный сон
От грустной мрачности судьбы
Спасут кофейные бобы.
Кофейные бобы простые,
Поджаренные, золотые,
Креолов нам напоминающие,
И лакированно-сияющие.
С поджаренностью половинок
Нам возникает ряд картинок…
Когда мы кофе в рот вливаем,—
Как по плантации гуляем…
Одевши шлем, сжимаем кнут!
Туземцы кофе нам несут,
Собравши в короба и юбки,
А мы целуем девок в губки.
Ведь мы пропащи, мы плантатор,—
Садист, пропойца, эксплуататор…
Вот он под сеткой комариной
Лежит с девицею невинной,
Она и он без панталон,—
Таков колониальный сон
И Африка вокруг родная,
Как боб кофейный золотая!
Фотография (Я и Настя)
Вышел из тюрьмы. Сидит на табурете.
Сзади девочка стоит.
Люди! Посмотрите на два тела эти…
Скоро их судьба и разлучит.
Механизмы драмы. Повороты Богом
То ли чёток, то ли бусин в кулаке,
Смотрит строго, слишком строго
Девочка. Рука на мужике…
Землетрясение и затмение
Я был в Душанбе. Вниз упали картины…
Поблекнул от ужаса старый карась.
(Он плавал доселе в бассейне средь тины,
Дородный и жирный, с подругой резвясь…)
Мы вышли из люков. Мы бросили танки,
Пока за толчком продолжался толчок.
Прекрасны таджички (они ведь иранки!)
На яркие брови лёг чёрный платок.
Сидят близ арыков и ждут. И молчок…
Где медные горы вздымаются круто,
Где старится быстро земная валюта,
Где стройной стоит и прекрасной мечеть,
Я буду сидеть и на солнце смотреть
И будет мне видимо солнце на треть…
Затмение ибо. Пугается рыба.
И млекопитающий фыркает зверь,
И трепет в норе и в берлоге теперь…
А вы испугаться трясенья могли бы,
Когда, изгибаясь, ломается дверь?..
Спасибо, сербский капитан!
Хоть я на фронте пил вино,
Сражался лихо всё равно.
Ах, фронт!
В прицел дождливый горизонт!
Я вижу ухо и погон…
А дальше — листьев тёмный фон…
Вот он,— храбрейший из когорт!
Прощай капрал, война не спорт!
Я, ясно пули не видал,
Но то что в лоб ему попал
Я понял, злой…
А капитан, как мой отец,
Смеялся, молвил, молодец!
Теперь ты свой…
Мой капитан меня учил:
«Чтоб ты бы «пи́сец», долго жил
Запомни мудрости войны:
Не больше выстрелов чем три
С одной позиции, смотри!
Стрелять нельзя, Вы не должны!..»
Спасибо, сербский капитан!
С тех пор на войнах многих стран
Я помнил твой завет…
И лишь поэтому живой,
Обзавелся большой семьёй
И пью вино чуть свет!..
. . . . . . . . . . .
* * *
Насекомых в этом году немного,
Не успевают плодиться гады,
Одряхлела и заросла как Аппиева дорога
Тропинка от изгороди до балюстрады…
Я словно живу в историческом доме,
Хотя обитаю в простой промзоне…
Причины перечисленного холодов кроме,
Ещё в чувстве растерянности, и в фоне…
Четвёртое сословие
Наёмные рабочие,—
Четвёртое сословие!
Кто скрыт за термин «прочие»,
Те, чьё многоголовие,
Пугало, вспомним, массово,
Хосе Ортегу Гассета,
И вдохновляло Ленина.
Наёмные рабочие до белого каления,
до чёрного мучения…
Встают, бедняги, с заревом,
И наполняют варевом,
Тяжелой человечины
Подземные уключины.
Метро все изувечены,
Толпой обузкоплечены,
Одеждой обесцвечены,
И жизнию научены…
В заводы, злые фабрики
Они бредут как карлики.
Под Вагнера как арии,
Под Маркса — пролетарии…
Под тонны потогонные…
Безумны как влюблённые,
В тяжёлую материю…
Нет, чтобы хлопнуть дверию!
Презревши все условия,
Четвёртое сословие!
* * *
Будущее прекрасно,
Радостное предстоит.
Вырастит ноги страстно
Этот без ног инвалид.
Рыбы засорят реку,
Выроет нору крот,
К праздному человеку
Жирный придёт доход.
* * *
О, волосатые мужчины,
Из девятнадцатого века!
Их бакенбарды как гардины,
Скрывают щеки человека.
О, Франц-Иосиф безобразный!
Вильгельм Прусский со звездой!
О, Карл Маркс лёвообразный,
Бакунин — человек лесной!
Дики их бороды и баки,
Усы их пышны иль остры,
Век девятнадцатый во фраке
Завоеваний и муштры!
Век канонерок и колоний,
Нет жизнерадостнее века!
Век оперетты и симфоний,
Там Ницше пел сверхчеловека!
Но анархисты и монархи,
Философы и короли,
Все волосы носили жарки…
Кто как хотел, и как могли.
* * *
Где Сена долларом стремится,
Где дождь пузыристо идёт,
В еврейском гетто как волчица
Наташа с Эдвардом живёт…
Там утром тлеет синагоги,
Окошка синий огонёк,
Там магазинчики убоги,
Там счастья был дыряв платок…
Селёдку там несут в газете,
Там в бочках мокнут огурцы,
Там лучше всех на этом свете
В Париж приехали юнцы…
«Ле монд» с «Либерасьён» мешая
Я помню ты читаешь вслух,
А я сижу, ногой болтая…
О, это был наш рай для двух!
В еврейском гетто по субботам
Евреям пейсы шевелил,
Вдруг ветер с Сены, а работам,
Им Бог предаться запретил…
Русский пейзаж
Девочка, глупая как цыплёнок,
с мальчиком глупым, как воробей,
Идут по полям, едва освещённым,
Под летней луною, меж тополей…
А впереди у них пруд зеркальный,
Сонная лодка, и два весла.
Мальчик — ручной, а девочка, бальной,
Мелкой походкою к пруду шла.
Долго они по пруду скользили,
Долго молчали, рука в воде.
Век был другой. Девятнадцатый, или
До революции, в общем, где,
Были помещики, были крестьяне,
Были перчатки до локтя аж…
Глеб прикасался к юной Татьяне…
И наблюдал их русский пейзаж…
* * *
Лепёшка-шан, лепёшка-шан,
Лепёшка древняя армян,
Лепёшка пресная в горах,
Поджаренная на камнях…
Вот Рерихи вам, Николаи
Пересекают Гималаи.
В платках и в бриджах, и худы,
Передвигаясь вдоль воды…
Лепёшка-шан, лепёшка-шань…
Их караван бредёт в Тянь-Шань.
Английских ружей на привале
Вы блеск стволов распознавали?
А вот раскрыт у них Коран…
Лепёшка-шан, лепёшка-шан…
Коран, красивый письменами…
Верблюды, двигая горбами,
Идут спокойны, как буддисты.
Мы все в душе имперьялисты,
Колонизаторы — злодеи,
Из Византии — Федосеи…
Лепёшку-шан когда разламываю,
То вместе с Рерихом прихрамываю…
Лепёшка-шан, лепёшка-шань,
Вот — Гималаи, вот — Тянь-Шань
И да поможет нам Аллах!
У нас винчестеры в чехлах…
* * *
Мы все в гробу своём свинцовом
Пытаемся его открыть…
Кто действует горячим словом,
Кто с пулемётом может быть.
А кто на гребне перевала,
Стоял с отрядом в сто стволов,
Тому чего недоставало
До ранга страшного богов?
Так вот, в гробу своём свинцовом,
Спит горожанин, словно джинн…
А Ленин был такой один,
Брат младший брата рокового.
Людей Великих редок строй.
Вот гроб тебе. Его открой!
И выйди, сделать всё что сможешь!
Не то себя ты уничтожишь…
Не спи, презренный гражданин!
Вначале было нет, не слово,
Но действие! Вставай, иди!
Осколки быта на груди,
Пусть Балаково, Бирюлёво
Пылают грозно позади…
Клуб
Где дух таинственной сигары
Где про́литый смердит коньяк
Мы офицеры, любим бары
Мы джентльмены, нам никак,
Нельзя без клуба. Он — костяк.
Собравшись в клубе вступим в сговор,
А дальше — план, а дальше — труп…
(Тут из двери выходит повар,
Несёт, злодей, японский суп.
В том супе плещутся креветки,
Морские мокнут гребешки…)
Есть среди нас и те, кто метки,
Лихие вольные стрелки,
Есть умники, со злым разрезом,
Спокойных, выстраданных губ,
И ухари, что не гнушась обрезом
Вдруг выскочат, бабах, и труп.
Таков, друзья, наш милый клуб…
Гляди, уже добрался повар!
Принёс, злодей, японский суп…
Не принимаем в клуб ни сoward,
Ни тот, кто жаден, либо скуп.
Здесь женщины forbidden круп…
Дом
Кричит младенец, снег идёт,
Пирог в печи растёт.
Повидлом пахнет и мукой,
Здесь дом заведомо не мой,
Но я в нём всё же свой…
Глава семьи я сед и прям,
Я прожил много зим…
Мой сын — Давид, жена — Марьям,
Давид — как херувим,
Давиду старшая сестра —
Ты юная Сара́!
Так можно довести до слёз!
А за окном — мороз…
Мы Новый Год и Старый Год
Руками разведём.
Под ёлкой будет хоровод,
Сыграем и споём,
Подарки подберём…
Глинтвейн, портвейн, весёлый шнапс,
Шампанское в соку.
Английский пенс, французский шанс
И Саре и сынку,—
Ребёнку по чулку!
В хлеву жуёт спокойный вол,
Идёт спокойный снег…
Я очень долго к Дому брёл,
И сотни пересёк я рек,
Но я семью обрёл…
* * *
Мне нравится рабочий запах «Волги»
Бензиново немного керосинный…
Себя воображаю я Иваном.
Начальником с утра немного пьяным.
И отчество как хвост ко мне предлинный,
Как хвост неимоверно очень долгий,
добавлено. И служит мне как титул.
Я может быть Хрущёв или Булганин,
Пока Хрущёв не стал быть испоганен.
Номенклатурный толстый я Капи́тул…
А может только председатель скромный?
Колхоз свой объезжает он огромный…
Мне нравится рабочий запах «Волги»
Затылок Стаса стрижен по-солдатски
И квас мы пьём из пузыря по-братски
Объезды наши длинны, трассы долги…
В полях кричу на дюжих трактористов
И с девками-доярками шучу…
Я пусть и не Хрущёв, качу куда хочу.
И «Волга» грузно фыркает… Холмисто…
Селение среди Валдай-холмов разбито.
И речка под фокстрот «О, Рио-Рита!»
Стремится вниз, расплёскивая воду…
Сниму картуз, и выйду на природу…
* * *
Мы — биороботы. И то, что мы восстали,
Построили орудия из стали,—
лишь доказательства, что коды ДНК
нам набирала умная рука.
Великих Утончённых головастиков,
Учителей-Создателей, схоластиков,
Печальных насекомых в белых тогах.
(Пожалуй можно говорить о бо́гах…)
Сошедшихся однажды, и простую
Конструкцию создавших нам мясную:
Вода, белки, плюс формула души.
«Бегите, вы готовы, малыши!»
Пред Гонолулами
Мрачный шар и мрачный океан,
Кратером пылающий вулкан,
Тонны пепла опадают в воды,
Воет шторм проклятой непогоды…
Участь у матросов? Хуже нет!
Вряд ли им увидеть белый свет.
Многим не дожить до маяков,
Не сомкнуть из пальцев — кулаков,
До утра ладонями грести —
бесполезно. Жизнь свою спасти
Эти все несчастные не в силах.
Пронесёт их мимо по́ртов милых…
Участь утопающего, ясно,
Будет непростительно ужасна:
Средь друзей, обкусанных акулами,
Быть ещё живым пред Гонолулами…
Вверх всплывёт кальмар. В поганый мир
Повлечёт беднягу как вампир!
Океан, любимый столь матросами
Смерть обводит бельмами раскосыми,
И захлопав крыльями, летит…
Хвать! И в клюве как червяк висит,
Тот, кто был недавно лейтенант,
И ходил по палубе, как франт,
В белой парусине, с галунами,
Как червяк свисает над волнами…
Расхватали чудища и гады
Весь состав морской большой бригады.
Съели, откусили, потопили,
Выпили, слизали, просверлили…
Плоть, и костный мозг, и кость.
Может быть однажды в Гонолулу
Выплывет из вод ужасный гость
Вросший в полосатую акулу…
* * *
На сцене высокой играют могучие люди.
Один занемог, угасает, врагами был схвачен,
Другой был повешен, скончался от старости третий:
Хусейн, Пиночет, где-то тихо замучался Кастро…
Герои уходят… А карликов низкие толпы,
Визжат и сопливят, трясутся, очки протирают без толку…
О, карлики, карлики! Нрав ваш давно мне известен.
Вы гнусные карлики. Мир ваш и жалок и пресен…
* * *
Президент Указ подписывает строго.
Двадцать тысяч янки ожидает долгая дорога.
Zoldaten сытые отправятся в Ирак,
И выиграют войну, которая не выигрывается никак.
Президент Указ строго подписывает.
Над ним зигзаги звёздный полосатый флаг выписывает.
А в это время в Санкт-Петербурге, в результате непогоды,
Набережную реки Карповки затопили воды.
А вдоль набережной реки Карповки
Построились питерские национал-большевики…
Дмитриев-начальник вдаль глядит,
Гребнев Сергей врагу грозит,
И Олег Юшков грозит…
«Националисту»
Человек — лишь хрупкая скорлупка,
духа, раздирающего плоть?
Также он, увы, и злая губка,
Что на раны поимел Господь.
Человек — исчадье двух начал.
Божеское он не замечал,
Предаваясь гневу и злорадству.
Я тебя, о червь, склоняю к братству,
Чтобы ты бы лютость умерял…
В осемнадцать лет я был как ты
— Сатана в обличье славянина!
Дьявола на мне прилипла мина.
Я был зол и бешен! Что, скоты!!!
Я был зол и бешен как лавина!
Страшная, в черкесския горах,
Только что не пена на губах…
Но по мере продвиженья дней
Я умею сделаться мудрей.
Будь не злобно мыслящий червяк,
Человек в обличье славянина,
Не посмей на брата-гражданина
Грубо ополчаться просто так.
Будь великий и могучий русский,
А не просто на полоске узкой,
Меж Кавказом и хохлов зажат…
Будь народам равноправный брат!
Девочки без тела
Во глубине у скифския державы
Мы кушали французские сыры.
Нам устрицы моргали из оправы
Овально, мокрой, ледяной горы.
Шампанское нам бледно зеленело,
Французское. И страшно хороши,
Нам девочки, живущие без тела
Обогревали наши шалаши.
О, девочки, живущие без тела!
Ты — Мата Хари, ты Мэрлин Монро!
Шампанское вам бледно зеленело
На шляпах колыхалось в такт перо!
Вы ездили в больших автомобилях
О вас мечтали Принц и Президент,
Теперь вас нет, но живы в скифских былях
О, вами раздираем континент!
О, девочки, живущие без тела,
Без рук, без глаз, без бюста и чулок.
Я верю в вас, фанат осиротелый
Поэт, промокший у больших дорог…
Последней удалилась к вам Наташа
Её я с телом всё ещё застал…
В душе у ней была большая каша,
И постепенно Бог её прибрал…
О, девочки, которые без тела,—
Корде Шарлота, Фания Каплан…
Я верю вам, поэт осиротелый,
Солдат нелепый, роковой смутьян…
Полёт смерти
…Наверно смерть летит туда,
Чтобы ногами на экватор,
Поставить два таких следа,
Копал как будто эскалатор.
А дальше смерть должна взлететь,
В полёт ужасный, комариный,
Со свистом сладострастно петь,
Обозревая град старинный.
Где люд по каменным мостам
Идёт весёлый и зловонный…
И смерть проводит по усам
Своей улыбкой многотонной…
— Схвачу ли Фауста сейчас?
— Иль Маргариту укушу я?
И сетчатый затмился глаз
Вдруг в предвкушеньи сабантуя…
О, смерть! Ты статуей летишь!
Ты не видна, но как могуча,
Доступны Лондон и Париж,
Тебя не остановит туча…
А уж когда у смерти жор,
Когда невмоготу нажраться,
То остановится мотор
И авион начнёт снижаться.
И хрястнется о землю враз
Яйцом, что со стола скатилось…
И лишь заявит сайт «Кавказ»,
Что колесо у них свалилось…
* * *
Суббота, залитая гипсом,
Магнитных вечера полей.
Как будто Бергман или Ибсен
Опять взглянули на людей.
Какая дрянь субботний вечер,
Как жёлт и сер, и жёлто-сер,
Как будто прилетела Тэтчер
В буклях в страну эСССР.
Тошнит от бу́клей у премьера,
Тошнит от дерева в окне.
И каждой женщины мегера
Настолько очевидна мне…
* * *
Полнолуние. Женщин протяжный вой
Заунывно разносится над страной.
Полнолуние. Склизко плывёт луна,
Как мокрота стекает под край окна.
Я зачем тебе ордер любви выдавал,
Я зачем над тобою работал, смеясь?
Нет, тебя совсем не другой своровал,
А сама стекла ты, как слизь и грязь…
24 марта 2007
Где же твоя голова?
Госпожа Волкова?
Сидишь ты в своём Гоа,
А сын твой кричит «Уа!»
А мужу повестку вручают,
И партию запрещают,
А ты там гуляешь в Гоа
Крива ты, подруга, крива…
* * *
Толстая девочка, что ты невесела,
И по периметру груди развесила?
Толстая девочка, что ты вскочила,
Вдруг от учебника что ты учила?
Призрак любовника что ли спугнул?
Иль людоед на тебя намекнул
Взор восхищенный макая,
В мякоть твою, «о, какая!»
Толстая девочка не из Тургенева
В кофточке розовой или сиреневой
Толстая девочка прямо из Ада
Но людоеду её-то и надо…
* * *
Я помню школьницу, писавшую зелёной ручкой…
Она себя отождествляла с сучкой.
Я её с ангелом отождествлял.
В конце концов её я потерял…
Но потерять необходимо было.
Пока могла, она меня любила,
Та школьница, с зажатым в кулаке,
Несовершеннолетием в руке…
* * *
Вспоминаем всё мужчине нужное:
Документы, деньги и оружие.
Перечислим всё мужчине важное:
девка бы горячая и влажная,
Ствол холодный, верные друзья,
Партия незыблемо твоя,
И борьбы гигантов напряжение.
Вот такое наше положение.
* * *
История России отвратительна…
Она горда, заносчива, мучительна,
Провинциальна, и скушна как бред
Объевшегося в праздничный обед,
И спящего в углу на лавке,
Когда приснится нос на бородавке.
История России: кислых щей,
Дворцовых блох, юродивых плюгавых,
Пузатеньких нахмуренных царей,
И некрасивых немок величавых.
Тираны скушные в поту дворцовых шуб,
И депутаты с толстыми щеками,
Являются как «клоны» — двойниками.
Столетия — пустяк! России сруб
Содержит негодяев и придворных,
Позорных и притворных и покорных.
Тираны пучеглазые опять?
Хотя и так их некуда девать…
(Учи сынок, историю учи!
Бряцай ключами, знания ключи,
Тебе сынок, я верю, пригодятся,
Когда в России будешь убираться!
Запомни мой возлюбленный Богдан!
Средь этих угро-финнов мутноглазых,
Всё невпопад, всё дурно, всё обман…
Круженье бесов, бликов долговязых…)
Новозаветное
Светило парусов — полночная луна!
Их кружева, привязанные к реям…
Мы так подобны молодым евреям
К Христу собравшимся в благие времена…
Сидевшим у его пленительных ступней…
Завязаны в пучки их волосы ночные,
И Гефсиманские плоды златые…
(Лимонной рощей видимо был сей
Сад, что принадлежал Марии Магдалине…
С такой красавицей влачиться по пустыне!)
Светило парусов над рощею сияет,
А что до корабля, то остов впечатляет,
Своею мокрой глыбою, и вот
Корабль подобно чудищу плывет…
— О, здравствуй здоровенная царь-рыба!
Не жить иль жить, к кому прижаться, либо,
Нам не прижаться? (В злобном парике
Иуда пробирается к колодцу!)
Но кораблю-то всё ж поплыть опять придётся
И в океан ему, отнюдь не по реке…
* * *
Есть небеса, есть мрачные планеты…
Ты — девочка четырнадцати лет,
Ты любишь эсэмэски и конфеты
И всяческих заколок яркий цвет…
Есть страшные пленительные круги
Овал планет, овал орбит… и вдруг,
Через Рязань и Липецк возле Луги
Скажу тебе простое слово «друг»
Мой друг с косичкой,
Друг мой с тёплой попой,
Я без тебя заставлен умирать.
Не надо нам как Азии с Европой
Друг друга ненавидеть, воевать…
Иди сюда, иди сюда, иди!
Твоё лицо сияет красотою
Лукавством… пахнет жвачкой, чепухою…
И этот глупый крестик на груди…
* * *
Болтливый журналист, одетый неопрятно,
Сегодня мне сказал, простуженно хрипя:
«Вы, дорогой, себя ведите аккуратно!
Обширный матерьял на Вас давно копя́т…»
Я знаю матерьял они копят, злодеи,
Ну да и пусть себе, копят его, копят!
Я знаю что вокруг спецслужбы словно змеи
С глазищами гадюк, хвостами колотят!
Однако же должна быть сделана работа,
Самодержавья гад задушен доложен быть!
Богами призван я страну мою от гнёта
Немедленно! Сейчас! Уже освободить.
* * *
Ветер. Вечер. Червь могучий
За окном стоит столбом.
Он — торнадо, он из тучи
(Смерч — его ещё зовём).
Смотрит дикая природа
Мне в зелёные глаза.
Червь кренится. С небосвода
Опускается гроза.
Значит Хаос обессилел.
И всего-то над Москвой,
Над Тверским районом вылил
Годовой запасец свой.
Катя выпьем, выпьем снова!
Смерч наш дом не разгромил,
Постоял до полвторого
Накренился, и уплыл…
Не клевали злые птицы
Дом — избушку ЖКХ,
И собаки, как волчицы
Нас не съели впопыхах…
Тайные общества
Тайные общества на то и тайные,
Что и монгольные, что и китайные.
Тайные общества: шары хрустальные.
Медиум морщится. Глаза овальные.
Затеи стайные, кислоты вещества…
Кубы печальные и двери спайные.
Тайные общества тюрьмами пахнут.
Без имени отчества они зачахнут.
Тайные общества, цилиндры с шляпами…
Вот гардеробщица, пальто меж «капами»
(плащами длинными), сквозит каминными…
Наташе
Весна на бульваре Распай!
Калошки свои надевай,
Пойдем мы с тобою вцепившись в зонты,
Скандальный и я, и скандальная ты.
Весна, голубые с зелёными лужи.
Я был тебе добрым, отчаянным мужем,
Прощал твои страсти и честно любил,
И даже из войн тебе вещи возил.
Однажды ты помнишь: я с шубой в Орли…
Такую могли бы носить короли!
Из Сербии шубу тебе приволок,
Добычу с больших military дорог…
Весна на бульваре Распай!
И можно уехать в Китай.
Какая красивая ты…
Фиалки — твои цветы.
Поехали в груде ночного народа.
Лежит отупевшая к ночи природа,
Вокзалы усталы, дома бледнолики.
Фиалки увяли… и помыслы дики…
Падам-падам-падам…
В Китай мы стремимся, мадам!
Мадам, мы в Китай, ты и я.
Доедет один, а не в общем семья…
Доедет один, все другие падут,
Как будто бы их самолёты влекут,
А из самолётов посыпались люди,
Но без парашютов. Как раки на блюде,
Лежат на бульваре Распай.
И не получился у них Китай…
* * *
В Париже повсюду пахнет рекой,
А город Москва не такой…
В Париже негры в зелёных робах
Грязь выметают вместе с водой.
В Москве таджики вязнут в сугробах,
Город печальный и молодой.
(Если Париж — это праздник с тобой…)
В Париже,— как в опере средневековой,
В Москве же, бетонной и нездоровой,
Бродят морлоки, глаза горят,
Грязные рты клевету галдят…
В Париже, Париже, метла цветёт.
В Москве таджик отморозил рот.
А Наблюдатель, если писатель,
Смотрит на то, что подсунул Создатель.
* * *
И ты, похожий на пингвина,
О, Джозеф Бродский, принимаешь
Твой Nobel Prize, такая мина,
— Свидетельство, ты твёрдо знаешь,
Что от Плотина до Платона,
Минуя наглого Плутона,
Сатурн сияет как вершина,
И каждый день нам — «время оно»…
Хоть нос твой ввысь,
Но грудь опала.
Плешив ты, лыс,
и счастья мало…
* * *
При Юанях или Минах
Благовонный кедр в каминах,
Тонко пахнул, дотлевая,
В общем, старина седая.
Полог шёлковый дрожал,
Карлик крошечный бежал,
Вместе с жёлтою красоткой
На павлинов со трещоткой.
Перья яркие роняя,
И летя и ковыляя,
Убегают прочь павлины,
От красотки и мужчины.
А точнее полмужчины.
Во дворце горят камины
И стоит ужасный шум.
Тихий отрок Каракум,
На ковре сидит читая
Иероглифы Китая.
Взял, да и наморщил лоб.
Хочет меньше шуму чтоб…
* * *
Бабушка с энтузиазмом поёт младенцу.
Младенец с энтузиазмом бабушке поёт.
А в это время по полотенцу
Тихий таракан ползёт.
Родина-мать — золотые подушки!
Родина-мать, таракан-прусак!
Бабушка моет младенцу ушки,
А младенец мечтает купить тесак.
Богдан и глюки
Мой ребёнок общается с глюками.
Он мне за спину строго глядит,
Их приветствует громкими гуками,
Он на их языке говорит.
Мой ребёнок общается с дэвами,
Им своё недовольство он лает,
Мой Богданище утром напевами
Дэвам в уши пургу завывает.
Им прозрачным, и мне непрозрачному,
Мой Богдан улыбается так,
Что и самому среди нас мрачному,
В нос вползает веселья червяк.
Мальчик мой, он в процессе находится.
Кроме дэвов и глюков своих,
Он и с папкою-мамкою возится…
Эх, а лучше бы помнил он их,
Их язык дэво-глюковский празднества,
Переводчиком мог бы служить.
Если нынче он только им дразнится,
Сколько мог бы капусты срубить!
* * *
Я живу уже дольше, чем Хемингуэй,
Я перестрелял немало косматых зверей.
Я женат был шесть раз. Умер мой отец.
Я родил и сынка, наконец.
Я живу уже дольше, чем фюрер…
Скоро стану скелетом, чьим автором Дюрер,
Был во мраке веков, был за ширмой веков.
(Я имею в виду цикл гравюр), я таков…
Ты увидел лошадок, где рыцарем Смерть?
Ты отмерил глазами пространство? Вот твердь.
Вот низинные земли. Вот грудь у земли,
По которой брели мы к Христу, короли,
отдалённых земель. Среди нас был и чёрный.
Своим цветом тогда, как сейчас, отягчённый…
Три волхва под звездой. Я и злой и седой…
Я женат был шесть раз. Был знаком я с войной,
И последняя была седьмой…
Я живу уже дольше чем фюрер.
Скоро стану скелетом с гравюры А. Дюрер.
Визит к доктору Фаустусу
«Простые люди те ещё исчадья зла!
Отъявленная сволочь и злодеи!
Ведущие в венке из роз козла
Шипящие как змеи Иудеи…
Простые люди, если их понять,
То это море желчи и обиды.
Песчинку легче в море отыскать,
Иль же останки некой Атлантиды,
Чем вдруг сыскать средь этого народа
Кого-нибудь помимо злого сброда!»
Он закурил. Впился в витой мундштук.
Изобразил подобие улыбки.
«Я Вам скажу, мой очень юный друг
Где допустили Вы свои ошибки…»
Перелистал творение моё:
«Вы говорите, нету идеала?
Про идеал подобное зверьё,
Простите, никогда и не слыхало…
Я доктор Фаустус, смиренный холостяк,
А Вы, пришедший к нам студент, не так ли?
Да этот мир, он проще этой пакли,
Которая мешает, чтоб сквозняк
Вам просквозил все лёгкие со свистом…
Уж лучше быть разгромленным фашистом
Чем быть здоровым членом об-ще-ства
И что б не утверждала там молва,
Мы с Мефистофелем во всём родные братья.
Не гомосекс-алисты, упаси,
Мы лучшее, что есть здесь на Руси.
Пускай нам отсылаются проклятья!
От Маргариты до Елены, мой
Был путь, совсем, представьте, не простой…
Второго тома, что ли не читали?
Советник тайный Гёте знал едва ли
Что он был близок к тайне роковой…»
За этими словами доктор вплыл спиной
В портрет свой яркий над камином
В Париже в Год от Рождества ИХс 198 и восьмой
И только шорох вызвал по гардинам…
* * *
Сколько я носил обручальных колец?
Сколько раз ходил женихом под венец?
Но не стоят памяти многие дни
Лишь с эНэМ мы были, как волки, одни.
Лишь с эНэМ возможна была судьба
Без оглядки на отцов ветхие гроба.
Ах эНэМ, эНэМ, безвозвратно,
Всё что было у нас, прошло…
На душе мозоли и пятна
Но с Парижем нам повезло!
Ты же мёртвая, не жалеешь
Ну скажи мне, скажи, скажи..!
Пепел твой никак не отсеешь
От останков моей души…
Про букву «эр»
Ах сколько пива в вольном Нюрнберге!
Недалеко уже и Ева Браун.
А пиво пьют кому не нужен отпуск,
Хочу я в Мюнхен, выпустите, гады!
Ведь ты читал, про это пишет Юнгер,
Как там цветы пылают над болотом…
Горит весною высохший торфяник,
И червь прилип к навечно мёртвым ботам!
Какой солдат не снимет свою каску
Какой, и не залезет к ней под юбку!
Я Вас люблю, как новую покупку
Лили Марлен, за ляжку и подвязку…
Под мрачным небом едет Альбрехт Дюрер
Стучит мечом, а конь его — копытом
И Смерть спешит по рыцарям убитым
Ну согласитесь, что пейзаж недурен?
И буква «эр» торчит из звездопада!
Про букву «эр» вам говорить не надо.
Вот «Эдуард» возник им как преграда,
Как частокол из молнии и града!
В нём буква «эр», какая уж пощада!
Всё! Больше нету, нету двух Германий,
Сгнил Вальтер Ульбрихт, вермахт на погонах,
Тех кто сидит в клоаках и притонах
И в кабаках зловонных Океаний…
* * *
Я не светская игрушка,
Я — тяжёлый человек.
У меня свисала пушка
С портупеи целый век.
Я в казарме спал, как дома,
Я стреляю в темноте.
Отдалённо мне знакома
Та фигура на кресте.
Перешла ты мне дорогу,
Зря, возлюбленная всласть,
Не имея долга к Богу
На тебя могу напасть…
1918. Петроград
Приятный голос. Бритый вид.
Заснеженный пейзаж.
И я иду по лицам плит,
Как бы на вернисаж…
Мадеры ком под кадыком,
И клином борода…
Иду, быть может я в Ревком?
Да, я иду туда!
В Ревкоме что меня влечёт?
Там на большой стене
Висит неконченый отчёт,
Что сдать пора бы мне.
Я верно Ленину служу,
Я честно правду доложу,
Кого из каждой фракции
Подвергли мы реакции…
* * *
Оброс легендами как ракушками,
Эдвард Лимонов с его подружками.
А те подружки, что с их бой-френдами,
Не обросли никогда легендами.
* * *
И Юлианский календарь…
Над зыбкой розовый фонарь…
Качаемая мною зыбка!
В тебе рождается улыбка,
Мой тихо лающий сынок.
Я знаю, хочешь на Восток…
Круглоголовый, круглоглазый,
Востока следуешь приказу.
— Малыш, я твой седой отец!
— Я обезьян, вожак у стада.
Маманю теребить не надо
За терракотовый сосец…
Бог создал Землю, говорят,
И населил толпами стад,
Успешно поедавших друга.
Жена могла сожрать супруга…
То что и делает твоя,
Маманя, по стопам зверья.
Она как самка паука,
Самца съедающая прямо.
Осеменил? Наверняка?
И тихо жрёт супруга дама…
Что и случилось бы вконец.
Но твой всезнающий отец
Избегнул страшного укуса.
И вот сидит во тьме улуса
московского. Привет, сынок!
Мы встретимся с тобою вскоре.
Поговорим о Пифагоре,
Но выплюнь маменькин сосок!
Дама
Крем и пудра. Всё сурово.
Шляпа. Чёрные колготки…
Всё всерьёз у этой тётки.
Если снял с неё покровы,
То немедленно седлай,
И скачи и раздирай!
Если же не выжмешь крика,
То она посмотрит дико,
Закуёт себя в трусы,
И забросив хвост лисы
На далёкое плечо,
Так уйдёт, что горячо
Будешь думать: инвалид?
Незнакомка, как бронхит,
Приходила. Не рыдала.
Натянула одеяло,
И смотрела не спеша
На мужчину-голыша.
Этой дамы-незнакомки,
Той, которая сурова,
Сжаты губы, пальцы ломки,
Ко всему она готова.
Ей противен ты как пол.
Грубо думает: «козёл!»
Но нужду в тебе имеет,
Потому пыхтит, потеет.
Под козлом и над козлом.
И ребёнка ждёт потом.
А когда созреет плод,
И разверзнется живот…
Нет, ты вовсе не родитель,
Ты теперь отец-носитель
Грузов, долга и долгов
Результат её таков…
Ты был нужен как прохожий,
Что на всех чертей похожий…
Сделал ей ребёнка — пшёл!
Муж, мужчина и козёл!
* * *
До большей низости никто не доходил…
Страницы лет пространственно опасны.
Я, вспоминаю, Родину любил,
И лик любви был беспристрастно ясным…
Теперь она, глумливая как крот,
Сдаёт себя за доллары, мерзавка,
Ласкают олигархи ей живот,
На лбу её вскочила бородавка…
Я не хочу любить тебя, мой друг!
Как Родину с немытыми глазами.
Езжай на твой комнатнотёплый юг,
В Гоа, с его похабными тельцами!
Ты будешь там лежать, лежать, лежать
Пока вконец не прорастёшь морковкой…
И вновь сырых детей будешь рожать
Своей истёртой маткою-бесовкой…
Престарой хиппи будешь ты сидеть
Под пальмою, смоля марихуану.
Желаю Будду я тебе узреть,
Жирнейшего, болтая про нирвану.
У каждого ребёнка по отцу
Их к вечеру компания сбредётся
К твоему, мама, ветхому крыльцу…
Кому сегодня случка улыбнётся?
Лежи, давай себя средь одеял!
Ни похоти, ни страсти, ни блаженства…
Жалею, что и я в тебе зачал,
Ища в миру хоть каплю совершенства…
* * *
Вот менеджер, а это — муджахед,
И разницы меж ними что ли нет?
Идёт талиб, одетый в шаровары.
Идёт Филипп, с футляром для гитары.
Вы что, хотите мне всерьёз сказать,
Что человечество возможно сослагать
В одно счастливое большое стадо?
Считаю, плюсовать его не надо…
Пускай воюет молодой талиб,
Пускай идёт себе болван Филипп,
Пускай луна встаёт над зоосадом,
Где шимпанзе и бабуины рядом…
Но мы серьёзный и печальный вид!
Ещё страшнее опыт предстоит,
Чем опыты великих страшных боен.
Вид Человека, будь не успокоен!
Будь наглецом, сразись с твоим творцом!
И победи, и съешь его на месте.
Победы увенчай себя венцом,
И плавай в межпланетном чёрном тесте…
* * *
И сумрачно надев пальто,
Пойду я среди улиц суженных,
Среди людей с утра разбуженных,
И не зовут меня Никто.
Я вождь немытого восстания.
Где мутная река Урал,
Там статуей для назидания
Для вас я, проходимец, стал.
А чтоб легенда была долгою,
То нужно на Пекин спешить,
Бог с ней с Москвой и речкой Волгою,
Пора в Янцзы стопы спустить…
Вальс
Искусство не знает законов.
Трагедиям нет границ.
Стада из сатиров, из нимф и тритонов
Бегут вдоль блистательных Ницц!
Их, впрочем, живой не заметит,
А мёртвому, в свете луны,—
Глядите, и каждый отметит:
Тритоны, сатиры, княжны…
Кровавые леди и девы
О нет этих дев нежней!
Гуляют по паркам Женевы,
Танцуют среди тополей…
Мы этой стремительной банды,
Никак пропустить не должны…
Так встанем же, Вивекананды,
Мужья кругосветной жены!
Покинем ночные могилы,
Сжимая лопат черенки.
Ведь девы ужаснейшей силы
Здесь топчут морские пески.
Пускай дорогие отели
Все спят вдоль блистательных Ницц!
Тритоны задуют нам в щели
Давно приоткрытых гробниц…
Весёлые фавны во фраках,
Девчонки в шуршащих чулках,
Здесь платят не в фунтах, не в франках,
В царапинах на локотках…
Синяк на мохнатом колене,
На розовой шейке укус…
Меж дикорастущих растений,
Мертвец и сатир и француз…
И стайка из греческих муз…
* * *
Я бы зашёл в «Клозери де Лила»,
Я бы сидел там где раньше была,
Наша компания: Жан-Эдерн
А за спиной его гравий и дерн.
А за спиной его каменный Нэй…
Нынче таких не бывает людей,
Как маршал Нэй, Жан-Эдерн Аллиер…
(Чей был отец генерал-кавальер).
Грустный ноябрь в потаённом Париже
Разогревается «кир-руайаль»…
Из монархизма всего мне ближе
Площадь Звезды (или Place Etoile)
Из монархизмов всего мне ближе
Культ императора Наполеона…
В грустном Париже, мрачном Париже
Тихо клаксонят звуки клаксона.
«Маршал, мы вот у твоих колен,
Франков спаситель», старый Петэн!
Ваши усы всех франсэ поражали,
Звонко звенели Ваши медали…
Но из монархизма всего мне ближе,
Наполеона гробница в Париже…
Из литераторов буйно-коварный,
Мне Жан-Эдерн в грудь запал легендарный…
Преобладал в «Клозери» красный плюш
Да ещё жив был клоун Колюш…
Забастовка
В странах Запада сыт пролетарий.
В странах Юга хоть климат хорош.
И на уровне даже Румыний, Болгарий
Ты меж классов борьбы не найдёшь…
А бывало: знамёна шумели,
И свистел раскалённый свинец.
Обожжёнными глотками пели,
То, что старому миру конец!
Только в нашей свирепой России
Забастовка грозит стариной.
Здесь в снегах плохо пахнут стихии
Полицейским, карболкой, тюрьмой…
Вышел крупный и хмурый рабочий,
Как тяжёлый и пахотный вол,
Развернул свой плакат многоточий
И с нулями к заводу побрёл.
Из домов, из хибар, из бетона,
Вслед за ним выливалась струя.
Это роботов злая колонна,
К ней, такой, примыкаю и я…
— Забастовка! кричат — Забастовка!
— Надоело! кричат,— Без гроша!
Ах рабочий, я знаю, винтовка
Успокоит тебя малыша…
Ты возьмёшь её в мощные руки
Как ребёнка подымешь к плечу
«Эксплуататоры, подлые, суки
Я вам всем за свой страх отплачу!
За смешение суток недели
За отсутствие радостных снов…
Пусть остынут семейные ваши постели
Пусть насытятся пасти врагов!»
Старая карта
Старая карта былой географии:
Где здесь Сицилия — гнёздышко мафии?
Где здесь Исландия — рай для селёдок?
Вот где Британия, рыжих молодок
Здесь островной инкубатор-вольер.
Ниже Германия (с «фрау» и «герр»…)
Тут вот Румыния, где виноград,
Я географии искренне рад…
Да здравствуют бочки дубовой Молдавии!
Прекрасные сливы былой Югославии!
А вот в Португалии «порто» хорош.
Испанец хватает в Испании нож.
Индиец любуется Шивой и Вишну
Японцы спешат любоваться на вишни…
Карта спокойная той географии
Ныне достойна она эпитафии…
Чур меня, чур меня, чур меня, чур!
Где тут Амур? Ах, ну вот он Амур!
* * *
Моя мать сошла с ума,
А жена беременна.
На жену легла вдруг тьма,
Надеюсь это временно.
Но моя мать сошла с ума,
И это непреклонно.
Лежит в Харькове сама,
На улице Ньютона.
А жена моя в бреду,
Неистовая, страшная,
Визжит «Я от тебя уйду!»
И чуть не рукопашная…
Дрожит, кричит, визжит как бес,
Себе шепчу я в ужасе:
«Ты на кого безумец, влез
В своём, дурак, супружестве..!»
* * *
В моей стране меня упоминают,
Ругают и склоняют, очерняют,
Изображён я словно чёрный зверь.
Но ты, сынок, сим «рупорам» не верь.
Отец твой удивительный учёный,
В объект любви неистово влюблённый,
Как был Христос в свой Гефсиманский сад…
Так и отец твой этим мукам рад.
Поскольку дело вот в чём заключается:
Земная жизнь, нет, не у всех кончается.
Махди приходит. Ты мессий не жди.
Отец твой есть заведомый Махди!
Зимнее утро
Зима и снег. Зима и мрак,
В окно мне видно это.
Ворон помимо и собак,
Спешат там два пакета.
Мне улицы противен гнёт,
И воробьи рассвета…
Помимо воробьёв несёт
Там ветер два пакета.
Ворона тяжко поднялась,
Через забор воровкой.
(Вдруг негр запел про свою связь
С какой-то прошмандовкой…
То в дальней комнате Богдан
С утра нажал на кнопку,
Чтоб телевизор как орган,
Дрожал бы негром спозаран
…А сам упал на попку…)
Ребёнок мой. Жена моя.
Зачем мне эти двое?
Жена смеётся как змея,
Ребёнок волком воет…
Зима пугает тёплый глаз,
И воробьи рассвета,
Спешат клевать хотя бы раз
Зловонный край пакета…
Эх!
Я давал ей большую рубашку.
Она в ней тепло спала.
Я давал ей большую чашку,
Она чай из неё пила…
Я поил её чаем с мёдом,
Ей укутывал ноги пледом,
Всё равно она стала уродом,
И подвергла меня лишь бедам.
Сына, верно, она родила,
Только наш благородный сын.
Послужил ей как злая сила,
Против добрых моих сил!
Сторону матери
Вот я сижу на кухне, сынок,
При галстуке, зол, спокоен.
Прибудет охрана. И в нервов комок,
Сжатый, уеду я, воин…
Под утро затихла ссора с женой,
С мамой твоей больной…
Я не увижу тебя никогда!
Прощай же, моя звезда!
Вырастешь умным, красивым, Богдан,
Ну а отец твой, умру я от ран,
Вот что тебе напишу я на скатерти:
«Не принимай никогда, будь смутьян,
— Сторону матери!
— Дед твой болван, Веньямин капитан
Слабость имел: твоей бабке поддался.
Жизнь он прожил как пустое пятно,
С нею жевал и кряхтел заодно,
вот он никем и скончался…
Матери тёплое вьют гнездо,
Сладко в гнезде валяться,
Только мозгов разжижения до
Нужно с гнездом расстаться!
Мальчик беги! Мальчик беги!
От баб убегай скорее!
Пусть бабка суёт свои пироги,
Пусть мать вся улыбками реет,
Плюнь на улыбки и на морщины,
Бабы — не участь мужчины!
Да, я тебя от любви зачал,
Только объект желанья
Быстро чудовищем яростным стал,
Весь ощетинился, заклокотал,
Не только любить меня перестал,
Но гложет меня как пиранья…
(Может другого себе нашла,
Вся психопатией изошла!
При этом тобою она прикрывается:
Якобы бедный Богдан нуждается
В обширной квартире, в поездке в Гоа,
А без Гоа, ни «ау!», ни «уа!»)
На самом-то деле всё мать твоя лжёт
Её там мужчина, возможно, ждёт…
Она изрыгает зловонную ложь!
Ты на меня должен быть похож…
Так убегай от них, взявши нож,
Чтоб только не жить в их фарватере,
О покидай, покидай, покидай!
Этот вонючий, слезливый рай —
Сторону матери!
* * *
Ко мне приехал Мефистофель.
Его большой автомобиль,
Стоит как сказочный картофель,
Под вывескою «Куры Гриль».
Вот из машины он выходит,
Одна нога ступила в снег.
Вокруг охрана хороводит.
Их целых восемь человек…
Пока охрана брови хмурит,
Мою охрану изучая,
Он через улицу бравурит,
Привычно и легко хромая…
Пока ко мне он подымается,
По лестнице моей крутой,
Его водитель появляется
Из дверцы чёрной и большой…
Его водитель — негр огромный!
А негру ведь подходит Ад!
Относится он к силе тёмной,
Как к ангелу — цветущий сад.
Ко мне заходит Мефистофель,
Мужчина лет под тридцать пять,
Он ястребиный носит профиль,
И тянется мне передать —
Портфель набитый до отказа…
При этом (как они должны!)
Горят углями оба глаза…
«Из Лондона. От Сатаны!»
* * *
— Ты за мной пойдёшь ли в Ад?
— Милый, да, пойду!
У дверей там опер, гад.
Ещё один в саду
Ещё три зловещих гада,
Там где низкая ограда,
окунулась в тень…
— Это наш последний день?
— У дверей прохладных Ада
Ты не дрогнешь?— Нет!
— Вот тебе держи, так надо,
Старый пистолет…
— Эх ты, колкая макушка,
Моя новая подружка.
Не успели ничего…
Беспокоит участь тела твоего..?
Партия бессмертна
Мы вечерами в тюрьмах ликовали!
Мы жили в напряжении страстей!
Не отмечают буллы, иль скрижали,
Иль хартии таких как мы людей…
И голодовок мы не объявляли
Мы повсеместно, стойко и всегда
Молитвенно и строго голодали
Своих не предавая никогда.
К нам за решётку мрачные закаты,
С рассветами спешили заходить.
Пытали нас зловещие солдаты,
Нас, Партию сумели запретить…
Под снегом мы героя хоронили…
Не плакали, но знали что придёт,
День мщения, придёт сезон Бастилий,
Кремль безобразный с грохотом падёт…
Да, Партия бессмертна, да бессмертна!
На шеи бычьи бледных палачей,
Горизонтально, грубо и конкретно
Опустим сталь зазубренных мечей!
Карнавал в Гоа
Веселитесь, стар и мал!
Входит гнусный Карнавал!
Вёдра желчи, вёдра гноя
Вырвал он вдруг с перепоя
И на пляжи и на храмы
На пейзажи и лингамы…
Словно мина вдруг упала,
Из тухлятины и кала.
От блевотины, как взрыва,
Мир воняет некрасиво…
Столько здесь людей горбатых,
Шелудивых, грязноватых,
Сколько жирных животов,
Сколько подлинных скотов…
Русских пошлых, и индийских
Сколько морд простороссийских
И кислотного жулья…
Вот она — среда твоя,
— Катя, Катя, Катерина —
мать украденного сына…
* * *
Завоеватель туристом не станет,
Чартером не полетит.
Он с пулемётом на пляж ваш нагрянет
И пулемёт застучит…
Завоеватель не будет туристом,
Воину незачем travel voyage,
Белый мужчина импе-риа-листом
Должен высаживаться на пляж!
Серые кожи, серые лица,
Грязные хиппи… Бежит свинья…
Эта позорная хиппи столица
Ваша ублюдочная Гоя…
Вы замарали собой закаты,
Вы перепачкали наши моря…
Кердык вам — туристы, пришли солдаты
Землехозяева, в лоб говоря!
Завоеватель не станет туристом,
Воину незачем travel voyage,
Белый мужчина империа-листом
Должен высаживаться на пляж!
Нервное состояние
Ребёнок пятками стучит,
Говнюк, по потолку…
Ребёнку всыпать надлежит,
Как сукину сынку
Зажавши бошку меж колен,
Штаны ему спустить,
И просто в прах, и просто в тлен
По жирной жопе бить!
Не будешь толстозадый клоп,
Ты гению мешать!
Не топай пятками, так чтоб,
Писатель мог писать!
Собака нервная визжит,
Уже который год.
Ей тоже всыпать надлежит,
Я предъявлю свой счёт!
За вой и лай, за вой и храп,
— Её я погублю!
За скрежет богомерзких лап,
Её я утоплю!
Ножик
Батька ты мой, батька,
Нет тебя на свете.
Я один остался.
Только стонет ветер.
Предо мной твой ножик,
С множеством орудий:
Лезвий, шила, ножниц —
Всё что нужно будет.
Я их подцепляю,
Я им говорю:
«Маленький мой ножик,
— я тебя люблю!»
В трудную минуту
Батю он спасал:
Лезвием он резал,
Шилом он пронзал
Память твоя батя,
В ножике твоём,
— Если нас не хватит
В ножике живём…
Пистолет
Прекрасней нет объекта для эстэта
Чем облик идеальный пистолета.
Чей аромат так привлечёт поэта,
Как запах смазки пистолета?
Был сон глубок? Он обусловлен «пушкой»
В ту ночь «ПМ» лежал ваш под подушкой…
Вы отомстили злобному Врагу
Повержен он как кукла на снегу?
Затем что он потребовал ответа.
И получил, был выстрел пистолета.
Зияет круглая, с горошину размером
Дыра во лбу, того, кто глупым хером
На вас дерзал поднять свою ладонь,
Теперь лежит как грохнувшийся конь…
Тревожней нет мыслителю объекта
Чем пистолет, который держит некто…
* * *
Думать, двигаться, дышать,
Форвардом возможно стать,
Луг зелёный красной майкой освежать,
По ногам защитников топтать,
Кедой на шипованной резине.
Состоять в таинственной дружине…
Выходить и выносить на люди
Голову на бронзовой посуде…
На пляже Гоа, февраль 2008
Одна из жён Лимонова,
Самая простая,
Бродит там беременная,
Вовсе никакая!
Потеряла милая
Не от косички бантик,
Потеряла женщина
Голову, как крантик!
* * *
Я бы писал стихи о гладиолусах,
Или о шляпках может быть писал,
Я пел бы Вам о шапках и о волосах,
Я б по-английски это напевал.
Я бы с ребёнком в парке бы прогуливался,—
Спокойный и приятный человек…
(А воздух бы на время обеспуливался!)
А ты глядела б мирно из-под век.
Тяжёлая жена моя, тяжёлая!
Всё более вы словно бы двуполая:
Мужские плечи, руки для меча…
Сейчас возьмёт, отрубит сгоряча,
У Ангела любви простые крылья…
Несчастные повиснут, хлынет кровь…
Три года всевозможные усилья
Предпринимал я, чтоб была любовь.
Я Вас сжимал в объятиях и ласках,
Вас никому в миру не уступал,
В сложнейших и завязках и развязках
Я своё тело с Вашим сопрягал.
Стремился внутрь я влажной Вашей глуби,
Топтал Вас словно бык и злой мужлан!
А что я получил? Она не любит!
Зачем тогда был этот балаган?!
Зачем родили бедного Богдана?
Чтоб ты его с отцом разорвала,
Чтоб у меня в груди зияла рана,
И я глядеть боялся в зеркала?
Тяжёлая жена моя, тяжёлая,
Какая ты бесчестная, двуполая…
Как злой мужик, как оборотень вдруг!
А я-то верил ты мой страстный друг!
А я-то верил, красоту мы делим,
И ненависть внутри себя не селим…
* * *
Жена, ребёнок были у меня…
Затем исчезли, как в воронку.
Всё грохнулось среди рожденья дня,
Богдану, годовалому ребёнку.
Успел купить китайский автомат,
И пистолет, и рацию, и кепи…
Он вырастет, и будет он солдат,
И мою славу он своей укрепит.
Богдан, когда ты вырастешь большой,
Скрути-ка мать, и к двери привяжи!
И выпори! Ей с чёрною душой,
«Зачем отца лишила?» — ей скажи.
Н
Смотрел в окно, качал ногой,
Придумывал сюжет…
Но я Вас старше, Боже мой!
На сорок восемь лет!
Однако старый обезьян,
Прожжённый, словно бес,
Волнует девочек-землян,
И девочек с небес…
(Ну нет, совсем не ерунда!
Скорей: «Ну да, ну да!»)
Я к вам забрался и туда
Куда прошла ялда.
Греха не может быть, и нет…
Какой у смертных грех..?
Схватил тебя отнюдь не дед.
Любовь равняет всех!
Ты знаешь,— правду говорю,
И мне не возразишь,
И то, что я с тобой творю,
Ты людям подтвердишь…
Н
Хочется разврата.
— маленьких ушей.
Девочки-Солдата,
В глуби шалашей…
Оголились ляжки,
И горит живот.
Маленькой Наташки
Я касаюсь, вот…
Майку снимет дева,
Вот они два пло́да!
На груди у древа
Сиськи из народа!
Было давно
Это всё уже было давно
Женщина, собирающаяся петь в ресторан,
И женщина, уезжающая сниматься в кино…
(Как и мужчина, умирающий от ран…)
Женщина, голая, надевает чулки,
Не хочет идти работать, но надо.
Эти мгновения пусть далеки,—
Источают пригоршни яда…
Ресторан ночной. «Посиди со мной!
Не уходи, наяда!»
Но она уходит, сминая спиной,
Кисти синего винограда…
Я люблю все резиночки Ваших трусов,
Вашу бледную оспу прививки,
Ни среди детей, ни среди снов,
Я не видел такой дивки…
Вы наплываете девочки на…
Та которая, петь в ресторан…
На которую идёт сниматься в кина…
На мужчину, умирающего от ран…
Нацболы
Подростков затылки худые,
Костлявые их кулаки.
Берёзы. Собаки. Россия…
И вы — как худые щенки…
Пришли из вороньих слободок,
Из сумерек бледных столиц,
Паров валерьянок и водок,
От мам, от отцов и сестриц…
Я ряд героических лиц
На нашем холме замечаю,
Христос им является, тих?
Я даже Христу пожелаю
Апостолов смелых таких!
Я поднял вас всех в ночь сырую,
России — страны ледяной,
Страны моей страшной, стальной.
— Следы ваших ног целую!
Вы — храбрые воины света,
Апостолы, дети, сынки,
Воители чёрного лета,
Худые и злые щенки…
* * *
Мозилла Файер Фокс!
А ну скажи мне ты,
Как поживают акции и стокс?
Сейчас мы наведём свои мосты…
С красивой девочкой сведёт нас Интернет,
И будет ей совсем немного лет,
И будет у неё шершав сосок,
И будет твёрдый маленький задок…
Мозилла Файер Фокс!
Как поживают акции и стокс?
Эксплорер Интернет,
Ты мне не скажешь «нет»,
Я увеличу мой на мир обхват,
И будет каждый мне должник и брат…
* * *
Она не читала роман «Овод»,
Она читала роман «Обломов»,
Она не поймёт, что я вечно молод,
Ей не понять, что я без изломов.
Она низка, у неё нет высот,
Она — возлюбленная наоборот,
У неё есть живот, да, но два крыла,
Ей эта поганая жизнь отсекла.
А я летаю! Вам удивительно?
Хотя и летаю я очень мучительно.
Но я не тяжёлый, и два крыла,
Моя звезда для меня сберегла…
«Эдик»
А «Эдик» обиделся и ушёл,
И не вернулся опять.
Парень достался тебе большой,
А ты не смогла понять…
«Я же уйду!» он тебе говорил,
Грустный сидел, седой,
Куда уйдёт он сказать забыл,
Но все парни идут к другой…
Сиди теперь, пусть растёт Богдан,
И он, конечно, хорош,
Но я был большой, как Афганистан,
И как Иран, и как нож…
Опасный и старый, как Ашхабад,
Как Гиндукушский хребет…
И не отыграть нам меня назад,
И я не сумею, нет!
История бодрой стопой бежит
Ей и дети, и старики.
Лишь стройматериал, и другая дрожит,
Под картой моей руки.
Узоры моих родовых дактило,
Впитываются в её плоть,
Ну что же «Кате» не повезло,
Её разлюбил Господь!
Цыганочке маленькой «Эдик» мил,
Старый, седой и злой,
И он цыганочку полюбил,
Чтобы не быть с тобой…
* * *
Тебя мучает ревность со злобой, тоска,
Ты не видел два месяца с лишним сынка,
Ты болеешь, простуда и астма вдвоём
Истязают тебя этим солнечным днём…
Потерпел неудачу опять ты в любви,
Неудачником, впрочем, себя не зови,—
Вся проблема твоя с этой трудной женой,
Как проблема с собакой большой…
Выбирая собаку купить чтоб в друзья,
Выбирайте детей, взрослых сучек нельзя…
Ведь у этих у взрослых, красивейших сучек,
Было много несчастных, трагических случек,
Было много предательства, много грехов,
Чего нет у родившихся только щенков…
Быть джентльменом
Если ты джентльмен, то уж ты джентльмен,
Не вскрываешь себе ты вен.
Ты спокойно в моменты трагической смуты,
С коньяком или бренди глотаешь минуты…
Если ты джентльмен, то по морде красотку,
Не ударишь, всосавши в кишки свою водку.
Но подымешься строгий, прямой и седой,
Молодую девицу притащишь домой,
Отомстить своей прежней неверной девице,
Орхидеею свежей в петлице…
За предательство надо конечно убить,
Нелегко джентльменом в Московии быть,
В окружении русских, как меж печенегов,
С их зятьями и тёщами вещих Олегов.
С перепутанным психо, но с бодрым лицом,
Джентльменом остаться, не ставши скотом,—
Это вам не в Британии лордом служить,
Джентльменом в России,— как ангелом быть.
Отомщу своей прежней коварной девице
Орхидеею свежей в петлице!
Пусть галдят они все: печенеги, старухи,
Да утешусь я в юной пылающей шлюхе!
Порнография
Чужая похоть возбуждает…
Смотря, как он её сажает,
На свой блестящий толстый кол,
(она скребёт когтями пол
И белой задницей виляет!),
— мой кол встаёт и направляет
В тебя, подружка, остриё!
И где тут чьё, это моё
Его это стремит копьё
Удар в её ночные глуби?
Всё это называем «любит»,
И называем «бытиё».
А если бледный депутат,
Штанами потряся пустыми,
Нам запретит, друзья, разврат,
Со всеми постными святыми,
То я на улицу пойду,
И за свои рубли простые
Там порнографию найду,
у коей кудри золотые…
С собой за руку приведу,
И на продавленном диване,
В порнографическом аду,
Свою ялду в неё введу,
И акт протестным актом станет…
Н
Я бы хотел, чтоб ты ходила в школу,
А я бы у ворот тебя встречал,
Для связи я тебе купил бы «мотороллу»,
Я б эсэмэсками уроки прерывал…
Однажды у меня всё это уже было,
Мне было хорошо, чудесно, как в раю,
И девочка в парах энергии и пыла
Любила меня так, как ангелы в бою!
Но я хочу ещё! Понравилось мне это!
Но я хочу ещё твоих запретных ласк!
Но я хочу опять зияющего лета
На страшных шишаках моих нацистских каск…
Да, образная даль меня в твой плен уводит,
И облачная пыль подмышек и колен…
Ты, девочка, стоишь, улыбкой рот твой сводит
Тебя зовут Лилит, Настасья и Элен…
Наташа, я хочу, чтоб ходила в школу,
Чтоб было бы тебе всегда семнадцать лет…
— Я, да, куплю тебе сегодня «мотороллу»
И буду ждать тебя из школы на обед…
* * *
Мать умирает, гниёт.
Сын скорой смерти ждёт.
При чудесной погоде,
При золотых облаках,
При голубом небосводе,
Вспоминая о мягких руках.
Но мать умирает, гниёт,
Сын в другом городе смерти ждёт,
И ждут этой смерти сиделки,
Крови и гноя чашки, тарелки
При этом впитались в кровать,
Только осталось, что смерти ждать…
А где же хвалёное милосердие?
Бедные люди. Напрасно усердие:
Жизни негрешником и добряком.
Глаза твои мама, под потолком,
Как у несчастной, больной собаки!
Мамочка, мама, прости мне драки!
Мамочка, мама, прости тюрьму!
Мамочка, мама уходит во тьму,
И кожа с неё слезает,
И кости её обнажает…
Мучительно мать умирает…
* * *
С родителями моими покончило время.
Как со всеми родителями бывает всегда.
Их обоих вначале ударило в темя,
А затем их слила подземная вода.
В крематории они лежали, как сушняк в овраге,
даже не деревья, но как узловатые кусты…
«Надо же,— я думал, глядя, «бедняги»,
Надо было быть смелее, быть с жизнью на «ты».
Но они себе жили в плену привычек,
Запасали картошку, покупали пальто,
Делали запасы соли и спичек,
Но в Истории из двух не участвовал никто.
Надо было бы им ничего не бояться,
Отправляться в тюрьму и на эшафот,
Тогда не пришлось бы в гробу валяться,
Как старая лошадь, как сломанный крот…
Разврат
Да здравствует святой разврат!
И пьяный город Виноград!
Где щёки девушек румяны,
Смелы они как обезьяны,
Они неловки, непристойны,
Их попки вечно неспокойны…
Да здравствует святой разврат!
Такой, где в очередь стоят,
Вперёдстоящих понукают,
И семя в самочку качают,
И от волнения храпят…
В её дыре всосались в стены
Всех наших братьев злые гены…
Да здравствует святой разврат!
Где чаши наполняет с воем,
Весь дикий город Виноград
В столпотворении нагоем…
Где взявши грязного козла,
Надев на бёдра цепь златую,
Случают с целью сделать Зла,
Его и девочку младую…
В котлах баранина кипит,
Гашиш курится в трубках длинных,
И ряд пустынников сидит
На девах юных и невинных…
Здесь оседлал факир змею,
На женщине дрожит собака,
Здесь образ Сатаны из мрака
Вдруг навалился на свинью…
* * *
Спокойная трагедия: вот дряхлая старуха,
Нам переходит улицу, почёсывая ухо.
Тяжёлая трагедия,— с повстанцами и пушками,
Войдёт в энциклопедию поваленными тушками.
Семейная трагедия: когда жена безумная,
Срубает ветвь наследия как дьяволица думная,
И спиливает древо недавнего посева,—
Свои ж плоды из чрева. Поскольку злая дева…
Трагедия желания: когда пылает мания,
Насилия, насилия, так словно девка сильная,
Вся скручена, вся связана,
Любить тебя обязана,
Избита, раскорячена, словно животным схвачена,
И бьётся вся в истерике,
Как на скамейке в скверике,
Пронизана, замучена, до пальчиков изучена,
Наказана, задавлена
Избита и подавлена.
* * *
Я прожил последние годы как надо,
И мне не в чем себя упрекнуть.
Если в ванной вдруг всплескивала наяда,
Я шёл и брал её за голую грудь.
Меня не останавливала пропасть между,
Мной и наядой, которая русалка ведь,
И я лелею в себе надежду,
Что я буду так поступать и впредь.
Женского зверя брать за сиси,
Женскому зверю входить в дыру,
После — смотрите глазами рыси!
Ну и бегите потом в нору!
Я ж тебя Катя, дважды брюхатил!
Я же тобой насладился ведь,
Я ж тебя Катя, намеренно тратил,
Недра распарывал, как медведь!
Можешь теперь меня с постной миной,
Взглядом не видеть, не трогать рукой,
Но ты была моей половиной
Нижней, передней и задней порой!
К
Я бы тебе показал!
Я бы на цепь тебя привязал,
Если бы кодекс наш уголовный,
Был не серьёзный, а был бы условный…
Ты у меня бы запела…
Мучил бы я твоё тело.
Ты у меня бы плакала,
Кашляла, писала, какала…
Ты у меня бы просила,
«Дяденька, хватит!» вопила.
Я бы тебя не слушал…
А через месяц скушал…
Однажды, в Довиле…
Меня разят своим слепым огнём,
Сквозь шёпоты постыдные и слухи,
Тяжёлые глаза французской шлюхи,
В Довиле летом, пляж, и под дождём…
Так есть у меня сын, так есть garçon?
И ты Мадлен, с чудовищною чёлкой,
Та что была бретонскою девчонкой,
(Не проституткой, шлюхой, mouvais ton…)
Ты мать его? Мадлен, ты пахла рыбой,
Курорт затих под пеленой дождя…
Я о тебе забыл чуть погодя,
Лишь Пруста (он — свидетель), приводя
Но Пруст мне, впрочем, не казался глыбой…
Он, Пруст, за стопкой мокрых лежаков
Следил, как мы там пьяно копошились,
И острия нафабренных усов
У Пруста плотоядно шевелились…
Что женщина? Лишь щель, лишь злой каприз,
Когда по этой уводящей щели
Ком ДНК стекает властно вниз,
Если низвергнуть раньше не успели…
Лежак был твёрд, твой круп, Мадлен, был свеж,
Ты побывала в тысячах объятий,
И мне казалось, что меня ты ешь,
Сняв для удобства все из твоих платий…
Лежала ты потом как злая тварь,
Нажравшись плоти, пропитавшись спермой…
Я в сумерках листаю календарь…
— Тогда был май, и должен быть февраль,
Когда garçon родился? Так наверно?
А вдруг чудовище? А вдруг трёхглазый зверь?
А вдруг не мой, но чей-нибудь из группы?
Ты женщинам, естественно, не верь,
Особенно, когда пьяны как трупы…
* * *
Сидим в пристанище моём
И Анну Шиллер ждём…
О, Анна Шиллер, Анна Шиллер!
Пиво «Шлиц-лайт» и пиво «Миллер»…
У Анны Шиллер, Анны Шиллер,
Ползёт по носу катерпиллер,
Её убил вчера драг-диллер
О, Анна Шиллер, Анна Шиллер!
Она конечно не придёт,
И мы её напрасно ждёт…
Там где наркотики — там драки,
Ножи достанут в полном мраке,
И ну ножами тыкать в плоть,
И Анну не сберёг Господь!
О, Анна Шиллер, Анна Шиллер!
Вся твоя жизнь — германский триллер…
И шляпа круглая твоя,
А в сумочке шипит змея!
Отец — эсэсовец, а мать,
С советским капитаном спать,
Ходила подлая, налево,
И Анна не святая дева,
Была.
Но только умерла…
О, Анна Шиллер, Анна Шиллер!
Её убили… Подлый киллер..!
* * *
Счастья в этот раз у меня было только два года,
Но и то хорошо, спасибо тебе, судьба!
Совсем без счастья живёт две третьих народа,
Не изведав его, отправляются в душные гроба.
А у меня была тонкая любовница,
С лицом королевы самых злодейских кровей,
Она мне навсегда подо мною запомнится,
Как я топчу её, страсть моя словно змей!
Позже набухла она, плодом её распирало…
И эта её новая, тучная, излишняя плоть
Нового качества счастие мне давала!
Его ещё на год хватило, спасибо тебе, Господь!
Что будет далее, то и будет далее,
Ты приготовил, знаю, мою судьбу.
Бледным ростком, вся как юная тонкая талия,
Движется твоя избранница к моему столбу…
— Я привяжу её к плоти моей пылающей,
(Пылающей, несмотря на мои года!)
Вновь я буду дающий, а она — принимающий,
Спасибо Господу, он добр всегда!
Вероятнее всего — он железное злое чудовище,
Но он любит меня, как развратная мать,
Любит дитя своё, как дорогое сокровище,
И потому не устанет он девочек мне поставлять…
* * *
Я презираю хлеборезов,
Калек, ребёнков, стариков,
Зато люблю головорезов:
Танкистов, снайперов, стрелков,
Носителей смертей, убийцев…
С усмешкой злою на губе…
Раз подполковник Кровопийцев,
В окрестностях Курган-Тюбе,
Показывая ключ от «Града»,
От зажигания его,
Сказал мне: «Вот он, ключ от Ада!»
И не добавил ничего…
Семь на семь страшные гектара,
(А может только три на три?)
Но столько Ада, столько жара,
Гектаров огненных внутри!
Я презираю хлебоедов!
Зато трагически просты,
Кто жжёт с утра, не пообедав,
Врагов, дороги и мосты…
Поскольку неогегельянец,
Поскольку я сверхчеловек,
Люблю я смерти пьяный танец,
На площадях и в устьях рек…
Талибы, или не талибы,
Война красива и проста…
А вы бы повернуть могли бы,
Тот ключ с улыбкой на уста…?
Я
И в метафизике, и в мистике,
Пот отеревши, глаз подняв,
Ты, Эдуард, как сын баллистики,
Отец Республики, ты прав!
Из кабинета гвоздь вогнав,
Что держит небо на приколе.
(Ведь нас всему учили в школе
Лишь мистику с предметов сняв.)
Ты прав, своим кичась набором
Средств для ведения войны:
Весы алхимика, с прибором
Для измерения Луны.
И яды, яды, яды, яды…
Один другого зеленей,
Щипцы, пинцеты, злые гады,
Кольцом свернувшись от людей,
Для убиения идей…
Всю философию и право
Ты хлёстким взглядом подчинил…
А на стене (два метра, браво!)
Следы. Там ночью ты ходил…
Дневниковые стихотворения, примыкающие к книге «Мальчик, беги» (2008)
Суд и монастырь
О, Лефортовский суд! О, Лефортовский суд!
Меня мимо колёс да у Волги несут.
Каждый день проезжаю я твой силуэт,
Злой коробец наполненный всяческих бед
Плотным сгустком. Спрессованным горем…
— Монастырь на горе мы оспорим
И Андрея Рублёва, как красную тень,
В суд посадим в подвалы на пень,—
Говорят себе так прокуроры лихие,
Похваляясь собой — мы злодеи такие…
И Андрея Рублёва, Андрея Рублёва
Убивают всё снова и снова.
* * *
Ты всё равно ко мне придёшь
И буду я любим
Меня опять охватит дрожь
Перед лицом твоим
У лунных плеч, у страшных глаз
Замерзает речь
Растает час
И «-зы», и «взы» и чёрный свет
Любовь моих побед
Я просыпаюсь по ночам
Увидеть Вас, мадам
* * *
Вы все похожи друг на друга
Вы — каждый, как мешок с дерьмом
Он поверху завязан туго
Под самым вашим кадыком
Вы ездите на те курорты
Куда вся пошлая толпа
Вы носите штаны и шорты
И в голове у вас крупа
Вы подавляете желанья
Вы открываете вино
Вы курите траву познанья
Вы смотрите своё кино
Асаны принимая позой
Вы глупые как Индустан
Ртом надо увеличить дозы
И на столе у вас кальян
* * *
Когда-нибудь тебе я надоем
Но я тебя до этого всю съем
Когда-нибудь ты от меня уйдёшь
Но крови в своих венах не найдёшь
Всю выпью я твою, подружка, кровь
Да, это называется любовь
Не секс, не плоть, но страшная жара
Души
* * *
К лету у меня появится дочка
И будут они жить как два цветочка
Два моих золотых ребёнка
Мальчик Богдан и маленькая девчонка
У Богдана будет сестричка
Жаль что мама у них истеричка
* * *
Она стала оборотнем в марте две тыщи седьмого.
Она вернулась с глазами разбитой хрустальной вазы
Бесполезно требовать: «Что я сделал плохого?!»
Хорошо бы понять, что случилось в Гоа там сразу
Это мог быть банальный индийский сглаз
Это могла быть кислота сожранная в количестве
Мозги ведь сжигают не за один же раз
Что сломалось в её величестве?
Я задаю этот страшный слепой вопрос
На который ответа понятно не последует
Потому что оборотень не помнит прошлых слёз
Оборотень лишь ревёт, он не беседует
Оборотень крушит свою судьбу
Ближних своих рвёт клыками
После смерти оборотень встанет в гробу
И воет под окнами мертвяками
С прекрасной Катей, моей женой,
Несчастье случилось той весной
И этой весною она как в бреду
Гуляет беременная в саду…
Оборотень-волк, не бей хвостом
Лучше скорей уходи отсюда…
Не смущай живых. Мы поживём.
Дети и я. Покуда…
* * *
Она красива и проста
Проста, но как красива!
Как плод колючего куста
Торчит в навозе криво
Поганый и зловещий куст
Но было не отнять
От плода мне горячих уст
Опять и дать, и взять
Она красивою была
И я её любил
Но вот однажды умерла
Ну, умерла, что ж, умерла,
И я её забыл.

А старый пират… (2009–2010)
Старым пиратом назвал меня Тьерри Мариньяк — приятель моих парижских лет. «Comment ca va, vieux pirate?!» (Как всё идет, старый пират?!) — воскликнул он, похлопывая меня по спине, когда мы встретились недавно в Москве и обнялись.
О том, «как всё идет» у старого пирата, откроет вам эта книга. В ней читатель найдёт стихи моим любимым деткам и злой красавице-жене, подружке Е. и подружке Н., и даже московскому градоначальнику, преследующему поэта судебным иском в полмиллиона. Исторические реминисценции, осколки легенды о Фаусте, стихи к мёртвой Наталье Медведевой, стихи к банкирам и к уродливой Москве, «где демоны над головой / На зданиях сидят», стихотворения на злобу дня — о мировом экономическом кризисе, стихи на смерть Майкла Джексона, отклик на аварию Саяно-Шушенской ГЭС — вот чем полон пиратский сундук.
Короче, перед вами новый сундук стихов «оголтелого человека», как характеризовал меня недавно один критик. Я и есть оголтелый vieux pirate.
Автор
* * *
Вдовец. Генерал. Карбонарий.
Убийца с кинжалом в плаще,
Таков был тот странный сценарий
Для жизни моей, и вотще…
Мне некую цель поручили,
Мне некий плацдарм отвели,
Ни разу меня не забыли,
Любовно героя пасли…
Затихающий рокот беды
К.
От нас ничего не осталось?
И даже кольцо потерялось,
А впрочем, остались дети,
Такие чужие на свете…
Как грустно! И душесдирающе…
А было легко и мечтающе…
Зачем ты меня так изранила,
И наших детей прикарманила?
Зачем, отвечай мне, чертовка?
Тупая ты, словно морковка,
Ты сволочь, морковкина дочь.
Ты — овощ, тебе не помочь!
Детей ты лишила отца…
Сидят в тебе два подлеца
И, злые, глядят через очи
Как мрачные, злобные Сочи…
* * *
К.
Я Вас любил как самый добрый зритель,
Я Вас мечтал, я Вас обожествлял.
Вы стали мне убийца и мучитель,
А я ведь заменял Вам целый зал.
Я послан был,— Истории свидетель,
А не подсобных совершатель нужд.
Я был, сама, простите, добродетель,
Одновременно: скромный тихий муж…
Величие моё Вы не узнали!
И Гений мой, он мимо Вас прошёл,
И во Вселенной, а не в кинозале,
Где ничего не стоит слабый пол.
Среди планет — булыжников и магмы,
Ста тысяч солнц пылающих всегда
Вы повторили путь преступной мамы
И устремились с вызовом, куда?
Туда, где нет Истории. Где пошло.
Лишь плоская растительная жизнь,
Ушли как окотившаяся кошка
Уходит равнодушно… Так? Скажи?
* * *
К.
«Он мне никто, и я не с ним!»
— Так женщина лгала.
Летал по небу херувим
С улыбкой в два угла.
Вставала кислая заря
Шампанским смятена…
Я думал: «В фас, придирки зря»,
Но лживая спина,
У этой женщины была.
И я не верил ей.
Когда же женщина ушла
Чрез пару сотен дней,
То выяснилось, что живёт
Под крышею одной
С ней рядом тот, с ней рядом тот,
О ком лгала спиной…
* * *
Любит не тот, кто хвалит,
А тот, кто в ночную тьму
Глаза бессонные пялит
И матом, как на Колыму,
Отправленный, сопровождает…
А между тем, светает…
Любит не тот, кто хвалит:
«Божественная!», «царица!»
А тот, кто отсюда валит,
Туда от тебя стремится
Ещё и убить грозится…
Мы видели, знаем сами
Такое под небесами
Разнузданных злоб разбой
Видали мы между собой,
Но я был всегда с тобой…
Чего же ты натворила?
Зачем же ты в Вечности так
Грязнейших следов наследила!
А дети? А я? Мы, как?
Непоправим наш брак,
Теперь он не брак, а мрак…
А дети? А я? Мы, как?
Три крысы
Ну ты хоть плачешь иногда?
Ведь твой,— Великий грех!
Четверг ли это, иль среда
В ночи, часов до трех,
К тебе бы приходить должны
В зловонии, в дыму
Твои ужасные вины
Терзать тебя саму,—
Три крысы, чтоб тебя глодать.
«Где наша, где семья?»
Две,— дети твои, злая мать,
А третья крыса,— я!
Нет, ты не плачешь никогда,
Поэтому в ночи,
Четверг ли это, иль среда
Придём мы, палачи!
Да, мы тебя с ума сведём,
Преступная ты мать!
В обезумении своём
Заставив нас страдать,
Ты не подумала о том
Что бед не избежать!
* * *
К.
Мой сын находится в плену
Как Яков Джугашвили.
Он увезён тобой в страну,
Где люди, цвета пыли
Живут на низких берегах,
Зевают, спят, смеются…
Где пальмы (ветошь на шестах)
Согнутся. Разогнутся…
Где наркоман с лицом змеи
Глядит на диск заката.
Преступны действия твои,
Ты, Катька, виновата!
Мой сын находится в плену,
И дочь моя там бьётся,
Придётся мне вступить в войну,
Ещё одну, ещё одну,
Не хочется, придётся…
Мой сын там маленький бредёт:
Собаки, грязь, бананы,
А в дочери моей капот
Вцепились обезьяны.
Зачем ты стала злая тварь?
Случилось что с тобою?
Мозг ЛСД сожгла ли гарь?
Или мозги травою
До дури так оглуплены,
Что ты детей украла
И быстро-быстро из страны
Малюток ты умчала…
Полковник и зверь
Дождь шелестит, дождь падает на жесть,
А у меня теперь подруга есть
С такою замечательною попой!
Что хочешь делай: тискай или шлёпай!
В потоке ностальгических мгновений
Подруга из грядущих поколений
Явилась, и уселась на постель,
В ней узкая, волнующая щель,
Две разные трепещущие груди,
Мне повезло, завидуйте мне, люди!
Подруга в красном платье красоты
Элен,— Лилит, как хочешься мне ты!
Сижу в Москве, слюну один пускаю,
Хочу тебя! Моих инстинктов стаю
Пока могу, держу, не выпускаю.
Но видно долго так не протяну…
Хочу тебя, как офицер — войну,
Как молодой воспитанник училищ
Во сне желает победить страшилищ!
* * *
Е.
Сидел я в стенах страстных и печальных
И думал о былом, былом, былом,
Восторгов от меня первоначальных
Вы больше не дождётесь. Напролом.
Я думаю, идти нам пригодится,
Я рву тебя воинственной рукой.
Лучом из тьмы изъята ягодица,
О, я готов побыть с тобой, с такой…
Я разорву здесь пепел безнадёжный
И будет солнце нам всегда зиять,
Внутри твоей чудесной плёнки кожной
Твоё устройство стану осязать…
* * *
Е.
В России медлит потеплеть,
Всё думаешь, чего б надеть..?
Включаешь обогрев с утра.
Где ж летняя жара?
Москиты медлят, не жужжат,
Рождаться в холод,— сущий ад!
А у тебя такая грудь!
И тесный в попу путь…
Перед моим же взором дом
Необитаемый, и в нём
Скрываться может там стрелок!
Мне мой неведом срок!
Услышу, как звенит стекло?
А тело пулей обожгло,
Как тысячью крапив,
Но я останусь жив…
В России медлит потеплеть
Я на тебя залезу впредь
Как на кобылу конь,
В дыре твоей огонь!
Лола
Плескается Лола. Шумят года.
Никто не уйдёт живым…
Смыкается в ванне моей вода
Над телом твоим молодым…
У ведьмочки жёлтый побритый пах
Выныривает из вод,
Я весь тобою промок, пропах,
Я врос в твой, Лола, живот.
Я жопу твою тиранил в ночь,
Я все перебрал волоски
И качество жизни сумел помочь,
Поднять, нас стерев в порошки.
Мужчина и женщина: зверя два,
Нам вместе пришлось сойтись.
Постель потоптана как трава
И нас покрывает слизь.
Мужчина и женщина. Блядь и солдат.
Рычанье, удары, борьба,
Но вместе гудят и стучат в набат
Набухшие сердца два.
Качает нас страсть и нас похоть берёт
И мы не любовью тут…
Но в зад и вперёд и конечно в рот
Друг друга два зверя бьют
Я плечи твои до утра ломал,
Я рот твой объел как плод,
Ещё и ещё я в тебя совал…
Ведь Вам двадцать третий год.
Песня
Хорошо, что тихий вечер
Навалился на долины,
Не хватает, чтоб запели
Золотые мандолины…
Чтобы ослик бы, бедняга,
За собой влачил тележку,
Не хватает, чтоб бродяга
Торопился бы в ночлежку…
Чтобы мясо бы шипело,
Чтобы пробки вылетали
И Кармен сплошное тело
Разделилось на детали…
Дайте кружев, дайте цокот,
Дайте девок на копытах,
Пусть нас сотрясает хохот,
Позабудем об убитых…
Хорошо, что тихий вечер
Опустился над Москвою,
Что сидит напротив девка
И что ляжем с нею двое…
Полковник и зверь
Холодная осень в сегодняшнем дне
И прыгнула осень на сердце ко мне,
Но мы здесь живём теперь двое в квартире
На кухне питаемся хлебом на сыре
Голодный, большой, черногривая Зверь,
Поэтому осень уйди, не теперь!
Тебе не осилить Полковника с Зверем,
К тому же мы даже и в Бога не верим…
У Зверя две сиськи, две попки, три дырки,
Она так рычит, что в далёкой Бутырке
От стонов её распаляются узники
(Которые дяди нам нынче союзники).
Она так ласкается, словно в горячем
Арабском я море купаюсь незрячем,
Она так виляет копытом и крупом,
Что похоть внушает фактически трупам.
«Со зверем таким проживу двести лет…»
решает Полковник. Готовит обед.
Восторженный, юный, ворчливый и бравый
Полковник готовый и слева и справа…
* * *
Идёт война между полами,
Война идёт, война идёт.
И всякий день сразиться с нами
Алкает с сиськами народ.
Он выдвинулся мощным клином,
Он двинул сказочным бедром,
На нас пошёл германским свином,
Фалангой греческой потом.
Они страшны, простоволосы,
Они кричат, они рычат,
Они совсем голы и босы
И адским запахом разят.
Впотьмах наносятся удары,
Не мягкотелые вожди,
Но девки — смелые гусары,
Но бабы — сильные в груди.
* * *
Нажравшись и напившись,
Как молодой солдат,
На Вас я повалившись,
И очень этим рад.
Большие Ваши груди,
Вы тонкая ладья!
Мы с Вами разве люди?
Владею Зверем я…
Е
Я и стар и беден, и я груб,
Мой дом не ломится от шуб,
Я выгнал женщину за дверь.
«Пошла, пошла, проклятый Зверь!»
Я стар. Я беден. Знаменит.
Мой Рот античностью разит.
Я сразу Ромул, вместе Рэм,
Но я прекрасен тем,
Что смело шашни завожу,
За незнакомками слежу
И от пленительнейших фей
Балдею я, злодей.
Да я прекрасен тем, ma chatte,
Что не брезглив, аристократ,
Что пью и бренди и кагор
И слушаю твой вздор.
И бровью я не поведу,
Пусть сядут НЛО в саду,
Пусть сядут НЛО в саду
Ведь я давно их жду…
Я остаюсь опять один
Я остаюсь опять один
I
Я остаюсь опять один,
Ребёнок капитана Гранта,
Читатель Гегеля и Канта,
Французский скромный гражданин.
Мне Немо капитан знаком,
Он был подводным моряком,
Служил в Тулоне, и в Марсель
Он приезжал пить «эль».
II
Без женщины остался я один,
Ребёнок капитана Гранта.
И размышляю, блудный сын,
О свойствах «эля» и таланта.
Мне Немо капитан знаком,
Я тоже стал бы моряком,
С Рейкьявика бы плавал до Пирея
И альбатрос бы, надо мною рея,
Мне сообщил бы чудную возможность
Бодлера на французском вспомнить сложность
Про мощных птиц, бесстрастных альбатросов
Забавою служивших для матросов…
Да не пришлось…
Переезд
Я бросил несчастливую кровать
И эту, в Сыромятниках, деревню,
В которой можно было зимовать,
Глядя на сад, задумчивый и древний,
Я бросил несчастливую кровать…
Где спал я с женщинами поколений разных,
Иных — задумчивых, а этих — безобразных…
Кровать не будет, впрочем, пустовать,
Домохозяйка будет зимовать
И просыпаться от чревообразных,
На вой похожих женских голосов…
Ей просыпаться будет в пять часов,
Тяжёлая, безумная работа,
А просыпаться, ясно, неохота…
Простите мне Ивановна, та чью
Я занимал на пять на целых лет квартиру,
Седому бабнику и командиру,
Что призраков оставил Вам семью…
Но вспомнят, вспомнят, что я жил у Вас,
Пока нас не накрыл всех медный таз…
Мулен Руж
В двубортном пиджаке
С стаканом в кулаке
Подходит, словно злой авторитет,
И никаких ему пределов нет…
У ней большущий рот,—
Накрашенный овал,
Окурок замечательно идёт,
Как будто кто его пририсовал…
Она стоит в углу
И туфелькою трёт
Окурок, ею сплёванный, в золу
А он подходит, за руку берёт…
Так начинался их большой роман —
Блондинки, и его,
Мерзавца, одного,
А в это время грохотал канкан…
И юбки к потолку,
И целый ряд трусов,
У гангстеров улыбки до резцов
И бьётся струйка крови по виску…
Вот так! Вот так!
Там совершался страшный кавардак,
И в ту Мулен, что Руж
Стремился каждый муж
На свой уикэнд, и если в отпуску!
Вертинский
Он начал жизнь поэтом,
Закончил музыкантом,
Он выступал дуэтом,
Стоял с огромным бантом.
Подногти кокаином
Он забивал нередко,
Был силуэтом длинным,
Был денди и кокетка.
Он был не эпопея,
Но бледная стихия.
К нему слетала фея,
Он не чуждался кия.
Блуждал по биллиардным,
По рюмочным сидел
И ромом контрабандным
Не раз желудок грел…
* * *
Ветер Истории дует в глаза
И вот выползает слеза…
Про Гёте, товарищ, напомнил ты мне?
Мне Мефистофель приснился во сне.
С Буонапарте подписку берёт,
Хвост Мефистофеля по полу бьёт,
Буонапарте подрезал мизинец
И получил всю Европу в гостинец.
Ветер Истории Гегеля полы
Славно раздул. Вильгельм-Фридрих весёлый
Маркса тяжёлого предвосхищает,
Гитлер за Гегелем мрачно шагает.
В венской ночлежке, где скучно и сухо,
Гитлер читает «Феномен-ологию духа».
В танковой битве под Курской дугой
Гегеля школы сошлись меж собой.
Гусениц лязг, вот устроили танцы
Гитлер и Сталин, нео́-гегельянцы…
Мощных снарядов и мощной брони
Нету кровавее в мире резни,
Чем разбирательство среди родни!
Ветер Истории, дуй мне в глаза!
На Вашингтон навалилась гроза,
Но в ожиданьи Пунических воин
Космос спокоен. Космос спокоен…
Мефистофель и Гретхэн
Знаете что, молодая блондинка?
Это — копыто, а не ботинка!
Это, простите, моя принадлежность,
А не ошибка, а не небрежность.
Да, это так, молодая блондинка,
Я Мефистофель, а Фауста нет.
Фауст ушёл, покупает билет,
Но Вам зачем он, о паутинка!?
. . . . . . . . . . . . . . .
Он покупать, покупает билет…
Я Вам сказал, что фон Фауста нет.
Этот германский учёный романтик
Из дому вышел, поправивши бантик…
Ну ничего, ничего, ничего…
Вы не жалейте, что нету его.
Я Вам его заменю, ведь я тоже
Аристократ и учёный вельможа.
Гретхэн, останетесь! Гретхэн, садитесь!
Ладно, расслабьтесь! Облокотитесь!
Вам наливаю вот это вино,
Лучше вина не пивал я давно…
(в сторону)
Адское зелье! Чудесная смесь!
С девок и женщин немедленно спесь
Сразу слетает, дама вздыхает…
И вот сама меня нежно хватает…
Хвост мой рукою гладит и мнёт
И меня тащит на жаркий живот…
Гретхэн, что с Вами?
Вы стали нескромны…
Фауст придет. Что мы скажем ему?
О, как глаза у Вас страшно огромны
И затмеваются, как бы в дыму…
(некоторое время спустя)
Фауст? Фон Фауст, я должен признаться,
Здесь уж давно перестал проживаться,
Мы с ним поссорились прошлой весной,
Ты, моя дочь, согрешила со мной…
. . . . . . . . . . . . . . .
С визгом она от меня убежала,
Ну, разумеется, Гретхэн пропала.
Ну, разумеется, в прежние лета,
Власти её наказали за это…
Голову бедной палач отрубил,
Гёте потом про неё говорил
В толстом труде, эпизодом искусства
Гретхэн остались лучшие чувства.
Эпитафия Э.Л
Он говорил по-французски и по-английски,
Он сидел в тюрьме и воевал.
Он был таким, каким ты никогда не будешь.
Этот парень всё испытал.
Его девки любили. Он был им интересен.
Он любил вино и любил хохотать.
Он сложил ряд стоеросовых лоботресин,
А ещё он умел сотрясать кровать.
На склоне лет ему удалось родить злодеев
[Тебе не удастся, как ты не пыхти!],
Маленьких гениев, этих змеев,
Он сбил, папаша, с праведного пути…
Прохожий, сука, навытяжку гад!
Здесь лежит старый пират…
P. S. Он предлагал найти и съесть Господа Бога!
Согласись, что таких немного…
Н.М.
Она называла меня «Ли»,
А ещё называла «Пума»,
Она, бывало, сажала меня на раскалённые угли,
Но я выжил её угрюмо…
Я вспомнил, когда она умерла,
И когда, они её сожгли,
Что у Эдгара По есть баллада зла
О девочке Аннабель Ли
«В королевстве у края земли
Эти люди её погребли…»
О Аннабель Ли, Аннабель Ли,
Ты ушла от меня в зенит.
Пять лет, как скрылись твои корабли,
Но сердце моё болит.
Я буду спать до середины дня,
А потом я поеду в кино
И охранники будут глядеть на меня,
Словно я одет в кимоно.
Ты называла меня «Ли»,
А ещё называла «Пума»,
Я один остался у края земли
В королевстве тутанханума…
Дочке Саше
Маленькая волчонка
В красненьких ползунках,
Есть у меня девчонка
Тихая, как монах.
Носик ещё опухший,
Головка ещё длинна,
Сквозь мамкин живот набухший
Вылезла в жизнь она.
Мой тебе, Александра,
Крепкий мужской завет —
Есть ведь у папки банда
Лучше которой нет.
Деток зовут «нацболы»,
И потому хочу
Не отдавать тебя в школу,
К нацболам тебя приучу.
Будете, мои дети,
Ты и шальной Богдан
В банде расти на свете
А папка,— Ваш атаман.
* * *
Мои детишки элегантные,
Вам посвящаю я псалом,
Да будете Вы доминантные,
Всегда, над всеми, и во всём!
Отец Ваш Вам желает страсти,
Желает пения страстей,
У Вас не мало будет власти
Над скушным скопищем людей.
Сашуня смотрит за Богданом
И умеряет его пыл,
Богдан не будет хулиганом,
Тебе я парня поручил!
Богдан девчонку охраняет,
Охрану на себя берёт,
Оружием пацан бряцает,
Но волос на себе не рвёт.
Вы завоюете полмира,
Полмира сами прибегут,
Ну что ж, Вы дети командира.
И потому Вас лавры ждут.
Триумфы, флаги и фанфары,
Возможно, белые слоны,
От стройных сосен до чинары
Захватите Вы для страны
Разнообразных территорий,
И да поможет вам Егорий,
Георгий то есть наш святой
Во тьме грядущих категорий
Я — покровитель Ваш сплошной…
Мой принц, мой сын!
Мой сын и белокур и нагловат
Как молодой маркиз де Сад,
С такою сладострастною спиной
Он обещает справиться с любой
И с девочкой, и с опытной вдовой!
Мой сын и белокур и нагловат,
Каким был Моцарт и маркиз де Сад,
Пока ещё он радостный бежит
К своему папке [Папка знаменит
Он носит шляпу и живёт с танцовщицей.
А мог вообще-то жить и с дрессировщицей…]
Бежит мой сын, смеётся из всех щёк!
Глаза распахнуты, глаза его пылают,
Всех ближних мам и девок обаяют.
Мой принц! мой сын! Я рад тебе, сынок!
* * *
Стучат мячами. Гул стоит
И щебет голосов,
Но меч над городом висит
И он упасть готов.
Играют дети в баскетбол,
Качается качель,
Но меч висит. Не добр, не зол,
Неспешно ловит цель…
Светская жизнь
Надевай свой пиджак и иди потолкаться под тентом,
Светской жизни пора послужить компонентом,
Чтоб с бокалом шампанского, в свете горящего газа,
Ты стоял. А вокруг — светской жизни зараза…
Ты пришёл за красивым, ужасного видел немало,
За красивым сошёл, бывший зэк с пьедестала.
Ветерок, дуновение, запах тревожного зала,
Мне всегда будет мало, всего и всегда будет мало…
Светской жизнью, где устрицы вместе с шампанским,
Не убить мне тюрьмы с контингентом бандитским и шпанским.
И какой бы красавицы талию я не сжимал,
Буду помнить Саратовский мрачный централ.
Наш «третьяк», и под лестницей все мы стоим, пацаны,
И у всех нас срока до затмениев полных луны.
Пузырьки «Veuve Cliquot» умирают мне на языке.
Пацаны, я ваш Брат, хоть при «бабочке» и в пиджаке.
Я совсем не забыл скорбный запах тюрьмы и вокзала,
Мне всегда будет мало, всего и всегда будет мало…
Надевай свой пиджак и иди потолкаться под тентом,
Светской жизни пора послужить компонентом…
Банкиру Петру Авену
Светлеет небо. Мое сердце пусто.
Висит рассвет широкой полосой.
Паденье цен на нефть и на искусство
Столь глубоко переживалось мной,
Что я проснулся даже до рассвета
И не смыкая утомлённых глаз
Всё думал продолжительно про это
Смятенье бирж. Петля, огонь, и газ…
Банкиров ждут. Банкиры молодые
Соскочат в ночь с высокого окна,
А самые которые лихие
Достанут пистолет. Бокал вина,
Пригубив, выйдут двое на террасу…
Два выстрела, и падают тела.
О кризис, ты убьёшь банкиров массу,
Которая недавно лишь взошла…
Н. Медведевой
Ресторан, там где zoo-магазин был.
[Держали две старые феи…]
Расползлись и покинули милый террариум змеи,
Полнокровные дамы ушли от окон, разобрав свои шали,
И усатый «ажан» уже умер, оставив вело и педали…
Где ты, поздняя юность в Paris и печаль полусвета?
Где холодное, старофранцузское лето?
Выходил из метро я обычно на рю Риволи,
Там к Бастилии некогда толпы бежали в пыли,
Возмущённых де Садом, кричавшим на каменных стенах,
Революция валом вставала в кровавых там пенах.
А во время твоё и моё во дворах ещё были балы,
Вкусно пахло гудроном от каждой потекшей смолы,
Был носатый франсэ, крепко слипшийся с аккордеоном,
Вкусно пахло гудроном, едко пахло гудроном…
Жил в квартале Марэ, выходил из метро я «Сент-Поль»,
Сам не знаю, откуда взялась эта поздняя боль…
Впрочем, знаю зачем я сегодня болею,
Магазин вспоминая, в витрине которого змеи…
Потому что обычно ты там со мной рядом стояла
И пугалась, визжала, и руку мою зажимала,
А теперь тебя нет. Разве тень упадёт мне на шею
Я забыть никогда твой испуг, никогда не сумею…
Это было в июле, в дрожащем от зноя июле,
По Бастилии дробно лупили старинные пули…
А два века спустя мы с тобой посещали балы, танцевали,
Ты была так красива, что нас все «франсэ» замечали…
К Наташе Медведевой, о ящике
Да этот ящик нам служил,
Когда Вы жили на Земле,
Но вот уж год шестой поплыл,
Как Вы воплощены в золе.
Вы стали жалкий минерал,
Песок какой-то через пальцы,
О, неужели я желал
Вас целовать, вот этот кальций?
Вот этот неживой нитрат?
А были вы свежи и пьяны
И кажется сто тысяч крат
Я повторял с тобой романы…
А этот ящик из картона
Всё жив, всё жив, моя мадонна,
И я переезжая вновь
Кладу в него мою любовь…
Богдану
У короля ребенок — Принц,
Он — бело-золотой,
Он держит лилию в зубах,
Он страшный и простой.
У короля ребёнок-чёрт
Смеётся как шальной,
Король ребёнком страшно горд,
Отец его родной…
Пусть мальчик бьёт посуду, бес,
Пускай он смотрит в лес,
Король, корону отложив,
Смеётся, мёртв и жив.
Ведь это сын его родной,
Былинка золотая!
Абрис кудрей его святой,
Но голова шальная!
* * *
А старый пират пишет детям стихи
И нежности курочек кормит с руки.
А старый пират, нахлеставшись вина,
О детях своих замечтал допоздна…
* * *
Познакомиться бы мне с голубоглазой
Девушкой, невинною блондинкой
С тонкой талией, с широким тазом,
С умною крестьянкою, глаз льдинкой.
Белые пленительные зубы
Закрывают пламенные губы,
Весь раздулся от грудей корсаж,
А зовут Настасья иль Наташ…
Где ты ходишь, беленький цветочек?
Почему не встретилась ты мне?
В «Волге» проезжая много точек
Я тебя не встретил, мой кусочек,
Мой комочек в золотом вине…
Мне бы тело белое. Ночами,
Как Отелло стану истязать,
Не побрезгуй моимя годами
И позволь тебя за попу взять…
* * *
Как лука злой полукружок
Луна над городом висела,
Что ж делала, ты мой дружок?
Кого ты к вечеру хотела?
Ты может быть была одна
И книгу страшную читала,
А может быть бокал вина
Ты наполняв, опустошала…
Я Фаустом тебя любил,
Я знал, что ты лежишь нагая,
Развратный старец, педофил…?
Ну потому что ты такая!!!
Я Фаустом, как Фау-2,
Хотел бы вдруг в тебя вонзиться,
И загорится вдруг трава
И ты завоешь, как волчица…
Развратный старец, педофил,
Сидел и ел свой скромный ужин,
Ноябрь в первом доме был,
Был лук луны ополукружен…
* * *
Банкиру Френкелю вломили
Тяжёлых девятнадцать лет,
Козлова якобы убил и
Козлова между нами нет.
«Пыжа» все ж Френкелю не дали,
Хоть прокурор «пыжа» просил,
Козлов же, вспомним все детали,
Зампредом Центробанка был…
В банкирских войнах погибают,
В банкирских войнах месть и злость,
А миллионы наблюдают.
Что с единицами стряслось…
Их жёны, бледные как пламя.
Живут уже погребены,
Банкиры бродят между нами,
Солдаты тайные войны.
Банкир банкиру угрожает,
Повесил галстук, и идёт
Он в ресторан, и нанимает…
Напился киллер и блюёт,
От первосортного «Мартеля»
От превосходной «Veuve Clieguot».
Рука не дрогнет у картеля,
Вдова всплакнёт,— Манон Леско,
Автомобили по столицам,
Как прежде, будут разъезжать
И мазать фарами по лицам,
И мазать фарами опять…
* * *
Одна из каменных столиц,
Где площади без птиц,
Ни метра нет земли живой
И демоны над головой
На зданиях сидят,
Таков наш мрачный град.
Ни метра нет земли живой,
Зовётся всё это Москвой,
Свет адский брызжет круглый год,
С хвостами весь народ.
Столицы мэр обличьем сер
И инеем покрыт
Зловещий мрамор плит.
А под асфальтом, в темноте,
Чудовищ яйца на хвосте
Рептилии несут,
Их размноженья зуд
В начале века одолел,
Но мэр не трогать их велел…
Изъеден, словно старый сыр,
Московский старый грунт,
Рептилий злых подземный мир
Готовит адский бунт.
Грядёт восстание червей,
Чтоб свергнуть власть людей…
Живому быть опасно тут,
Того гляди, Вас высосут,
Как муху пауки
Через глаза, через белки
Бригады бравых демонов
Оставят лишь остов…
Москва-река течёт мертва,
Над ней ни чайка, ни сова
Не пролетят в ночи,
Давно мертвы ключи.
Про то что льётся тихо там
Вам не скажу, мадам…
Городничему
Чего хотите Вы, Лужков?
Чтоб я Вам заплатил
За правду сказанных мной слов,
Насчёт покорных Вам судов..?
Я Вас не оскорбил…
Я лишь сказал, что мрачный мэр,
Как в старину, как в СССР,
Как при царях-тиранах,
Как в потных бантустанах
Суды под зад свой положил
И тем на них почил…
Я знаете, читал опять
Недавно «Ревизора»,
Я Гоголя хотел понять,
Желал причины раскрывать
Холуйства — нацпозора…
Чего хотите Вы, Лужков?
Градоначальник буйный,
Кумир чиновников-рабов,
Ваал их пескоструйный.
Зацементировав Москву,
Вы ждёте лишь поклонов?
Но свою голову пред vous,
Не наклонил Лимонов.
Поэт осмелился сказать
Вдруг мэру-истукану
Простую, Юрий, правду-мать,
Что рты ты склонен зажимать,
Но я молчать не стану.
Хоть ты сажай меня в тюрьму,
Хоть рви меня за ворот!
Надел ты на меня суму?
Тем самым, сам ты порот…
Тебя истории печать
Клеймом своим засудит:
«Сей городничий, злой как тать,
Велел поэта разорять?
Так пусть он проклят будет!»
В веках он проклят будет!
Три утра
Дома стоят полночными террасами,
Комодами, буфетами, и кассами,
Их окна лампами электро-минимальными
Парят над улицами аморальными.
Дома космическими кораблями
Висят, торчат, и высятся над нами,
А мы проходим, словно тараканы
Сквозь арки улиц, щели и капканы
Злых переулков, где коробок стая
Стоит разнообразно поникая…
Ещё река там, за спиной у зданий,
Течёт особой формой наказаний,
Она, таинственная, нет в реке воды,
В ней есть лишь яды, черви и гады…
Если Вы червь, то в три часа утра
Вам заползать на пьяного пора,
В дыхательное горло путь держать,
Как можно глубже, дальше заползать…
Если Вы гад, и гад членистоногий,
То стоит Вам найти подъезд убогий
И ждать там шлюху, девку отупелую
И сжать её там совершенно белую…
Если Вы Волк, то в три часа утра
Вам прыгнуть на прохожего пора
Перекусить злокозненную шею
И кровь лизать… я, впрочем, не умею…
Дома стоят, мигают и моргают,
К ночным злодействам нас располагают…
* * *
Я предлагал этим женщинам бессмертие,
Но бессмертие было им не необходимо,
Они нуждались в деньгах и славе,
Даже моя любовь не была им нужна…
Славу я дал им, денег не смог,
Какие деньги у пророков с поэтами!
Они были красивы и неприятны
И потому приходили и уходили
О, эти мои женщины!
Воистину, жизнь моя — проходной двор…
Ни одна из них не любила меня так,
Чтобы обнять и плакать,
Все они меня вампиризировали…
[Я написал «обнять и плакать»?
Какая оплошность! Можно подумать,
Что я хотел бы чтобы меня жалели?
Меня? Жалели? Язык оскользнулся мой знать.]
Буря
Всю ночь здесь буря бушевала,
А утром снег ещё пошёл,
От ветра южного качало
Мою квартиру, как престол
Царя, которого свергает
В порыве диком злая чернь,
Но царь престол не покидает
Сидит, сыновен и дочернь.
Вцепился в трон, немеют пальцы,
Так дул мне ветер в три окна,
Как будто злобные малайцы
От пальмового от вина,
От изумрудного бетеля
Все впали в амок, триста душ!
Как будто яростный, к постели
Жены неверной прибыл муж!
Так дуло в декабре и выло,
Под тридцать метров ветер был,
Я видел, баржа — проходила
Москвой-рекою. Тупорыл
Буксир тяжёлый плоским телом
Утюжил воду навсегда
И думал я: — За коим делом?
Нужны мне все мои года?
Мой горький опыт наслажденья,
Мой страстный опыт без штанов?
К полудню рёк мне дух сомненья
«Умом и духом ты здоров!
И будешь продолжать питаться
Из юных девок сок сосать,
Вампиром старым наливаться,
Как клоп, какая благодать!»
Спасибо буре. Просветлила!
Спасибо буре. Сгоряча
Наотмашь по щекам мне била
(По окнам) — тем меня леча!
Комсомолка
Сидим: я — старый классицизм
И ты,— левретка молодая,
Ты веришь в красный коммунизм
И лаешь ты не умолкая.
У нас борьба идеологий,
Что ж телом телу не помочь?
Сижу, гляжу, седой и строгий,
Как быстро наступает ночь…
Меж нами возрастной барьер,
Так рассудил бы обыватель,
Но я же не типичный сэр,
Но я же вечный соискатель
Любви. А ты про молодёжь,
Союз свой юных коммунистов,
Я думал: ты ко мне придёшь.
Берет свой снимешь, и неистов,
Каскад волос твоих падёт
На твои плечики лихие,
Я лучше всех тебя возьмёт,
Не то что мальчики. Глухие
Они к концерту твоему!
Я лучше их тебя возьму…
Но отдалённая сидела,
Пока мне ты не надоела…
«Иди отсюда! Вон пошла!»
Как дева старая, сухая,
Так комсомолка убрела…
А впрочем, может как святая…
* * *
На разукрашенную ёлку
И на играющих детей
С японской биржи, втихомолку,
Глядит худеющий «Никкей».
А РТС паденьем в бездну
Уже догнал ММВБ
И если захотят вдруг бесы,—
Мы все окажемся в трубе.
Там будут вшивые вокзалы
И ледяные поезда,
Туда стремятся бирж обвалы,
Туда, стремительно туда!
Где кипяток в железных кружках,
Болезни, голод и разбой,
Где не прикрыть лицо подушкой
Перед бетонною Москвой.
Где ходят гвардии лихие,
Где носят спирт и пулемёт,
Там возмущается Россия
И возмущается народ…
Итак, грозя войной гражданской,
Приходит к детям Новый Год,
А взрослый, словно перед Каннской
Пред страшной битвой битвы ждёт…
* * *
Ещё в детстве я решил давно,
Что хочу быть бедным и аскетом,
Хлеб жевать, и если пить вино,
Покупать его большим пакетом,
Чтоб дешевле стало мне оно.
Понимал я, что прекрасна святость,
И отказ от бременей и уз,
Не пугала даже и проклятость
Я в тюрьме аскезы понял вкус,
Был я твёрд и стоек как Ян Гус…
[Благородно, с нимбом над челом,
Каши есть святые день за днём
И зияют два прозрачных глаза
Пламенем вселенского экстаза…]
Я хотел и стал. Я понял тайны
Мне смешны все ваши поведения
Если в церковь я вхожу случайно,
То вхожу я в церковь без волнения,
Там сдают всего лишь помещение
Для свиданья с Богом: мое мнение.
Я гляжу: посредники-священники,
Злые мои дети соплеменники
На все Ваши мелкие дела
Моя риза чёрная бела
Мои джинсы — старые как время…
Нас сажали, помню, на осла
В Иерусалим смотрело темя…
* * *
Сижу как Сталин над страной,
Этаж девятый мой.
«Настольной лампою моей
Испуган будь злодей!
Моей согбенною спиной
И профилем в окне
О, гражданин страны родной,
Спокоен будь вполне!»
Шепчу я, мудрый, сквозь усы,
Идут столетия…, часы…
Генералиссимус в очках
От трубки дым в клочках…
Фуражка на столе лежит,
Графин с водой стоит.
Сижу как Сталин над страной,—
Этаж девятый мой.
Мой Кремль, мой стол, мой кабинет…
Я Сталин,— старый дед…
В поезде
Гудит железная дорога
Объявши ледяную Русь,
Ты рельсы языком не трогай,
Иди себе, прохожий гусь!
Шагаешь от Владикавказа,
А ждёт тебя Владивосток,
Любая страшная зараза
Готова на тебя грибок
Смахнуть соплёю бледнолицей.
Учитель! Что же ты один?
Вот соболь пробежал с куницей,
А вот проехал блудный сын…
Гудит железная дорога.
Милиционер. Перрон. Вокзал.
Попахивает углем строго..?
Век паровозов дуба дал,
Мы все зависим не от Бога,
От электрических начал…
Какие грязные пространства!
Какой запущенный пейзаж!
Ты даже кепки оборванца
За это зрелище не дашь.
Ничто не развлекает взора,
Бумаги и пакеты вдоль,
Ещё бутылок злая свора
Лежит у полотна… Позволь!
Я штору жёлтую закрою!
Прощай, зазубренный пейзаж!
Россию приготовив к бою
Возьмем её на абордаж!
* * *
Многосторонни деятельности наши:
Сидеть на стуле и спешить в постель,
Держась за груди и за бёдра Даши,
Качать ребенка, обхватив качель…
Патрон вгонять в холодный ещё ствол,
Любой нам род занятий подошёл…
Многообразны деятельности нас,
У каждого есть свой иконостас:
Иному Гитлер вдруг иконой служит
И ничего себе, живём, не тужит…
Иная поклоняется Монро,
И ходит, в шляпе укрепив перо…
Иной идёт, простой рабочий парень,
А приглядишься, генерал Гагарень…
Вот я гляжу в холодное окно,
А там Москва, в которой так темно
И башня Академии наук
Висит вдали как огненный паук.
Ты над Москвой-рекою на пригорке
О, Башня, возвышаешься! Конторке
Подобная, иль ящиков панели?
Размытая как старые пастели…
На выставке
Молодая, юная, как спаржа,
Стройная, зелёная, бамбук,
Девочка стояла на продажу,
Выхваляясь средь толпы, и вдруг…
Нет, не так! Я Вас увидел юной,
Вы стояли осью центровой,
Бегал муж Ваш — олигарх картунный
Вокруг Вас, с изогнутой спиной…
Ясное, известное мне дело,
Точно так же, но давным-давно,
Девочка другая так глядела
На меня, через очей окно…
— Вы красиво, Фауст, постарели!
Девочка могла б меня спросить.
— Доктор Фауст, смею еле-еле
О себе напомнить, может быть?
Выставка, моргали лиц картины,
Выставка, фотографы, вино…
Я ходил спокойный, благочинный,
Всем чужой уже давным-давно…
И меня, представьте, все боялись!
Женщины, фотографы, мужья…
— Как давно мы с Вами не встречались,
Ученица лучшая моя!
— Я Вас съем, я Вас обезображу!
Сделаю покорной и святой!
Я Вас грязью, девочка, измажу,
Задавлю своею наготой!
Доктор Фауст… шрамы, пятна, шрамы,
Старой шерсти дикие клоки,
Полезайте на мои лингамы,
Провалитесь же в мои пески!
Ваше столь взлелеянное тело,
Знаю, не захочет лоск терять,
Но заставлю я его умело
Писать, плакать, кашлять и страдать.
Можно жить, минуя все эксцессы,
Но зачем, когда так хороши,
На полу валяются принцессы
Те, кому пришёл туркменбаши…
Нет снега
Где я совсем один живёт,
Мне южный ветер в окна бьёт,
Нахальный, слово старый вор,
А у Зимы — запор.
Снег был объявлен. Не идёт,
А скоро Новый Год.
Присела, тужится Зима,
Мороз сковал дома.
Застыла грязь, деревья злы,
Глаза у птиц круглы.
И не летает воробей,
Не засыпает змей…
И над берлогою медведь
Давно устал сидеть…
[Гипотетический медведь,
Его не рассмотреть…]
Колыбельная
Спи, милая, спи,
Если сходила пипи.
Ножки разброшены,
Сиськи взъерошены
В гнёздышке нашей любви.
Спи, милая, спи,
Но не храпи, не сопи…
Ночь наступила давно,
В доме напротив темно,
«Сахарный лев» торговать перестал,
«Сахарный лев» задремал…
Сиська на сиську легла,
Я не убрал со стола…
Наши бокалы вдвоём,
Слился с Гоморрой Содом,
Сиська на сиське,
Я в твоей письке,
Так вот всегда и живём…
Спи, милая, спи…
Ты ведь сходила пипи…
У Вятки, или же Перми
художнику К. Васильеву
Под белоснежными орлами,
Где ветер гонит ямщиков,
Ты, Русь, лежишь семью холмами,
Семь на семь белых городов
Твои часовенки — подружки,
Твои источники чисты,
Их вечно не ржавеют кружки,
Нетленны над водой мосты.
Ты аскетически красива,
Где Вятка, а за нею — Пермь,
Чуваш прищурился курсивом
И губ лоснится эпидермь.
И белый клок волос по ветру —
Чувашка с белыми детьми
Идёт пешком по километру
У Вятки, или же Перми…
Зеленоватый храм поднялся
И левитирует теперь
Пред куполами застеснялся
Потупил взор косматый зверь.
Отшельник ветхою полою
От ветра прикрывает срам
Простясь с зловонною Москвою
Сюда бежал он как Адам…
Колдун летает с колтунами
И угро-финские снега
Лежат в гармонии со снами,
Ты мне Россия, дорога…
В твоей ладони крошек хлебных
Я горстку бедную найду,
А что до злыдней непотребных,
Те будут мучаться в Аду.
Там, под Парижем и Варшавой,
А здесь, у Вятки и Перми
Спешим, шурша ногою правой
Как водится между людьми…
Слава России!
Крутится, вертится роза ветров,
Ты к полнолунию будешь здоров.
Астмы колючей припадки пройдут,
Небо очистится, good будет good.
Good будет полный, прекрасный погод.
От олигарха подруга уйдёт.
Зонтичной пальмой, с тобой, баобаб,
Несколько лет проживет этот баб.
Юный, зелёный и сочный внутри,
Хочешь — используй, а хочешь — смотри…
Солнце взбирается как акробат,
День прибавляет, как в весе солдат,
Что истощённый, в деревню прибрёл
И у вдовы загостил, новосёл…
Будет в стране замечательный good,
Клике чекистов наступит капут,
Вскроются чёрные все облака
Солнце зальёт нам орудья полка.
И заблестят, засияют они.
Слава России! Как в прошлые дни!
Слава России! Орудьям,— ура!
Время латуни и бронзе пора!
Смело забудем героев пластмасс,
Good будет полный с восстанием масс…
* * *
Как в перископ, иль через бублик
Я вижу уходящий Книн.
Гербы исчезнувших республик
Я вспоминаю, верный сын.
Такого сербского народа,
Который и меня включал,
Я вижу Книн, и год от года
Пронзительней его овал.
Ты, в голубом венке из пиний,
Прощай, республика навек!
Я уезжал как Старший Плиний,
Безумный русский человек.
Я до сих пор Вас помню, братья,
Меня от Вас не оторвать,
И гор тяжёлые объятья
Меня сегодня станут мять.
В горах дымы и перестрелка,
Х’рваты начинают бой…
Пошли, Аркан. В дорогу, Желко!
Мне по пути опять с тобой…
У олигарха
Все улыбаются счастливо,
У всех довольные лица́,
И девушки трусят красиво
Из зала дальнего конца.
Доходят к ближнему пределу,
Но дальше в двери не идут
И даже негр есть, он не белый,
Зачем же негр, простите, тут?
Хозяин широтой гордится,
Он очень добрая душа,
Он мира гражданин. Как птица
Меж стран летает он, спеша…
Ему что жёлтый, что зелёный:
Он любит всех, он любит всех,
Он даже в женщину влюблённый,
Что носит не звериный мех.
Чья шуба сделана из грязи,
В пластмассу переведена
Сто орхидей, ввезли из Азий,
Из Индонезий, от слона…
Вдоль орхидей здесь олигархи
Стоят как мутная стена,
Где Геродоты и Плутархи,
Воспеть бы наши времена!
Представим, бродит здесь прохожий…
Так он бы всех поубивал,
Оставив ту, чья нежность кожи,
Лица блистательный овал
Ему яйцо напоминает,
Себя ты девка продала!
Ну да, обычно так бывает,
Что манекеном ты была…
Рождественское. 25.12.2008
Средневековье. В яйцах зуд.
Ликёр «мальвазию» везут.
Отсекновение башки?
И запах из прямой кишки?
— Нет, молвил, герцог Кларенс!
Себя он в бочке утопил,
Ликёр «мальвазию» любил
И вот для Англии родной
Покончил герцог так с собой.
Good by! Good by! Отбой!
О, герцог Кларенс!
Средневековье. Лютер прям,
Но в том же Виттенберге, там
Учился доктор, но другой
Замешан в связях, с Сатаной,
О, доктор Фауст!
Нам Лютер с Фаустом нужны,
Они нам не разведены.
Один — монах, другой — балбес,
С которым дружит бес,
О, доктор Фауст!
Но если нужно выбирать,
То стоит Фауста назвать —
Студентов лучший друг и маг,
Бог девок и бродяг
Жив доктор Фауст!
А доктор Лютер — богослов,
Что не сгорел в жару костров,
Он уцелел. Ум порицал,
Теологом он стал…
О, доктор Лютер!
Жаль твою мутер…
Моим деткам
Маленький мой, маленький,
Мальчик мой родной!
Закуплю я валенки,
Для тебя с сестрой…
Будут они кукольные,
Крошечные даже.
И заплачу, у как я!
О детей пропаже…
Папка Ваш восторженный,—
Папка Ваш хмельной,
Мрачный, неухоженный,
Хоть сиди, и вой…
Маленькие мои, маленькие,
Милые, смешные,
Я люблю Вас, аленькие,
Цветики России…
Скоро…
В разбитых куполах гиперторгцентров будут летать птицы.
В стенах парламентов мира будут зиять дыры.
На наш седьмой съезд соберутся полевые командиры,
Обветрены, загорелы, измождены и усталы будут их лица…
На наш седьмой съезд соберутся ещё Боги —
Жестоки, сиятельны, надменны и страшны,
Молоды и стремительны и строги,
Многоноги, многоруки и рукопашны.
Будем мы петь, Боги с нацболами, гимны,
Будем сидеть, нацболы и Боги без правил,
Бог и нацбол, каждый оружье возздравил,
Смотрят герои в зенит, где небеса дымны.
Там наш Создатель в углу свои сети расставил
Время будет начать страшную бойню без правил…
* * *
Всё потеряло прежний вкус.
Спаси, Христос Иисус!
Жизнь не дает мне прежних груд,
Радостей, Полно Иуд!
Мне недоступен аромат,
Мне плохо птички звучат,
Мне не видны все листья клёна,
На мир гляжу я не влюблённо.
Жизнь потеряла острый вкус,
Спаси, Христос Иисус!
Вид из окна
В соседнем доме крыши ровны,
В спокойных окнах дым и чад.
Домохозяйки: Фёклы, Домны
Ножами, бодрые, стучат.
У рук их красные ладони,
Их глаз косит, хрипит их грудь,
Они не люди и не кони,
А посередине что-нибудь
Мужчины, праздны, как солдаты,
Приносят и уносят груз
На подоконник, полосатый,
Забрался краденый арбуз…
В зиму и снег, арбуз? Едва ли,
Лежит там подлинный арбуз,
Скорее мяч лежит в опале,
Забыл свой мячик карапуз.
Вот он стоит на заднем плане
Весь с искривившимся лицом,
Пацанчик тянется к мамане,
А недоволен он отцом…
Таким мне двор большой смотрелся
Через кухонное окно…
Ребёнок сам переоделся,
Отец достал своё вино,
Пришли весёлые подруги
Забрали всю семью с собой…
Стемнело, и порывы вьюги
Закрыли вид передо мной…
1960-й
Девка ссыт, раздаётся сопенье,
От натуги дрожит туалет.
Ярко помню я страх и волненье
Как дрожу я, я — юный поэт…
Девка — зверь, это было открытье!
Накренился животного круп.
Это было большое событье
Как Ноздрёв или как Скалозуб
Хохотал я, вдруг дерзок и груб…
Не священная дева с перстами,
Но горячая сукина дочь,
Всласть поросшая волосами
Зверь со спущенными трусами,
Сиськи выпучились холмами,
Она снилась в ночи мне точь-в-точь.
Как собака большая сидела…
Но стеклянными стали глаза,
Встала, вытерлась, прокряхтела,
Свою сбрую напялив на тело,
Шла вонючая как коза…
* * *
Трупы животных, трупы цветов,
Трупы больших городов,
Трупы слонов, злые трупики птиц,
Бледные трупы девиц.
Запах тяжёлый со смерти полей
Запаха нет тяжелей.
Он распадается запах на
Запах гниения, запах говна…
Запах гнилых чёрно-сизых зубов,
Запах грязных штанов,
Запахи потные гениталий
Даже у выходцев из Италий,
Запахи роз и раздавленных ран.
Мрут и за Библию, и за Коран.
Здесь убивают и здесь же рожают
Трупы таскают… Жрут и икают…
Н
Давно на радио «Свобода»
Нам не звучали, Наташа́!
Нам крики нашего народа,
Где ты, о русская душа?!
На НТВ не поселилась,
Канал «Россия» не пригрел,
Последний раз ты скорбно билась,
Когда Совета был расстрел?
Но коль сидят в тюрьме нацболы
В «Бутырках» или же в «Крестах»,
То слышим мы небес глаголы
И Боги вьются в небесах…
Н
Ты хочешь быть несчастной?
Так приходи ко мне!
Со мной всё невозможно:
Ни ездить по стране,
Ни строить наши планы,
Ведь времени в обрез,
Ни достигать Нирваны,
Ни жить заботы без.
Такие мои годы,
Не долгие года
Из всей большой свободы
Нам лишь доступны, да,
Конвульсии, подружка!
Нас голые тела,
Ты весь мой торс, девчушка,
Собою обняла.
Я вижу мы разнятся,
Я — старый, ты — свежа,
Разделись и пытаться…
Пытаются, дрожа…
И входит в твое тело,
И трёт его, и трёт,
И трёт его умело,
Я, кто совсем не тот…
Эллада
Бородатые боги, загорелые боги,
Клиновидные бороды, сильные ноги…
Тащут в плен? или тащут спасти?
Женщин влажных во влажной горсти.
Фиолетовых скал нависает обуза,
Пифагор на песке чертит гипотенузу,
И Сократ, взявши за руку Алкивиада,
Вдоль гуляет по пляжу, который зовётся Эллада…
Бородатые Боги на склеенных греческих вазах
Волочатся за нимфами, прочно увязли в проказах,
Времена отдалённые. Правят там Киры, Камбизы,
Освежающе шею щекочут там бризы…
Фрагмент
Температура около нуля,
Обледенелый корпус корабля,
Стремит на юг блистательное тело
И чайка подлая над ухом прохрипела,
Что впереди «Земля! Земля! Земля!».
Не женщины в набедренных повязках,
Но эскимосы хмурые в «алясках»
Моторы согревают, и следят
За кораблём холодными глазами,
Тем, на котором мы стоим с усами.
И бороды нас по ветру летят!
Проснулся
Проснулся. Встал,
А время пять…
И невозможно спать
И не о чем мечтать…
Когда бы жизнь я смог начать…
Представьте, с самого начала,
Я б эту захотел кровать?
И этот сгусток одеяла?
Я захотел бы Вас, рассвет?
И Вас — небес хребты, отроги..?
Стою один в шейсят шесть лет…
Стою чего-то на пороге…
Нескучный сад
Автограф банды подмосковной.
Фашистский знак. Большой кулак.
Вот — визг трагедии любовной
Несчастный высек на стенах:
«Наташка — сука!» он взорвался,
Но этой девки телефон
Закрашен чёрным оказался…
Любовник нет, не отомщён…
А мы идём среди сугробов,
Подросток, трое мужиков,
Бетонных посреди чертогов
Советский отдых был здоров.
Пловчиха в воду прыгнуть тщится,
Гребец занёс своё весло,
Беседка над рекой лоснится,
Беседку эко вознесло!
Прохожие и наркоманы,
Возможно, есть здесь и маньяк,
В весенний день тупы и пьяны
Здесь бродят люди кое-как…
* * *
Летал по небу пламенея
Дракон из мяса и огня.
И современники Кощея
Смотрели в страхе на меня.
Я, помню, сверху с визгом падал,
Я, помню, разрывал их вдоль
И становились они падаль,
А я — мистический король!
Невесту взбрасывал на шею,
Она держалась за меня,
И мчал её, как я умею,—
Дракон из мяса и огня.
Созвездья, свечек огоньками
Планеты с жёсткими боками
И Боги, слабые как моль,
Я ей показывал, король.
Потом в вонючую пещеру
Её затаскивал и пил,
Как подобает кавалеру
Её любовью изводил.
И чахла девушка простая,
И умирала от любви,
Мне волосы перебирая
Мои мне рыжие, в крови…
* * *
Шесть градусов. Снег грязный и дырявый.
Пришла в Москву прогорклая весна.
Все девочки пригожи и кудрявы,
А мальчики лишились напрочь сна.
Прийти в кафе, спросить два пальца виски,
Затем идти, ступая в воду луж…
Вы говорите, леди, по-английски?
I do speak English, have no problem, уж…
Так встретились на полотне бульвара,
От воздуха кружилась голова,
Сама собой образовалась пара,
Когда звучат английские слова.
Вы не боитесь, леди, привидений?
Я их боюсь, how terrible they are!
И от её столь сладких ударений
Как жёлтый шар взорвался весь бульвар!
* * *
Пожилые джентльмены
Очень часто крепко дружат
Фауст, лифты бдит в три смены,
Мефистофель-с, в морге служат.
Ходят в гости. Друг для друга
Карты вечером тасуют.
Лифтов нелегка обслуга,
В морге тоже не ликуют…
Параллельно этой паре
Пара девок есть нахальных,
Девки грязные в угаре
Под парами шуток сальных
С Поварской и на Тверскую
На ночных автомобилях
Ездят, спелые, вкрутую,
В модных платьях и на шпилях.
Жизнь свою пренебрегают,
В клубе «Dolls» трясут телами,
Мефис с Фаустом зевают
И качают головами…
Девки-девки, что Вам надо?
Что Вы мчитесь по столице?
Выпить ярость винограда
Как разбуженные птицы…
Вот уселись в лифт телами,
Крепко пахнут, словно звери,
Девки, я прощаюсь с Вами,
Затворились Ваши двери…
Лифта тросы разорвались,
Девки с грохотом убились,
Фауст с Тофелем смеялись,
Шнапсу вечером напились…
Девочка-лайка
(еврейский мотив)
Тумбола-тумбола, девочка-лайка
В Питере мокром на свете жила,
Евка еврейка, а не малайка —
Это меняет нам в корне дела…
Тумбола-тумбола, чёрные косы,
Белые груди и глаз голубой.
И офицеры и даже матросы —
Евке годился бродяга любой.
Тумбола-тумбола, девочка-лайка,
Нос удлинённый и глаз голубой.
Ева жила как портовая чайка,
Фото её увозили с собой.
Тумбола-тумбола, время проходит
И пароходами Питер шумит,
Царь Николашка с престола нисходит
И в революцию Евка бежит.
Тумбола-тумбола, красногвардейцы.
Немцы. Царицыно, тиф, мармелад.
Артиллеристы (тогда — батарейцы),
В плен к казакам попадает отряд.
Евка стоит, гимнастёрка свисает,
Стрижена тифом кругла голова.
Каждый казак эту девку желает,
Евка пропала как в поле трава…
Тумбола-тумбола, есть на Урале
Там Алапаевск,— смешной городок.
Евку из Питера там закопали,
Девочку-лайку военных дорог…
Снег намечается. Жёлтое небо,
Жизнь есть мучительный странный процесс.
Тумбола-тумбола, дайте мне хлеба,
Ведь не могу же я хлебушки без…
Тумбола-тумбола, жизнь отшумела,
И для меня её вывод таков:
Девку снасильничать — плёвое дело,
Девку родить — это куча делов…
* * *
Ночного клуба жар воскресный,
Призыв красавицы телесный,
Земной и страстный идеал…
Тебя, набухшую, желал
В апреле ночью, в полвторого,
Ты впрямь по-русски ни полслова,
А я,— язык твой изучал.
. . . . . . . . . . . . .
Позднее. Через двадцать лет
Ты будешь чёрствая как булка,
Я буду — высохший скелет.
Но эта страстная прогулка,
Когда ты — внучка, а я дед,
И хоть зови меня Ахмет,
О моя тесная, ты втулка!
Кавказский знойный темперамент
Мне осетином-предком дан,
Не скромный севера регламент,
Но знойный горный драбадан!
Я Вас держал за Ваши груди
И думал: «Я — Сарданапал!»
И преступленье продолжал…
По молодости все блудили,
Преступно ль в старости блудить?
Взрывать десятками Бастилий,
Через туннели проходить..?
Моя ты сладостная сучка!
За что мне это дадено́!
Топчу тебя, моя колючка
Как будто в день Бородино…
* * *
Мальчик с сумою, с краюхою хлеба
Тихо идёт один.
Сверху безвольное русское небо
Всё в облаках морщин.
Нет на пейзаже других нам точек,
Движущихся по прямой.
Вверх простирается бледный лесочек
Белых берёз и кривой
Сосен несчастных массив рахитичный…
Мальчик идёт сутул,
Из-за ближайших холмов трагичный
Ветер завыл и задул…
Вряд ли дойдёт этот путник до дому —
Против него восстал
Ветер судьбы. И природу к погрому,
К буре большой призвал.
Так ведь и мы, пригибаясь к пространству,
Мрачно бредём домой…
Дай я тебя укушу, и к пьянству
Быстро склоню, друг мой!
* * *
Не из каприза,— часть работы —
За мною следуют в авто
Похабных лиц мордовороты,
О, опера, менты, сексоты,
Да мало ли сидит там кто…
По Петербургу мы петляем…
Они петляют «Волге» вслед,
Их номера мы помечаем,
Себе в блокнот, и в «Буквоед».
Стихи читать я еду прямо,
Но на «Восстании», гляжу,—
О мама, мама, моя мама,
Войска приехали, bonjour!
Bonjour, менты! Привет, ОМОНы
И патрули из ДПС,
«Газели», «Форды» и «газоны»,
Менты с погонами и без!
Стихи поэт читать явился,
Однако, чтобы не скучал,
К нему вдруг присоединился
Ментов собрался здесь кагал.
О город всадника с «Авророй»,
Ты город, взял и не сплошал,
Ментов упитанною сворой
Надысь Лимонова встречал!
Отец
Вставал в ночи, писал листовку,
Статью затем ещё писал,
Глядел на диск,— луны подковку
Как он бледнел и белым стал.
Курил бесстрастно сигариллу,
Налил себе стакан вина,
Увидел во дворе Годзиллу,
Как кралась меж домов она…
Подумал позвонить подруге,
Рука ласкала телефон
За несомненные заслуги:
За сиськи, за глубокий стон…
Но передумал на рассвете,
Когда пришли на ум: Богдан,
И Сашка, его чудо-дети…
И стал он весел, как Тарзан!
Триколор
Звенит золотое над чёрным
И чёрное свежей землёй
Наваливается упорно
На саван врага ледяной.
Там «Ра» египтянское просто
От «Радости» произошло
И южного солнца короста
Горит всем державам назло.
Иль мёд на земле разлили,
Какой чернозём богатый!
На белом бельё сложили,
Три слоя парят, крылаты!
Там чёрное — радостный траур
Предвестия новых побед
И в самой далёкой из аур,
Возрадуйся, о русский дед!
Герой интеллигенции
Они хоронят своих мертвецов,
Выхваляя их до небес!
Каждый банальный актёр Сморчков
Становится Геркулес.
Сотню картин он отметил собой,
Играл, не жалея сил,
Такой выдающийся, хоть голубой,—
Реальных мужчин лепил.
Десятки расстроенных голосов,
Скрипит об усопших эфир,
Их — этих наших «героев снов»
Всяк просмотрел до дыр.
Однако по сути, товарищ мужик!
Верь, эти все из кино,—
Намного плоше друзей твоих
С которыми ты заодно…
Джон из ЦРУ
Сотрудники рослые ЦРУ
В горах наживают подагру,
Они покупают вождей в жару
За доллары и за «виагру»…
Сотрудник встаёт, кофе пьёт, он лыс,
В окне глинобитные здания.
В зиндан направляется, там средь крыс
Талибы ждут наказания.
Страницами букв шелестит допрос:
Война, чистоган, страдания.
Шпион измождён, он побит, зарос
И вот подписал признание…
Под вечер сотрудник, надев очки,
Читает, согнувши стан,
Немного есть виски, а девочки?
Ну, это Афганистан!
Заходит товарищ к нему: «Хай, Джон!
Поедем ли на охоту?»
Нет, он не поедет, поскольку он
В зиндан обещал в субботу.
Ты будешь работать с талибом, Джон?
Я буду работать, Билл,
А чтобы мне отвечал бы он,
Я сыворотку сварил…
Киплинг лежит на столе раскрыт,
В кружке свернулся чай,
Под потолком на обоях сидит
Тарантул, как бы невзначай…
Дрожит от зноя Афганистан,
Читает Киплинга Джон,
Обама стал его капитан
И курсом доволен он…
* * *
Железные яблони в белом цвету…
Сквозь их алюминиевую наготу
Я выхожу, седой злодей,
Полный страшных идей…
Я человека вижу как плод.
Я вижу его как аппарат.
У человека душа и живот
Через матриархат и патриархат.
Сквозь алюминиевую наготу
Железных яблонь в белом цвету
Я уже выходил, молодой лейтенант,
Солнцу и свету курсант…
Я не бамбук и ты не гранит,
Но каждого каждый разит
И если нет под рукой копья,
То средством служит семья…
Железные яблони в белом цвету
Подходящие под широту…
Меридианы, конечно не в счёт,
Важны душа и живот…
* * *
Я проживаю мой календарь
Как непреклонный звонарь,
На колокольню пора чуть свет,
Ты ведь звонарь, не дед.
Девочку мягко схватив за бока
Я услаждаю себя сквозь века
Удом водя под её хребтом
Чувствую мощным скотом…
Я проживаю своё расписание
То в удовольствие, то вдруг в страдание,
Ходят как волны вокруг времена
Вечная это война…
В груды эфира втесняется грудь,
Мне не хватает прожорливых рук,
Ты, осьминогом стремительно будь,
Ты, капитан удивительный Кук…
Съели его по частям племена
И доедают меня времена…
Череп мой будет с надменной улыбкой
Рот разевать, подпевая за скрипкой…
* * *
А гностики! А старые их пальцы,
Скользящие, замедлив, под строкой
Пергаментов листы заклеил кальций…
Наг-Хаммади, писк комариный твой!
В болотах возле Нила и в песках
Там тени стариков длиннобородных
Терзаются как узники в тисках
От помыслов Великих благородных…
Лето 2009-го
Н
И в жаркого лета дымящейся каше
Я жил с малолетней студенткой Наташей,
И в жаркого лета бульоне и супе
Я мчался,— кентавр на Наташином крупе…
Какие все грустные наши дожди!
Не жди эволюции, больше не жди,
А только с расчёской, а только с пинцетом
У зеркала сядь малолетним поэтом
Наташа, и выщипай правую бровь.
Такая она, эта сука, любовь!
Вонючая, ломит и бёдра и таз
От этих усилий, от этих проказ…
И в жаркого лета, где простыни — плети,
Запутались взрослые жаркие дети.
Ну что, моя внучка, ещё один раз?
Подставь, благородная, маленький таз…
Нам хватит вина и липучих колючек,
Мы сплошь состоим из подобных липучек.
Ещё одна богопротивная сцена:
Я старый сатир, ты — малышка-сирена…
Деткам моим
Обо мне не надо плакать,
Надо жить
Придёт папка, вашу мякоть
Укусить…
Зубом мага и злодея.
Ус, оружье, портупея…
Надо папку чтить,
Слушать, и простить…
Хотя есть у папки детки,
Но все подружки,— малолетки,
Это надо знать,
И не порицать.
Вашу мать любил он тоже,
Вы ему всего дороже,
Червячки любимые,
Деточки родимые…
* * *
Кислое лето серого цвета,
Клёны и липы и тополя,
Пробки на набережной у Кремля,
«Скорую помощь» зовут «карета».
«Скорая помощь» ползёт мыча,
Бедный больной на руках врача.
А у медсестры никаких иллюзий.
Сотни инсультов, ранений, контузий…
И отравлений, и передоз…
Сдохнет больной как сдыхает барбос,
Перебегавший дорогу КамАЗу,
Так как схватил он заразу…
Конец XXI века
На южном фронте без перемен,
От Бухары не осталось стен,
В чёрных руинах лежит Фергана,
Большая была война.
Акаций в кострах догорают стволы,
Ветер швыряет пригоршни золы,
Съеден горами лунный диск,
Шакалов прекрасен визг.
Несколько старых бредут солдат,
Только бредут наугад,
Их не послал никуда капитан,
Эти спешат в капкан…
Жёлтые жарят мясо враги.
Энергетические круги
Шубами страшными над врагами
Вдруг разбухают сами.
Есть человечину было табу,
Только откуда же знать рабу,
Что побеждённых солдат не едят.
Жёлтых никто не учил ребят,
Что одноногий солдат не еда.
Век-то настал какой!
Когда в Фергану пришли холода,
Когда в Бухаре не живут стада,
А хочется есть весной.
Деревьев свежие лепестки
Им не заменят мяса,
Нескольких старых солдат куски
Нож отделил от каркаса.
Китаец жадный зачистил зуб
На печень, её жуёт,
Жир человечий стекает с губ
Китайца туркменских рот…
На смерть Е. Сабурова
Несчастный друг! В «Ведомостях»
Прочёл я твой некролог.
Ты вкусно жил, но вот зачах,
И был твой путь недолог.
Поэт! И служащий! Министр!
Вице-премьер однажды!
Значительный экономист,
Руководитель важный…
Однако боевая смерть
С клинком двуграноострым
Вступилась за земную твердь
«Да будет Крымом остров!
И никаких таких мостов
Над Керченским проливом..!»
Корабль в одном из моих снов
Зовут «Маунтоливом»…
На смерть Майкла Джексона
Надо ходить и бить в барабаны,
Журчать из блестящих труб…
Мундир Майкла Джексона… Леди Дианы,—
Крупной блондинки круп…
Восьмидесятые! Мы обогнали
Ваш разношёрстный кортеж!
Леди Диану тоннелем убрали,
Джексон ушёл несвеж…
Больше таких годов не будет…
Весело было…: базар!
Больше по-детски восторг не разбудит
Негр и перчатка пар…
Парашютисты
Переворот военный в Гондурасе,
Как праздничны весёлые солдаты!
И струны теребит на контрабасе
В костюме чёрном негр на террасе,
Трещат неподалеку автоматы.
Столица и проснулась, но боится,
На улицах отсутствуют мужчины,
Исчезли также сестры и кузины,
Но а старухой разве кто прельстится?
Старухи демонстрируют морщины…
Индейцы все надели свои перья,
Индейцы агрессивны, и ершисты,
Источники, достойные доверья,
Распространяют слух из двери в дверья:
«На город брошены парашютисты!»
Вот почему индейцев бродит стая,
Ведь командир Хуан-Армондо Бе́да
По крови есть прямой потомок майя.
Индейцы празднуют свою победу,
Друг друга дружелюбно обнимая.
С террасы негр, оставив контрабас,
Жуёт маис и наблюдает город,
А город ещё утренний не порот
Ещё не изнасилован как раз,
Но вечером он будет взят за ворот,
Ведь вечером парашютистов ждут
Как ждали бы вторжения Атиллы
Ужо парашютисты тем дадут.
Кто населяет дорогие виллы,
Их ждёт вино, разврат и проститут…
Там в саду за рекой
Н.
Над крышами видны салюты
И фейерверков пузыри,
Там карлики и лилипуты
Танцуют танго до зари.
Вот в лилипута впился карлик,
Его целует мокрым ртом
«Уйди проклятый! You smell garlic!»
И… разразилась хохотом…
Весёлые, но очень злые
И потные все, как зверьки,
Визжат уродцы молодые
И конфетти летят густые
Сквозь фейерверков угольки.
Труба звучит вослед гобою,
Преображает старый сад,
А мы лежим вдвоём с тобою,
Неравной парой роковою
И одеяла с нас висят…
Окно у нас с тобой открыто,
В окно нам попадает мир,
Ты — молодая Маргарита
И я, преклонных лет сатир…
Неверная жена — I
Поедем в Африку, мой друг!
Там в Африке, слоны
Танцуют грузно, ставши в круг,
И бивни их сильны.
Там в Африке ночная тишь
И по ночной стене
Летучей, двигается мышь
Как тени на луне.
Там над кувшином стал букет
Загадочных цветов,
Там на стене висит портрет
Портрет из моих снов.
Я женщину узнал, она
В далёком далеке
Была неверная жена,
А я был в парике.
Корабль в Африку поплыл…
А я несчастным был…
Неверная жена — II
Десяток вишен на полу
И косточек лежат,
Кто приходил к Вам под полу?
Бокала два стоят…
Спугнув природы аппетит
Явился злобный муж.
Пух тополей летит, летит
Ну может хватит уж?
Кто вишни ел с тобой, жена?
Вот косточки лежат…
Ты говоришь, была одна
Бокала два стоят…
А, ты пригубила бокал!
Пригубила второй?
Губной помады привкус ал
Но только на одной
Поверхности, моя жена!
Так что ты говоришь?
Ты говоришь была одна,
Была одна твердишь…
Что, куришь ты? С которых пор?
Ведь ты не куришь, нет.
Здесь побывал какой-то вор?
Изволь держать ответ..!
Она отводит светлый взор
Уже семь тысяч лет…
* * *
Кто ты такой? Ведь я тебя не знаю,
Сидим с тобой за общей кружкой чаю.
Ты — я? Я — ты? Ну не воображай,
Что у двух рук один и тот же чай…
* * *
Я хотел быть фон Клейстом, но Гёте я стал,
Я, ей-богу, о лаврах его не мечтал!
Я хотел лейтенантом уйти в глубь времён,
Но пожалуйста, Гёте! Но пожалуйста, он!
У нас общая страсть к литрам красным вина,
У нас общая Фауста глубина.
У нас лето, обманутая Маргарита,
И с прекрасной Еленой прозрачная свита.
Гёте умный, и Гёте премудрый,
О, министр, пересыпанный пудрой!
Гёте, девушек свежих большой обожатель,
Гёте мой обоюдный приятель…
Фильм «Бункер»
Старый фюрер и печальный
Входит в бункер погребальный,
Секретаршам говорит:
«Я устал, мой мозг болит!
Я хочу уйти от Вас,
Наступил последний час!»
Старый фюрер Еву Браун
Принимает себе в жёны
В глубине военной зоны
Была фройлен, стала фрау, н…
Надо это понимать.
Перед смертью сочетать
Их нотариус пугливый
И боится, но обязан.
Фюрер Рейха горделивый,
Он отныне с Евой связан…
Он диктует секретарше
Завещание. Как в фарше
Там Германия, евреи,
Там судьба Гипербореи…
Ну а русские солдаты,
Сжавши ружья и гранаты,
Продвигаются в Берлине
Словно пламя в керосине…
Захватили весь Берлин,
Фюрер в бункере один,
А затем заходит Ева,
Ампулу вставляет слева
И накрашенная ртом
Мнёт, и падает потом…
Фюрер медлит на диване,
Пистолет в его кармане
Достаёт он пистолет
И стреляет, как поэт,
Валится, с кровавым ртом
И сжигают их потом…
* * *
Неспешный поезд в Пермский край,
Сиди, monsieur, и вспоминай,
Гляди в зелёное окно,
А там,— домашнее кино:
Вот ты с женою молодой
Стоишь на венской мостовой,
Вот ты в Нью-Йорке и один…
Вот ты весёлый блудный сын.
А здесь ты с сербами стоишь,
А тут из пушки ты палишь
(Так ты отметил полста лет…).
Flash back: лунатик и поэт…
Отчаянный и молодой
Идёшь в Москве — шейсят восьмой…
Неспешный поезд в Пермский край,
Сиди, monsieur, и вспоминай
Свой город, сладостный Paris,
Сиди, monsieur, в окно смотри…
Как там погасли фонари
И ничего не пропускай!
Н
Остановившийся ручей,
Закрывший книгу книгочей.
Остановившаяся книга
И ты, землёй озарена,
О, пуританская луна!
Ты, жадина, карга, сквалыга!..
Я, видимо, теряю ту,
Что не ценил, и вольно тратил,
Тебя, мой маленький, ату!
Ужасный Рок законопатил
В ужасной клинике сплошной.
Ты мне хотела быть женой
Но видимо наш Бог, он спятил!
Сказали мне: «Она умрёт!»
Наташа, ты?! «От рака крови»
Чей страшный это был расчёт,
Чей заговор был наготове?
Цыганочка моя, мой друг!
Моя невнятная гадалка!
За что? Кто очертил твой круг?
Как жалко! Как печально жалко!
* * *
Хоронят, хоронят, хоронят…
Была замечательной ГЭС!
И стонут, кричат, какофонят
Как в Гершвина «Porgy and Bess».
Трагедия невыносима,
Шахтёрских ли, горских семей,
Любая,— она Хиросима,
Как страшно сиял Енисей!
Когда накануне разрыва
Детали, приведшей к беде,
Бедняги брели торопливо
Обслуживать воду, к воде…
Рабочий, рабочий, рабочий,
Как крот с измождённым лицом,
Несчастный, безрадостный, «прочий»,
Покинутый Богом-отцом…
Лежат все в гробах как камеи,
Лежат вот в гробах фараонами,
А мимо проносятся водные змеи,
Которых раздавлены тоннами.
. . . . . . . . . . . . . . .
Восстал ты, батько Енисей
Против сковавших тя людей…
* * *
Поросли заратустрой поля
Меж разрушенных башен Кремля.
И летит заратустры пыльца
До Садового, до кольца.
Заратустра цветёт! Заратустра цветёт!
В год две тысячи где-то пятый…
Замечательный год! Замечательный год!
Год, в который мессия зачатый…
* * *
Запах преющих растений,
Влаги, хлеба и бензина…
Пахнут ли ночные тени
Пушкина и Карамзи́на?
Грибоедова? И Гоголь,
Пахнет галстуком в чернилах?
Достоевский пахнет строго ль.
Батькой, поднятым на вилах?
Вся Рассея — бакалея,
Пахнет, пахнет и воняет…
Варит много чая, змея
Пьёт зелёного, стреляет…
В гости ходит к Вам Бакунин?
С ним его дружок Нечаев?
Воротник под мехом куньим,
Террористов привечаем…
День винодела!
Помнится южных республик урок,
Гроздь потемнела,
День винограда, созревшего в срок,
День винодела!
Ну-ка оружье у двери оставь,
В погреб спускайся смело!
Выйдешь оттуда, качаясь, и вплавь,—
В день винодела!
В косы запустишь ей пятерню,
Другой разрываешь блузку,
Треплешь как гроздь, распустивши мотню,
Девку — молдавку, (французску!)
С неба сошёл золотой виноград,
Чёрный взошёл из Ада,
Кружками пьёт оголтелый солдат
В день винограда!
Пушки заухали за селом,
Едко свистят миномёты,
Мы обязательно их найдём,
Бочки найдут наши роты!
Будем гоняться затем по селу
Девок по свежему следу
Или, локтями прилипнув к столу,
Праздновать нашу победу.
Пахнет вином молодая луна,
В кущах шумят сатиры
«Наша Молдавия — девка пьяна!»
Нам говорят командиры…

Не вошедшее в книги
Батька Лимон
Маленькая девочка с крутым лицом
Только что поссорилась с пьяницей-отцом
Маленькая девочка одна идёт
Маленькая, злобную, песенку поёт
«Папа блядь, и власти блядь
Автомат бы в руки надо взять
Только националы-большевики
Возьмут меня бедняжку в свои полки!
Брошу я семью, на хуя семья
Будет у бедняжки семья своя
Будет у бедняжки отец иной
Революционный отец крутой!»
Как маленькая девочка с крутым лицом
Шагайте-ка парни за Лимоном-отцом
Батька-Лимон, батька-Лимон
В новую Россию приведёт нас он!
В телевизоре
Джордж Буш выходит из самолёта с чёрной собачкой
У него заострённые черты Антихриста, сына Дьявола
У него чёрное пальто и серебристые, колечками, волосы
вытертые сверху, как у стареющей овцы
Он говорит голосом заносчивой протестантской свиньи
Он грозит дополнительными
дредноутами,
канонерками,
ракетами
И его чёрная собачка смотрит
неподвижными чёрными глазами
на нас
выбирает следующую цель
И жена Буша шагает за ним на трёх ногах…
А у трапа самолёта стоят людоеды-министры
Рамсфельд — растлитель детей, садо-мазо в очёчках
Кондалиса — дочь Анкл Бенца — облизанная шоколадка,
доказывая, что людоеды могут быть чёрной расы
и женщинами…
Сзади толпятся слащавые сволочи в костюмах праведников
А над Бушем щёлкает тяжёлый американский флаг.
А я думаю: «Америку необходимо разрушить
Уничтожить Америку следует бесспорно…
Эти люди кроткие опасны. Страшно опасны
С ними следует покончить навсегда…»

Комментарии
«Мы — национальный герой».
Текст с комментариями (1974)
Оригинальное произведение «Мы — национальный герой», имеющее подзаголовок «Текст с комментариями», предоставлено Александром Шаталовым создателю и куратору сайта www.limonow.de Алексею Евсееву. Печатается по публикации на сайте.
Впервые текст «Мы — национальный герой» был опубликован в альманахе Михаила Шемякина «Аполлон-77» (Париж, 1977).
Об этом оригинальном сочинении Лимонов пишет в неопубликованном и хранящемся в архиве Александра Шаталова «Путеводителе по Лимонову»:
«Анти-Эдичка, предшествующий ему на два года… Одновременно «Национальный герой» есть и предсказание своей судьбы: авангардное, самовысмеивающее, но несомненное предсказание».
I. Текст
«Мутная Сена передаёт Лимонову приветы от всех других поэтов — от загадочного Бодлера, от загадочного Лотреамона и других». Шарль Пьер Бодлер (1821–1867) — французский «проклятый» поэт и критик.
Бодлер упомянут также в стихотворениях «Бодлеру служила мулатка…» (в комментариях к нему — том I — о Бодлере говорится подробнее), «Я всё жду — счас откроются двери», «Что и стоит делать под этим серым небом…» из «Пятого сборника», «Ода Сибири» («Россия солнцем освященна…») из сборника «Прощание с Россией», «Фрагмент» («Мы рот открыв смотрели на пейзажи…») из сборника «Мой отрицательный герой», II («Без женщины остался я один…») из сборника «…А старый пират». Граф Лотреамон (настоящее имя — Изидор Дюкасс; 1846–1870) — французский прозаик и поэт, поздний романтик, предтеча символизма и сюрреализма. Обоим поэтам посвящены очерки в галерее «Священных монстров».
«И Лимонов снимается в фильме Антониони…». Микеланджело Антониони (1912–2007) — итальянский кинорежиссёр и сценарист. Встреча с иностранным кинорежиссёром и участие в его фильме — видимо, одно из самых сильных желаний советских андеграундных поэтов (хотя, понятное дело, не только их). Так, по Москве 1960-х годов ходил слух, будто Федерико Феллини собирается снять в своём новом фильме поэтов-смогистов. В книге «Седая нить» Владимир Алейников вспоминал:
«…появившись в Москве, Феллини познакомиться пожелал непременно — со мной и с Губановым. Но обоих нас не нашли. Был я изгнан — за СМОГ, за то, что поэт я,— из МГУ. И работал тогда в экспедиции на Тамани. Так что меня днём с огнём найти не могли. А Губанов — лежал в дурдоме. И оттуда его никто никогда бы сроду не вытащил — слишком он глаза намозолил разозлившимся не на шутку на содружество наше славное, задавить нас решившим властям. И Феллини с обоими нами повидаться, увы, не сумел…»
«Лимонов однажды был приглашён Сальватором Дали в ресторан». Сальвадор Дали (полное имя Сальвадор Доменек Фелип Жасинт Дали-и-Доменек, маркиз де Дали де Пуболь; 1904–1989) — испанский художник, живописец, график, скульптор, режиссёр. Подробнее о встречах Лимонова с Сальвадором Дали в «Книге мёртвых» (2000):
«…уезжая из России вместе с красоткой-женой, мы получили несколько рекомендательных писем от Лили Брик ⟨…⟩ По адресу всё-таки попало (в маленьком конверте с цветочками) письмо к Гале Дали. Там было написано (при мне его вскрыли, так как Лиля заклеила свои письма): «Дорогая Галочка. Посылаю тебе двух очаровательных детей, оба поэты. Помоги им, чем сможешь, в новом для них мире». ⟨…⟩ Но письмо распечатала не Гала, а муж её Сальвадор ⟨…⟩ Оказался он маленького роста, плешивым, с нечистой кожей старичком, сказавшим мне по-русски: «Божья коровка, улети на небко, там твои детки кушают конфетки». ⟨…⟩ Великим художником он, разумеется, не был. Он был эксцентриком, пошляком, вкус часто изменял ему ⟨…⟩ У меня, однако, появилось к нему тёплое чувство в последние годы, потому что его обожала юная Лена, и наши страсти где-то молниями ударяли рядом с ним».
«Весной как-то в прошлом Лимонов пересекал Бискайский залив на грузовом пароходе «Барон Унгерн»». Барон Роберт Николаус Максимилиан (Роман Фёдорович) фон Унгерн-Штернберг (1885–1921) — русский генерал, видный деятель Белого движения на Дальнем Востоке. Восстановил независимость Монголии. Ему посвящено эссе «Чёрный барон» в книге Лимонова «Священные монстры» (2003):
«Из документов и писем воссоздается облик человека, знавшего, что делает. Спасение от диктатуры среднего человека России и Европе должны принести азиатские племена, в которых жив дух традиционализма, иерархического подчинения, кастовости. Потомок крестоносцев, судя по письмам, был отлично подкован, он как-то сумел разобраться, что красные в конце концов (несмотря на их якобы революционность) несут России ту же диктатуру среднего обывателя. Читал ли барон Унгерн Леонтьева, был ли знаком с его теориями? Он мог быть знакомым с теорией Леонтьева, но, вероятнее всего, пришел к тому же выводу самостоятельно, практическим путём».
«Таким образом Ленин и революция победили интервентов и белогвардейцев. А ведь Лимонов мог бы поддержать и противоположную сторону…» — здесь содержится несколько иронизированная формулировка позднейшего лимоновского отношения к левой идее и предсказывается политическая позиция, безоговорочно принятая Лимоновым в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Владимир Ильич Ленин (настоящая фамилия Ульянов; 1870–1924) — предводитель Великой Октябрьской социалистической революции, российский и советский политический и государственный деятель, профессиональный революционер, создатель партии большевиков, философ, публицист. Во время тюремного заключения Лимонов задумал роман о Ленине (вариант — биография в серии ЖЗЛ), но, к сожалению, замысел реализован не был.
Ленину посвящено эссе «Эмигрант» в книге «Священные монстры» (2003):
«Нерусская пунктуальность железного делопроизводителя, нерусская трезвость, дикая работоспособность — вот Ленин. Жестокий, трезвый, фанатичный работник. Гибкий ум, лишённый тщеславия и позёрства. И как отомстил за брата! ⟨…⟩ Ленин со своими ребятами сумели всучить России новомодную марксистскую идеологию, настолько западный, казалось бы, совсем не подходящий России товар, и преуспели в этом».
Имя Ленина упомянуто в стихах Лимонова «И вязкий Ленин падает туманом…», «Меня интересовали Ленин и Пугачёв…», Love II («Императора первым Зубов Платон…») из сборника «Ноль часов», в стихах «Четвёртое сословие», «Мы все в гробу своём свинцовом…», «1918. Петроград» («Приятный голос. Бритый вид…») из сборника «Мальчик, беги!», в стихотворениях «Я — Дьявол — отец твой…», «Вот кинооблик Императора…», «Пласты воспоминаний» и «Придёт Атилло длиннозубое…» из сборника «Атилло длиннозубое», в стихотворении «Люди в кепках» из сборника «К Фифи» и в стихотворении «И вот в апреле стало сухо…» из сборника «СССР — наш третий Рим».
«Наш Лимонов и их Анри Мишо стояли на куче мусора». Анри Мишо (Henri Michaux; 1899–1984) — французский поэт-сюрреалист и художник.
«Лимонов шёл по улице Фероньер и нёс портрет философа Григория Саввича Сковороды». Григорий Саввич Сковорода (1722–1794) — украинский и русский философ, поэт, педагог. Упоминается также в стихотворении «Украïна» из сборника «СССР — наш третий Рим» и в стихотворении «Птички небесные…» из сборника «Золушка беременная».
«О, этот юг, о, эта Ницца! О, как их блеск меня тревожит…» — это первые строчки стихотворения «О, этот юг, о, эта Ницца…» (1864) Ф.И.Тютчева. Приведём дальнейшие строчки, так как они во многом характеризуют жизнь Лимонова эмигрантского периода:
«Жизнь, как подстреленная птица,
Подняться хочет — и не может…
Нет ни полёта, ни размаху —
Висят поломанные крылья —
И вся она, прижавшись к праху,
Дрожит от боли и бессилья…».
Позднее пребывание в Ницце описано Лимоновым в рассказе «Салат «Нисуаз»» из сборника «Обыкновенные инциденты».
«На улице Жакоб, 36, в галерее Дины Верни состоялась выставка Лимонова». Дина Верни (урождённая Дина Яковлевна Айбиндер; 1919–2009) — французская натурщица и галеристка, искусствовед, певица, муза скульптора Аристида Майоля. После посещения Советского Союза в 1959 году начала коллекционировать работы неофициальных советских художников. В галерее Верни состоялись выставки Ильи Кабакова, Эрика Булатова, Михаила Шемякина и др. Верни также известна как исполнительница блатных и лагерных песен на русском языке (альбом «Блатные песни» впервые вышел в 1975 году). В «Книге мёртвых — 2. Некрологи» ей посвящён очерк «Наследница Майоля».
II. Комментарии к тексту
«Национальный герой Лимонов выгодно отличается от псевдогероя Гагарина…». Юрий Алексеевич Гагарин (1934–1968) — первый человек в космосе, лётчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза. Встречается также в стихотворении «Бога в космосе не встретишь…» (том IV). Гагарину посвящено эссе «Погоны из ртути» в книге «Священные монстры» (2003):
«Юры Гагарина простецкая рожица, нос не слишком аккуратной лепки. Такой себе один из Шариковых этого мира — дворняга. Если бы он прожил дольше, стал бы похож на Жана Жене, обзавёлся бы торсом, одел бы джемпер, генералом в отставке лопатил бы землю в Подмосковье на приусадебном. Распухал бы от комаров и от водки. Принял бы ГКЧП, но затем перешёл бы на сторону Ельцина, как все служаки. Слава богу, он гробанулся вместе с летчиком-испытателем Сергеевым (Реальная фамилия лётчика Серёгин.— Сост.), и остался нам только его рейд в космос. Оттуда он первым из людей увидел нашу голубую и зелёную планету. Вертящуюся, как и предсказывал Галилей. В тяжелом скафандре с прибамбасами, висящий на шланге, он личинкой висел в космическом корабле. Неизвестно даже, насколько у него было развито чувство историзма. Понимал ли он, что осуществляет операцию, к которой долгой цепью, передавая друг другу знания и умения, двигалось человечество? И в той цепи много наших: Желябов — Кибальчич — Циолковский. Неизвестно».
«…он дружил с Атиллой царём гуннов…». Аттила (ум. 453) — вождь гуннов с 434 по 453 год, объединивший под своей властью варварские племена от Рейна до Северного Причерноморья. Образ этого исторического персонажа отразится ещё в стихотворении «Парашютисты» из сборника «А старый пират…», в заглавном стихотворении «Придёт Атилло длиннозубое…» из сборника стихотворений «Атилло длиннозубое», а также в стихотворении «Народы двигались по Земле…» из сборника «Золушка беременная».
«…он был правая рука Чингиз-хана». Чингисхан (1155 или 1162–1227) — краткий титул монгольского хана из рода борджигинов, объединившего разрозненные монгольские племена. Великий полководец, основатель Монгольской империи.
«Читатель-простак любит Евтушенко…». Евгений Александрович Евтушенко (1932–2017) — поэт, прозаик, режиссёр, сценарист, публицист, актёр. Упоминается Лимоновым в стихотворении «Мать Косыгина жила / может быть и живет / в Харькове…» из «Седьмого сборника». Под именем Ефименков, описанный в несколько ироничном ключе, Евгений Евтушенко фигурирует в романах Лимонова «История его слуги» (1982) и «Укрощение тигра в Париже» (1985). Характерный момент лимоновской иронии (но и снисходительной симпатии) по отношению к Евтушенко:
«Парень в синей косоворотке вышел к микрофону и запел «Очи чёрные». Плохо запел».
— Эмоций!— крикнул Ефименков.— Не так поёт! Не так!— простонал он: — Разве так поют отчаянную вещь «Очи чёрные»? Разве так поют, а?— обратился он к мадам и компании.— Рот открывай! Не спи!— закричал он парню и, неодобрительно качая головой, стал выбираться из-за стола. Выбираясь, он задел бокал, и бокал, ударившись о пепельницу, раскололся. Равнодушно оглянувшись на осколки бокала и пролитое вино, Ефименков выбрался к певцу и, схватив его за рукав, подтянул парня к столу. Задницей ткнул его в край стола и сказал: — Не надо, не пой, милый человек, эту песню, если не умеешь!— Певец глупо улыбался. Значительно омноголюдившийся зал полусотней очей наблюдал непонятную сцену.
— Ты даже не в том ритме поёшь! Ты поёшь сонно, а «Очи чёрные» следует исполнять страстно. Понял?
«Понял». Певец глядел не на Ефименкова, но на мадам-хозяйку, которая равнодушно наблюдала за сценой.
Очевидно, точно с таким же спокойствием, потягивая чай, она наблюдала бы за тем, как Ефименков душит её певца».
Евтушенко упоминает Лимонова в поэме «Мама и нейтронная бомба» (1982) — «Поэма дерьмовая, даже моё появление её не спасает», заметит на этот счёт Лимонов в «Книге мёртвых» (2000). Здесь важно зафиксировать, что Евгений Александрович был первым биографом Лимонова. Более того, он и создал тот самый канон, которому следовал потом Эммануэль Каррер, автор мирового бестселлера Limonov,— когда биограф послушно следует за героем, точнее творимой им жизнестроительной легендой.
Из поэмы «Мама и нейтронная бомба»:
Я встретился с Лёвой случайно в Нью-Йорке
в доме миллионера Питера Спрэйга,
где тогда служил мажордомом
бывший харьковский поэт Эдик,
получившний это место
благодаря протекции
мажордомши-мулатки,
которую вызвала мама,
медленно умирающая в Луизиане.
Эдик,
по мнению эмигрантской общественности —
чеховский гадкий мальчик,
приготовляющий динамит
под гостеприимной крышей
капиталиста,
тогда писал свою страшную,
потрясающую исповедь эмигранта
в комнатушке с портретами Че Гевары
и полковника Кадаффи.
Миллионер отсутствовал.
Он улетел на «конкорде»
в Англию
на собственную фабрику автомобилей
«Остин Мартин»,
и Эдик пил «Шато Мутон Ротшильд» 1935 года,
если я не ошибаюсь,
года собственного рождения,
и заедал щами из кислой капусты,
купленной в польской эмигрантской лавке
на Лексингтон-авеню.
Евтушенко, оговорившись «если не ошибаюсь», разумеется, ошибается, состарив Лимонова на целых восемь лет.
«…повыше рангом — Вознесенского». Андрей Андреевич Вознесенский (1933–2010) — поэт, прозаик, художник, архитектор. Появится ещё раз в стихотворении «Свободно вращаясь в бульёне…», которое строится на воспоминаниях о Леониде Губанове: Вознесенский понадобится, чтобы ещё раз уколоть Губанова («Поэт, некрасивый мерзавец, / Он за Вознесенским икал»).
«Хаз-Булат удалой — бедна сакля твоя» — песня, во многом характерная для настроения Лимонова эмигрантского периода. Но это ещё и одна из его любимых. В романе «Подросток Савенко» он вспоминал:
«Петь Эди любит. Когда он был поменьше, он порой пел для отца и матери, тогда ещё у них были хорошие отношения. Мать с отцом садились на диван, а Эди становился у стола, держа в руке песенник, и пел. Предпочтение Эди-бэби отдавал песням народным. Любимой его песней была старинная баллада о Хазбулате. Сюжет баллады не совсем обычен, построена она в форме диалога между старым воякой-горцем Хазбулатом и молодым, очевидно грузинским, князем. Князь уговаривает старого Хазбулата отдать ему жену ⟨…⟩ Эди-бэби распевал со всей серьёзностью, держа перед собой песенник, как оперный артист. Мать и отец же покатывались со смеху. Вениамин Иванович говорил Эди, что у него прекрасный козлетон. Не бас, не баритон, но козлетон. Однако Эди, как настоящего артиста, смех почему-то не смущал. Он чувствовал основную песню своего репертуара всем сердцем и потому, исполняя её, получал чисто эстетическое наслаждение. Хазбулат в конце концов убил свою прекрасную жену и презрительно отослал её труп князю, и Эди-бэби, у которого всё в жизни ещё было впереди, мечтал побыть и молодым грузинским князем, который влюблен в жену Хазбулата, а через годы и самим удалым, иссечённым шрамами жизни Хазбулатом и гордо убить красавицу, отстаивая свою честь».
«Эдинька, прелесть, радость и пончик!» — см. комментарии к стихотворению «А бабушка моя была прелестница…» (том II).
«Стоит Лимонов против Царь-пушки и, естественно, думает о Чаадаеве…». Пётр Яковлевич Чаадаев (1794–1856) — философ и публицист. Гвардейский офицер. Масон. За свои, как сказали бы сегодня, радикальные взгляды был заклеймён сумасшедшим.
«Тип героя Мандельштама уже выветривается из интеллигентских голов…». Осип Эмильевич Мандельштам (1891–1938) — поэт, эссеист, переводчик и литературный критик. Впоследствии Лимонов неоднократно замечал в своих эссе и в интервью о том, что высоко ценит поэзию раннего Мандельштама. Например, в своём ЖЖ (30 декабря 2017 года) он отметил:
«Мандельштам дьявол, хорош. «Над желтизной правительственных зданий…» — я всегда читаю спутникам, когда иду по Дворцовой в метель. Лучше о Петербурге никто не писал».
«Первого русского поэта Тредьяковского министр Волынский бил палкой…». Василий Кириллович Тредиаковский (Тредьяковский) (1703–1769) — поэт и учёный. Артемий Петрович Волынский (1689–1740) — государственный деятель и дипломат. С 1738 года кабинет-министр императрицы Анны Иоанновны. В 1739 году был единственным докладчиком у императрицы по делам кабинета. Вскоре его противникам удалось вызвать против Волынского неудовольствие императрицы. Доведённое до её сведения дело об избиении Тредьяковского в покоях Бирона стало началом стремительного упадка его карьеры.
«Солженицын высказывает что-то, занимаясь устройством России…». Александр Исаевич Солженицын (1918–2008) — писатель, публицист, поэт, общественный деятель. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1970). В течение нескольких десятилетий активно выступал против политического строя СССР. Отношение Лимонова к Солженицыну претерпело существенные изменения. Явное неприятие было обозначено уже в романе «Это я, Эдичка» (1976), где герои занимаются любовью на фоне выступающего по телевизору Солженицына. Характерен портрет Солженицына, данный Лимоновым в рассказе «А барин только в троечке промчался»:
«Я прочёл восьмой, наверное, затёртый экземпляр его запрещённой рукописи ещё в 1968 году. В 1974, когда его выставили из СССР, я услышал его речь из Вены по «Голосу Америки». Нас сидело в моей квартире в Москве несколько душ, но никто не был поражён его неприятным голосом,— только я. Не потому, что он высокий, его голос, у меня самого высокий, так что возмущаться не приходится, но его был похож на голос одного очень неприятного человека — учителя…»
Далее идёт портрет одного крайне неприятного персонажа времён юности Лимонова:
«…бесцветный, рыхлый, в сером макинтоше, в валенках с калошами, в серой шляпе, ходивший под зонтиком зимой, учитель ⟨…⟩ был невыносимо чужд всем…»
«Я хорошо запомнил его ханжеские интонации,
— вспоминает Лимонов в рассказе,—
и этот голос энтузиаста кипячёной воды, противника половых отношений. Голос кастрата, возмущённого тем, что все другие люди вокруг не кастраты».
«У высадившегося в Вене по пути в Цюрих был такой голос,
— резюмировал Лимонов, переходя на Солженицына,—
неприятный, сварливый, безтабачно-безалкогольно-бессексуальный. Визгливый. Только он выступал не против половых отношений, но против истории. Он хотел запретить прошлое: полсотни лет советской власти, Гражданскую войну, Революцию и даже Первую мировую войну. Он хотел, чтоб в стерильном мире ходили такие, как он, оберегая лысую голову зонтами. Непонятно, по какой причине он присвоил себе русский народ, не имея с ним ничего общего».
Перелом в отношении к Солженицыну произошёл после смерти последнего.
Лимонов приехал в Донской монастырь на церемонию прощания с писателем. Он подчеркнул, что был «обязан» проститься с Александром Солженицыным, поскольку «это человек великий и исторический». Сам Лимонов анализирует изменение своего отношения к Солженицыну в очерке с характерным названием «Передача титула» («Книга мертвых — 2. Некрологи»).
«…хоронил Кручёных» — см. примечания к «Девяти тетрадям».
«…хоронил сюрреалиста Соостера». Юло Ильмар Соостер (1924–1970) — советский и эстонский художник, график, один из крупнейших представителей «неофициального» искусства, один из ближайших друзей Лимонова конца 1960-х годов. Про него поэт рассказывал в интервью Марии Кравцовой для «Артгида» (7 сентября 2017 года):
«Юло, которого все тогда считали неосюрреалистом, был моим старшим товарищем. Мы быстро сдружились, видимо, сказалась некая общность характеров. Он старался меня как-то пристроить, в какие-то журналы, еще куда-то. Мы были близки до такой степени, что я даже посещал обеды в доме его тогдашней любовницы Веры ⟨…⟩ Мы ужасно напивались с Соостером, могли целыми днями пить вино. Но Соостер был хорошим добрым человеком».
В эссе «Отец Винни-Пуха» (из книги «Свежеотбывшие на тот свет») Лимонов вспоминал о поминках Соостера:
«Мы сидим в помещении «Союзмультфильма», и это поминки по умершему тогда художнику Юло Соостеру. Эстонцы приготовили печёные бутерброды с сырым мясом. Никто их не ест. Я ем с удовольствием. И вдруг становлюсь пьяным и плачу. Общественность меня тогда осудила, сказала, что я рисуюсь, помню, что моя тогдашняя спутница жизни Анна Моисеевна заступилась за меня, запальчиво сообщив присутствующим, что «Эд (это я) не умеет притворяться, что Юло был для Эда старшим товарищем и учителем жизни»».
Также Соостеру посвящён безымянный мемуарный «Фрагмент», опубликованный в журнале «Синтаксис» (Синтаксис, 1987, №20). Приведём из него небольшой отрывок:
«… умер недавно приобретённый друг, с которым ты стал дружить неизвестно по какому поводу, и он с тобой стал дружить неизвестно по какой потребности, из невыясненной симпатии, что и есть — настоящая дружба. По возрасту Соостер мог бы быть его молодым отцом, может быть, в одном из недалеко отстоящих рождений он и был его отцом. Странно знакомыми иногда виделись Эду его нос, виски и особенно пальцы. Посему он ревел. Ещё он ревел потому, что открыл новую страну — смерть».
«…В Москве я познакомился ⟨…⟩ с Лилей Брик» — см. примечания к «Девяти тетрадям».
«…академиком Мигдалом и коллекционером Костаки…» Аркадий Бейнусович (Бенедиктович) Мигдал (1911–1991) — советский физик-теоретик, академик АН СССР. Георгий Дионисович Костаки (1913–1990) — коллекционер; перед эмиграцией 1978 года передал часть работ Третьяковской галерее, вторая часть стала основой для создания музея изобразительного искусства в Греции.
«Косность в лице учителя Якова Львовича Капрова ⟨…⟩ хотела направить меня в общее русло жизни, но я оказался инстинктивно упрям». Яков Львович Капров — харьковский школьный учитель Лимонова. О нём он не без раздражения вспоминал в книге «Другая Россия»:
«В восьмом классе у нас появился новый классный руководитель: Яков Львович Капров. Так он бил учеников, вызывая их в физический кабинет и запирая дверь. На самом деле все настоящие хулиганы ушли из школы в колонии и на улицы ещё в 6–7 классах. Он бил вполне нормальных ребят, те выходили с расквашенными носами. Меня не бил, мой отец был офицером. Но даже если б у нас был сладкий классный руководитель, что бы это меняло? Эти десять лет каждый из нас отдал государству, отсидел как срок. Отдайте мне мои солнечные годы!»
«…чтобы бывший беспризорник украинец Золотаренко-старший сварил их вместе». Имеется в виду Захар Золотаренко. О нём см. комментарии к стихотворению «Великой родины холмы…» (том II).
«Известен знаменитый пиджак Лимонова, сшитый им самим из кусочков ткани. Видимая поверхность пиджака состояла из 114 кусочков ткани. Пиджак снабжён инициалами национального героя «Л» и «Э»». В 2021 году этот знаменитый пиджак был продан в аукционном доме «Литфонд» за 1,7 миллиона рублей.
«Рабочий Борис Иванович Чурилов как никто другой в своё время повлиял на Лимонова». О Чурилове см. комментарии к стихотворению «Я люблю ворчливую песенку начальную…» (том I).
«…он и Лимонов впервые читали Кафку…» Франц Кафка (1883–1924) — писатель, бо́льшая часть работ которого была опубликована посмертно. Произведения пронизаны абсурдом и ужасом пред внешним миром.
«…на украинской языке в журнале «Всесвiт»». «Всесвіт» (с укр.— «Весь мир», «Вселенная») — украинский общественно-политический и литературно-художественный иллюстрированный журнал иностранной литературы. Старейший литературный журнал Украины. Выпускается до сих пор.
«Ромео и Джульетта» — трагедия в пяти действиях английского драматурга Уильяма Шекспира (1564–1616), рассказывающая о враждующих семьях Монтекки и Капулетти и трагической любви двух молодых людей из этих семей. Сочинение относится предположительно к 1595 году. Пьеса основана на новелле итальянского писателя XVI века Банделло, но сюжет, лёгший в основу обоих произведений, гораздо более древний: он разработан ещё у Овидия в истории о Пираме и Фисбе. Историческая достоверность данной истории до сих пор не установлена.
«Дафнис и Хлоя» — один из пяти канонических греческих романов. Написан неким Лонгом около II века. Об авторе «Дафниса и Хлои» не сохранилось никаких сведений. Согласно сюжету романа, на острове Лесбосе в окрестностях города Митилены козопас Ламон находит в кустарнике мальчика, которого кормит коза, а два года спустя пасущий овец Дриас обнаруживает в гроте Нимф девочку, вскармливаемую овцою. Мальчик Дафнис и девушка Хлоя впервые встречаются совсем юными; им предстоят долгие романтические приключения.
Беатриче и Данте — Данте Алигьери (полное имя Дуранте дельи Алигьери; 1265–1321) — итальянский поэт, один из основателей литературного итальянского языка. Беатриче Портинари (1266–1290) — флорентийка, тайная возлюбленная итальянского поэта Данте Алигьери.
Лейли и Меджнун — трагическая история любви, популярная на Ближнем и Среднем Востоке, в особенности в Иране и Азербайджане. История основана на реальных событиях и описывает жизнь арабского юноши по имени Гаис аль-Мулаввах, жившего в VII веке на территории современной Саудовской Аравии. В XII веке персидский классик Низами Гянджеви (1141–1209) на основе этой истории написал поэму.
Дали и Галя — Гала, настоящее имя Елена Дмитриевна Дьяконова (1894–1982) — жена Поля Элюара, любовница Макса Эрнста, позднее жена и муза художника Сальвадора Дали.
Мао Тзэ Тунг и Цэян Цин — Цзян Цин (Ли Шумэн) (1914–1991), известна также по сценическому имени Лань Пин — китайская актриса, ставшая в 1938 году женой Мао Цзэдуна. Играла большую роль в руководстве Культурной революцией. После смерти мужа приговорена к смертной казни, заменённой на пожизненное заключение. Освобождена по медицинским показаниям (рак горла), покончила с собой в больнице.
«…Ещё ему хотелось сыграть атамана Антонова…». Александр Степанович Антонов (1889–1922) — эсер, террорист. В 1909 году Антонов за ранение городового в Тамбове и ограбление железнодорожной станции Инжавино осуждён на смертную казнь, заменённую бессрочной каторгой. Один из руководителей Тамбовского восстания против советской власти (1920–1921). Убит в бою с чекистами.
«…Окуджава и все прочие — выдохшееся поколение». Булат Шалвович Окуджава (1924–1997) — поэт, композитор, прозаик и сценарист. Автор около двухсот авторских и эстрадных песен, написанных на собственные стихи. Культовая фигура эпохи «шестидесятников». Лимонов неоднократно заявлял о негативном отношении к Окуджаве.
«…Сахаров и Солженицын — дети радио. Вся так называемая русская оппозиция обязана своим существованиям радиостанциям, а отнюдь не смягчению нравов. Пляши, Маклюэн! Никогда ранее в России такое не было возможным. Мы тоже удостоились включения в мировую деревню…». Андрей Дмитриевич Сахаров (1921–1989) — советский физик, академик АН СССР и политический деятель, диссидент и правозащитник, один из создателей советской водородной бомбы. Лауреат Нобелевской премии мира (1975).
Сахарову в книге «Священные монстры» (2003) Лимонов посвятил эссе «Он помогал»:
«В 1975 году за брошюру «О моей стране и мире» и по совокупности его правозащитной деятельности Сахаров получил Нобелевскую премию мира. Помню, что прочёл зелёную брошюрку не отрываясь и вынес из чтения её твёрдое убеждение, что учёный-физик Андрей Дмитриевич Сахаров крайне наивен везде, где он пишет о Западе. Извинения этой наивности быть не может, ибо, никогда не побывав в западном мире, он, по-честному, должен был бы не высказывать своего мнения о нем и тем более не сравнивать его с советским миром. Запад представал из брошюры «О моей стране и мире» царством справедливости, благополучия и рациональных моральных и правильных решений. Особенно возмутило меня, помню, предложение Сахарова, чтобы Советский Союз разоружился в одностороннем порядке. В этой политической наивности я и сегодня упрекаю покойного, как и в той необъяснимой вере в порядочность Запада, которую он питал, если не ошибаюсь, до самой смерти. За десять лет, прошедшие со дня смерти Сахарова в декабре 1989 года, Запад множество раз успел доказать свою жестокую, хищническую тоталитарную природу. ⟨…⟩ Тогда, в 1975 году, несколько эмигрантов, в том числе и я, написали «Открытое письмо академику Сахарову». Американские газеты его не напечатали, но напечатала большие отрывки из него лондонская «Таймс». Однако в нашей оценке брошюры Сахарова мы тогда, спустя четверть века я вынужден это признать, мы и я допустили определенную несправедливость. Мы занизили критику Сахаровым советского режима. Каюсь, пускай и спустя четверть века. Даже судя по останкам советского режима, по судам, по прокуратуре инквизиций, по ФСБ, да даже судя по чудовищным тюрьмам России 2001 года — Сахаров был справедливым критиком той отвратительной реакционной системы государственного насилия».
Однако всё это не мешало Лимонову в конце 1980-х, что много позже, смеяться над советскими диссидентами. В 1987 году он написал фельетон «Как сделать диссидента» для альманаха «Мулета», но его напечатали в информационно-просветительском листочке «Вечерний звон». Приведём небольшой отрывок:
«Моя литературная агентша приобрела компьютер, я же думаю, что куда больше удовольствия можно иметь, если завести диссидента. Личного маленького сахарова. Ниже следуют шесть рецептов «изготовления» диссидентов, но вначале позвольте мне изложить общие правила. Кто вам нужен. Конечно же, вам нужен специальный, редкий, экзотический диссидент. Разумеется, вам нужен диссидент советский, а не венгерский, румынский или польский. Решив, что вам нужен диссидент советский, помните, что еврейский диссидент наиболее распространён и потому менее ценится. Ведь если вы покупаете собаку, кому нужна дворняжка, если сибирский хаски имеется в наличии. Молодой, чисто русский диссидент со славянским открытым лицом (типа Владимира Буковского и Алёши Карамазова) — лучшее, о чём вы можете мечтать, хотя его и нелегко заполучить. Где искать. Главное — попасть в определённые круги. Некоторые круги Москвы и Ленинграда кишат потенциальными диссидентами, которые только и ждут, чтобы их кто-нибудь нашёл. Но если вы будете ходить по улицам Москвы, предлагая встречным «Не хотите ли сделаться моим личным диссидентом?» — вы вскоре окажетесь в милиции. Прежде чем приступить непосредственно к операции, опросите ваших русских знакомых-эмигрантов, а если таковых у вас нет, свяжитесь с организациями профессионально ответственными за производство диссидентов. Я предлагаю вашему вниманию «Русскую мысль» — газету на русском языке, издаваемую Си-Ай-Эй в Париже, издательство «Имка-пресс», радиостанцию «Радио Либерти», журнал «Континент» — это они поставляют миру диссидентов. Возьмите адреса и телефоны, по которым вы сможете попасть в круги, где, ещё ничего не подозревая, разгуливает он (она) — ваш будущий диссидент».
И далее Лимонов описывает несколько типов советских диссидентов: поэт-алкоголик, феминистка, балетмейстер нетрадиционной ориентации, религиозный фанатик и т.д.
Похороны Сахарова описаны Лимоновым в романе «Иностранец в Смутное время».
«…Ох эти главы правительств! Эти Чаушеску, эти Никсоны!..». Николае Чаушеску (1918–1989) — генеральный секретарь ЦК Румынской коммунистической партии (РКП) с 1965. Президент СРР в 1974–1989 годах. Трагической гибели четы Чаушеску посвящен очерк «Элена и Николаэ» в книге «Убийство часового».
Ричард Милхауз Никсон (1913–1994) — 37-й президент Соединённых Штатов Америки (1969–1974).
«Лимонов стал национальным героем за: русских харьковских ребят…» Про всех перечисленных персонажей см. комментарии к стихотворениям в первом и втором томах данного издания.
Русско-американские стихи (1974–1975)
Машинописный сборник был передан Максимом Кравчинским создателю и куратору сайта www.limonow.de Алексею Евсееву. Печатается по публикации на сайте.
«Русско-американские стихи» обозначены Лимоновым как «Восьмой сборник» (на обложке надпись: «Самиздат в Америке», Нью-Йорк) и концептуально продолжают его советские самиздатовские книжечки, собранные в первом томе настоящего издания. Какие-то тексты — например, «Город сгнил. сгнили люди…», «Тканям этой оды шум…» и т.д.— входили в предыдущие сборники и потому, видимо, позволяют автору говорить о «русско-американских стихах». Мы же публикуем в этом томе только «американские стихи» (точнее было бы сказать — австро-итальяно-американские), ранее нигде не встречавшиеся.
«Вы знаете — любил поэт когда-то…»
«То занесёт его в букинистический / В Столешников приземистый трагический…» Имеется в виду знаменитый букинистический магазин, располагавшийся по адресу: Столешников переулок, дом 14.
«О войне за Хиву…»
Хива — древний город, ему более 2500 лет. Расположен на территории Узбекистана. Окружён мощными стенами. Легенда о его основании гласит, что город вырос вокруг колодца Хейвак (выкопан по приказу Сима — сына библейского Ноя), вода из которого имела особенный вкус. Этот колодец можно увидеть и сегодня в старом квартале Ичан-Кале. Хива объявлена ЮНЕСКО памятником всемирного наследия. Военный поход, о котором пишет Лимонов, относится к 1873 году. К этому времени Российская империя уже покорила два ханства — Бухарское и Кокандское. На очереди было Хивинское. С трудом, но и его удалось покорить. Весной 1873 года под руководством К. П. Кауфмана, генерал-губернатора Туркестана, ханство было взято. 29 мая сдался Мухаммад Рахим-хан II, а 12 августа был подписал Гендемианский мирный договор, согласно которому Хива перешла под российский протекторат.
«А Хивинский тот хан / Далеко отстоян / Он живёт за войсками в оградах / Он большой и смешной / С голубой бородой / Весь в камнях соболях и наградах». Имеется в виду Мухаммад Рахим-хан II (1845–1910) — одиннадцатый правитель из узбекской династии кунгратов в Хивинском ханстве. Его правление (1864–1910) отличалось особой просвещённостью: при дворе уделяли внимание искусству и науке, принимали культурные новшества, сам Мухаммад Рахим-хан был известным поэтом и композитором.
«Переход. переход / Многодневный поход / Вся пустыня в казаках солдатах / Пить как хочется ох! / А колодец залёг / Впереди в миражах и закатах». Возможно, стихотворение восходит не только к военному походу как таковому, но и к картине Николая Каразина «Хивинский поход 1873 года. Переход Туркестанского отряда через мёртвые пески к колодцам Адам-Крылган». Сам художник рассказывал об этих событиях следующим образом (Нива, 1875. №10):
«А вот перед нами все ужасы Адам-Крылгана (человечья погибель) с его безводными урочищами… Раскалённый песок в какой-то лучезарной мгле, если можно так выразиться, представляется совершенно белым; особенно горы заднего плана — точно сплошь меловые, и по ним-то вьётся разорванной лентой измученный походом, истомлённый жаждой туркестанский отряд… По обе стороны колонны степь буквально завалена павшими животными — верблюдами и лошадьми; там и сям видны группы, силящиеся поднять на ноги изнемогающую под вьюком скотину; полковые собаки, высунув язык и поджав хвост, бродят как чумные… По дороге, пролегающей в средине картины, с неимоверными усилиями коней и прислуги следует артиллерия… Страшное напряжение последних сил чуется на каждом шагу — в этих понуренных конских мордах и натянутых постромках, в этой подмоге солдат, дружно подталкивающих орудие сзади… Слева, на взгорье, расположился начальник отряда с своим штабом, задумчиво следящий за движением отряда».
Клеопатра («Точно помню на картине…»)
Клеопатра правила Египтом на протяжении 22 лет и делила трон со своими братьями Птолемеем XIII и Птолемеем XIV (по традиции они были её формальными мужьями). В настоящем браке она была с римским полководцем Марком Антонием.
«Тихие русские воды…»
«Прошлых купцов обличая / Видел Островский их сын». Александр Николаевич Островский (1823–1886) — русский драматург. Одна из отличительных черт его драматургии — обличение корыстолюбивых и своевластных купцов, чиновников и помещиков.
«Вот мне не двадцать. Но двенадцать что ли? И…»
«Ну куда. куда / чем виноват товарищ Кабаков». Илья Иосифович Кабаков (1933–2023) — советский и американский художник, представитель московского концептуализма. Встречается ещё в идиллии «Золотой век» и в «Оде Сибири» (оба текста см. в первом томе настоящего издания).
«Играют на гармониках…»
«Разрушено Шахматово». Шахматово — подмосковная усадьба Александра Блока и Любови Менделеевой, рядом находится село Тараканово, где в церкви Михаила Архангела поэт со своей супругой обвенчались. В 1921 году усадьба была сожжена крестьянами.
«Эх жёлтенькие лютики / весёлые цветы!» — эти строчки, как и всё стихотворение в целом, строятся на реминисценции стихотворения Блока «Гармоника, гармоника!» (1907):
Гармоника, гармоника!
Эй, пой, визжи и жги!
Эй, жёлтенькие лютики,
Весенние цветки!
«Жил на свете был Лимонов…»
«Видел тени Украины / ездил в хутор на телеге / спал в руках студентки Нины / где-то в Сумах на ночлеге». Эта ситуация встречается не раз в стихотворениях, эссе и прозе Лимонова. См. комментарии к стихотворению «Утекло у жизни многих нас…» (том II).
«Тысячу раз прославленные полянки. где…»
«Лев Толстой в белой полотняности зачем-то / косит красоту». Лев Николаевич Толстой (1828–1910) — русский писатель, один из самых известных и востребованных писателей во всём мире. Но для Эдуарда Лимонова — это ещё один «священный монстр», с которым надо бороться. В одноимённой книге он опубликовал эссе «Лев Толстой: писатель для хрестоматий» (Пушкин, как помните, и вовсе «поэт для календарей»), в котором было:
«Лев Толстой остался в памяти народной прежде всего как большой чудак. Пашущий барин, непротивленец злу насилием, писатель, которого церковь подвергла «анафеме», как густобородый, седобородый, обильнобородый старичок, возможно, не совсем в здравом уме. ⟨…⟩ «Война и мир» большая халтура, задуманная как эпопея о Брежневе «Малая земля», или как она там называлась. Интересно, что написана «Война и мир» примерно в тот же период, когда Достоевский объявил Пушкина национальным гением. Нужно было иметь национального гения, положение цветущей империи обязывало, и необходимо было иметь национальную фреску, эпопею. Как героически мы защищались от французского нашествия. Добавив модного тогда (но самую чуть-чуть, малость) натурализма — светские господа у Толстого говорят по-французски, Толстой, с божьей помощью, приступил. И слепил халтуру, такую же халтуру. ⟨…⟩ Благодаря объёмным своим произведениям Лев Николаевич стал литератором тяжёлого веса, что-то вроде Царь-пушки и Царь-колокола. Вот ему и поклонялись. Ездили и генералы и сановники. Авось чего скажет. И он всем что-нибудь говорил».
«Приезжает Гаршин и стоит глядит». Всеволод Михайлович Гаршин (1855–1888) — русский писатель, поэт, художественный критик. Для Лимонова этот писатель в первую очередь возникает как один из «постояльцев» харьковской психиатрической лечебницы. В интервью Сергею Шаргунову («Пока солдат жив», 18 марта 2020 года) он проговаривал:
«…я лежал, извините за выражение, в сумасшедшем доме, в знаменитой Сабурке, в харьковском психоневрологическом институте — и Хлебников там лежал, и Врубель, и Гаршин там лежал, и кого там только не было, коммунист-боевик Артём там скрывался — почему-то я считал, что в этом ряду, хотя ничего к этому времени не создал, 18 лет мне было. Но я почему-то был абсолютно уверен, что мне самое место с этими людьми. Какое-то количество лет тому назад вдруг обнаружил с юмором в интернете сообщение, что харьковский психоневрологический институт создал свой музей, где есть и я среди всех этих людей. Я подумал, что не так плохо прожил, пока дело идёт хорошо».
«Уезжаю я Димка и прощай…»
Здесь и далее, вероятно, под «Димкой» подразумевается Дмитрий Петрович Савицкий (1944–2019) — писатель, поэт, ведущий передачи «49 минут джаза» на радио «Свобода». Упомянут также в идиллии «Золотой век» и в «Автопортрете с Еленой» (том I).
«У нас есть прошлое…»
Под стихотворением стоит дата: 30.09.— 02.10.1974 г., Вена.
«Отец родился в городе Боброве / У нас Россия есть. Воронежские крови». Отец Лимонова — Вениамин Иванович Савенко — родом из города Бобров Воронежской области. См. об этом комментарии к стихотворению «Вот ты и пыли себе…» (том I).
«У нас кольцовские преемственные связи…». Алексей Васильевич Кольцов (1809–1842) — русский крестьянский поэт, уроженец Воронежа.
«Мы может молодцы такие же как Разин…». Степан Тимофеевич Разин (1630–1671) — донской казак, предводитель восстания 1670–1671 годов, крупнейшего в истории допетровской России. Встречается также в стихотворении «Меня интересовали Ленин и Пугачёв…» См. о нём комментарии к «Автопортрету с Еленой» (том I).
«Готический Святого Стефана собор…»
Под стихотворением стоит дата: 30.09.—02.10.1974 г., Вена.
Готический собор Святого Стефана — католический собор, национальный символ Австрии и символ города Вены. Расположен на площади Святого Стефана (Штефансплатц).
Денизгассе (Denizgasse) — улица в центре Вены.
«За холодами придут холода…»
«Генрих и Кира? Дима. Дорон?». Генрих Вениаминович Сапгир (1928–1999) — поэт, один из друзей московского периода. Часто встречается в текстах Лимонова. Подробнее о нём см. комментарии к идиллии «Золотой век» и «Автопортрету с Еленой» (том I). Кира Александровна Сапгир (1937–2022) — его жена, писательница, мемуаристка. Кирилл Дорон — художник, один из приятелей Лимонова. Получил художественное образование в МГПИ им. В. И. Ленина. Принимал участие в выставках неподцензурных художников. Оформлял детские книги. В 1982 году эмигрировал в США.
«Мир — дерьмо. Народа мы не знаем…»
«И сидим среди десятка русских / Грязный итальянский дом / Ходим восхищённо в этих узких / Комнатах холодных в нём». В эссе «Римские каникулы» из книги «Дети гламурного рая» Лимонов так описывает этот период:
«В Риме я жил только раз. Зимой 1975-го Рим был ледяной. Мы страдали от холода и голода. Комнату за вокзалом Термини нашел нам Толстовский фонд, занимавшийся помощью русским за границей. Комната стоила 60 тысяч лир — половину нашего пособия. Наши два тела, мое и Елены, присоединились к еще одиннадцати телам, обитавшим в этом склепе. Трое были рабочие-абиссинцы с консервного завода, трое — семья Изи Краснова, репатрианты из Израиля, и пятеро — еврейская семья: родители, бабушка и дети. В комнатах, которые сдавала нам синьора Франческа, не было центрального отопления, отапливались мы керосиновыми обогревателями. Свой драгоценный телефон синьора Франческа закрывала на висячий замок. В общем — страшная нищета. Истратив за полмесяца большую часть денег на керосин, мы перестали отапливать комнату. Просто валили на себя все имеющиеся у нас одежды и засыпали, прижавшись друг к другу. О мясе мы не могли и мечтать. Несколько раз в неделю я отправлялся на римский базар, где закупал овощи и оливковое масло. На такой диете мы были злые. Елена вообще отказывалась вставать. Она спала и плакала».
«Рим. Тоска. На вилле мы Боргезэ». Вилла Боргезе скорее является оммажем Генри Миллеру и его роману «Тропик Рака», который начинается небольшим абзацем:
«Я живу на вилле Боргезе. Кругом — ни соринки, все стулья на местах. Мы здесь одни, и мы — мертвецы».
«Огни горят образования…»
«Дыряв фанерный Колизей». В эссе «Фоменко/Носовский: великая ревизия истории» из книги «Священные монстры» Лимонов писал об этой «дырявости» и «фанерности»:
«Я верю в то, что история короче. Я верю в то, что Христос младше на тысячу лет. Я верю даже в то, что Рим по своему стратегическому положению (вдали от моря, еле судоходный Тибр) не мог быть Вечным городом. Когда я жил в Риме зимой 1974/75 года, я обратил внимание на то, что античные храмы и постройки и старый Колизей выглядят подозрительно молодыми. Прогуливаясь по Риму, я не мог отделаться от этой мысли».
«Скотина гадина Россия…»
«Боян бо вещий нехотяще / Края откроет старых губ…» — реминисценция «Слова о полку Игореве»:
«Боян бо вещий, аще кому хотяше песнь творити, то растекашется мысию по древу, серым волком по земли, шизым орлом под облакы».
«Выпить что ли? Здесь не пьют…»
«Мне Алейников приятель / Ворошилов был мой друг». Владимир Дмитриевич Алейников (р. 1946) — поэт, прозаик, мемуарист, художник, один из основателей СМОГа. Также упоминается в стихотворениях Лимонова «Эх Андрюша Лозин — деньги ничего…» из «Седьмого сборника», «Эпоха бессознания», «И все провинциальные поэты» из сборника «Мой отрицательный герой» и идиллии «Золотой век». Игорь Васильевич Ворошилов (1939–1989) — художник, представитель неофициального искусства. Также писал стихи и прозу. Ему посвящено стихотворение Лимонова «Где этот Игорь шляется?» из сборника «Прощание с Россией» («Седьмой сборник»), он упомянут в стихотворении «Эх Андрюша Лозин — деньги ничего…» из того же сборника, в стихотворении «Эпоха бессознания» из сборника «Мой отрицательный герой» и идиллии «Золотой век». В «Книге мёртвых» Ворошилову посвящён очерк «Лабардан».
«В Тибр мутный окунись». Как известно, Лимонов старался войти в любое водное пространство. Об этом написана «Книга воды». Там он среди прочего рассказывает и про эту реку:
«Прославленный именами Ромула и Рема, он оказался просто какой-то гнилой узкой щелью. Такое впечатление, что он остался в состоянии постоянного отлива. Склизкая и вонючая щель была окружена парапетами ⟨…⟩ Заглядывая в вонючие глубины, я сокрушённо качал головой. Почему так далеко опустилась вода? Почему ее так мало? Зачем Вечный город построили далеко от моря на тухлой реке? ⟨…⟩ В некоторых местах он выглядел спокойнее и респектабельнее, чем у нашей школы английского языка. Так, в окрестностях Сент-Анджело Тибр выглядел более достойно. Цвет же у городских рек обычно невыразительный и изменчивый под влиянием света и облаков».
«Новый 1975 год»
«Печальную нашу Салтовку / Вспомнил я в пыльный день / Цыгана Славку с палкою / Бокарева набекрень». Славка Цыган и Славка Бокарев — приятели харьковского периода. В романе «Подросток Савенко» Лимонов пишет про них:
«Раньше у Бокарева была совсем другая идея разбогатеть — он мечтал организовать гигантскую сеть по производству и продаже экзаменационных шпаргалок размером всего с небольшую фотографическую карточку каждая, шпаргалки должны были принести Бокареву миллион. ⟨…⟩ Теперь у Бокарева новая идея. Уже с полгода Бокарев работает над «системой». Он каждый день бывает на ипподроме и записывает данные — какая лошадь в каком заезде пришла первой. Потом эти данные Бокарев старательно систематизирует, наморщив свой лоб Сократа. ⟨…⟩ Бокарев неустанно работает над своей системой и утверждает, что очень скоро он её закончит. Тогда он и сделает свой миллион. Почему именно миллион, Бокарев и сам не знает. Очевидно, его впечатляют целых шесть нулей, следующих непосредственно за единицей. ⟨…⟩ Другая причина, почему ребята позволяют Бокареву сидеть с ними целые вечера,— Бокарев любит и умеет трепаться, говорить он может о чём угодно, в этом искусстве у него есть только один соперник — Славка Цыган. Но трёп Цыгана окрашен в мечтательно-романтические тона и имеет всегда ресторанно-географический привкус. Трёп же Бокарева отдаёт математическим, цифровым романтизмом. Конёк Бокарева — организация, расчёты, сметы и чертежи, его трёп более современен, чем трёп другого Славки, чувствует Эди-бэби. И хотя Эди, как и другие ребята, не верит в то, что Бокарев когда-нибудь заработает миллион, и высмеивает его дурацкие идеи, всё же иной раз Эди-бэби и сомневается. «А вдруг!» — думает он».
«Гришка Приймак торопится / Вовка Золотарёв / Ситенко. Ревенко толпятся / Вблизи проходных дворов». Приймак, Золотарёв и Ситенко — приятели харьковского периода. Встречаются в романе «Подросток Савенко». Виктор Ревенко — одноклассник Лимонова.
«Распухший Саня Мясник». Имеется в виду Саня Красный, который работал на Конном рынке мясником. Упоминается также в стихотворениях «За мостом бесцельно простиралось поле…» (том II) и «Если вспомню мясника Саню Красного…» (том I). Подробнее о нём см. комментарии к стихотворению «Если вспомню мясника Саню Красного…».
«Помню жили мы в отеле…»
«Мучил нас Толстовский фонд». Фонд Толстого — благотворительный фонд, основанный в 1939 году Александрой Толстой, младшей дочерью Л. Н. Толстого. Цель фонда — помощь русским эмигрантам, сохранение и развитие «лучших традиций русского искусства, истории и мысли и в целом лучших гуманитарных идей русской культуры».
«Влажно плавали стада / Туч. Как будто Арчил Горки / Взял и вылил их туда». Аршил Горки (англ. Arshile Gorky; 1904–1948) — американский художник армянского происхождения, один из основателей абстрактного экспрессионизма.
«К положению в Нью-Йорке» (1976)
В 2008 году часть своего архива Эдуард Лимонов передал редактору альманаха «Насекомое» Павлу Фокину, среди иных документов имелся один фактически неизвестный читателям художественный текст — «К положению в Нью-Йорке».
Павел Фокин предложил опубликовать это в альманахе «Насекомое», и после некоторых раздумий Лимонов согласился.
Публикуется по изданию: «Насекомое». Альманах. Калининград: Изд-во ИП Шувалов А. В., 2008.
В оригинале текста, хранящемся в архиве Александра Шаталова, рукопись имеет подзаголовок и датировку: «Дневная передача Нью-Йоркского радио (отрывки)». Май 1976 года. Нью-Йорк.
«8-й интернациональной имени товарища Будённого бригады». Семён Михайлович Будённый (1883–1973) — советский военачальник, участник Гражданской войны, командующий Первой Конной армией, один из первых маршалов Советского Союза.
«Остальных моделей господина Золи, его самого и челядь добивали лимоновские ребята, разыскивая по углам». Zoli Agency — нью-йоркское модельное агентство, особенно заметное в 1970-х и 1980-х годах. Создано в Будапеште венгерским дизайнером Золтаном «Золи» Рендесси (Rendessy) в 1971 году. Первоначально было ориентировано на моделей-мужчин, но вскоре переориентировалось. Через агентство прошло большое количество знаменитостей, в том числе Дольф Лундгрен (1983). Елена Щапова тоже была моделью Zoli Agency. В журнале «Караван историй» (март 2002 года) вышло интервью с ней, где она подробно рассказывала об этом:
«Как-то мы с подружкой, листая журнал, увидели репортаж фотографа Аведона о модельном агентстве «Золи». Поговаривали, что его владелец, господин Золи, любит экстравагантных манекенщиц: у него работали Верушка и Джерри Холл, жена Мика Джаггера. Когда я позвонила в агентство, мне сухо ответили: «Сорри, мадемуазель, только с портфолио!», но, когда услышали, что я из Москвы, любопытство взяло вверх. На кастинге я чувствовала себя как выставленная на продажу лошадь: меня заставили раздеться и даже заглядывали в рот — все ли зубы на месте. «Ай, какие зубки, ай, какие ноги, ай, какие волосы!» — только и слышалось со всех сторон. А ещё все удивлялись моей невероятной худобе (44 килограмма при росте 176!): «А что вы там, бедные, в Союзе ели?» Я честно отвечала, отметив про себя, что у них от удивления брови лезут вверх: «Икру и водку»».
«Командующий отомстил «Нью-Йорк Таймз» за 27 мая 1976 года, когда он и его друзья четыре часа демонстрировали против этой мерзкой газеты, но их игнорировали». 27 мая 1976 года Лимонов с товарищами приковали себя наручниками к зданию «The New York Times», стояли с плакатами «За вашу и нашу свободу», раздавали листовки и требовали публикации своих статей. Подробно об этой истории писатель рассказывает в романе «Это я — Эдичка»:
«Мы часто собирались у [Альки], пытаясь найти пути к публикации своих статей — идущих вразрез с политикой правящих кругов Америки — в американских газетах, а вот в каких именно, мы не знали — «Нью Йорк Таймз» нас отказывалась замечать, мы туда ходили ещё осенью, когда я работал в «Русском Деле» корректором, как и Алька. Мы сидели тогда друг против друга и быстро нашли общий язык. Мы носили в «Нью Йорк Таймз» наше «Открытое письмо академику Сахарову» — «Нью Йорк Таймз» нас в гробу видела, они нас и ответом не удостоили. Между тем письмо было куда как не глупое и первый русский трезвый голос с Запада. Интервью с нами и пересказ этого письма был все-таки напечатан, но не в Америке, а в Англии, в лондонской «Таймз». В письме мы говорили об идеализации Западного мира русскими людьми, писали, что в действительности в нем полно проблем и противоречий, ничуть не менее острых, чем проблемы в СССР. Короче говоря, письмо призывало к тому, чтобы прекратить подстрекать советскую интеллигенцию, ни хуя не знающую об этом мире, к эмиграции, и тем губить ее. Потому-то «Нью Йорк Таймз» его и не напечатала. А может, они посчитали, что мы не компетентны, или не отреагировали на неизвестные имена».
«Дорогой буржуазный магазин Теда Лапидуса разгромлен». Тед (Эдмон) Лапидус (1929–2008) — французский модельер еврейского происхождения, основатель модного дома своего имени.
«Лучшие витрины в Нью-Йорке ⟨…⟩ были конечно у Генри Бенделя». Анри Уиллис Бендель (1868–1936) — американский бизнесмен, модельер и филантроп, основавший дом моды, расположенный на Пятой авеню.
Мэрэлин Вогт (Marilyn Vogt-Downey) — переводчица, троцкистка, член «Социалистической рабочей партии». Для Pathfinder Press перевела серию сочинений Льва Троцкого. Выведена в романе «Это я — Эдичка» под именем Кэрол:
«Худая, она, конечно, была с сигаретой, курила она всё время и выкуривала только полсигареты, остальное погружала в пепельницу, и это остальное у неё очень дымилось. Она сносно говорила по-русски, сигареты упрямо называла папиросами и после некоторых вступительных предложений сразу же погрузила меня в вопрос о необходимости для русских признать независимость украинцев. Ох!»
«Все отлично помнят, как в 1975 году [Сальвадор Дали] приветствовал казнь пяти наших братьев-басков». Художник поддерживал главу испанского правительства Франко. Тот боролся с коммунистами, социалистами, анархистами, республиканцами и т.д. За пару месяцев до своей смерти Франко подписал смертный приговор пяти баскским террористам. Главы правительств многих стран, включая римского папу Павла VI, просили о помиловании. Но 27 сентября 1975 года террористы были расстреляны. Дали отправил Франко сочувствующую телеграмму. А когда об этом узнали, художник подвергся обструкции: неизвестные изрисовали оскорбительными граффити его дом в Порт-Льигате.
«Да, я оказался прав — вот выстраиваются, выходят испанцы. ⟨…⟩ Вот они привязывают мерзавца к дверям столовой. Слышите, как он фыркает и плачет. Даже умереть достойно не может». Смерть Сальвадора Дали и бесчинства, которые устраивают революционеры-интернационалисты, похожи на отрывки из «Дневника неудачника»:
«Воровать, воровать, воровать, украсть так много, так, чтобы еле унести. Охапками, кучами, сумками, мешками, корзинами, на себе уволакивать, велосипедами, тележками, грузовиками увозить из магазина Блумингдэйл и тащить к себе в квартиру. ⟨…⟩
— Ткни эту пизду стулом, чтоб буржуазное достояние не защищала!
— Ой не убивайте, миленькие!
— Бей ее, суку, не иначе как начальница, а то и владелица!
— Мальчики! Мальчики!— что же вы делаете! Умоляю вас — не надо!
— Еби ее, стерву накрашенную — правильно, ребята!
Давно мы в грязи да нищете томились, хуи исстрадались по чистому мясу — дымятся!
— А пианина — Александр — мы с возмущённым народом пустим по лестнице вниз. На дрова! (Гром х-п-з-т-р-р-р-р-р-р!)
— И постели эти! (Та-да-да-да-да-др-р-р-р!)
Так я ходил в зимний ненастный день по Блумингдэйлу, грелся, и так как ничего по полному отсутствию денег не мог купить и второй день кряду был голодный, то и услышал извне все это».
«…один из зачинателей великой революции, один из её предтеч и пророков — Чарлз Мэнсон». Чарльз Миллз Мэнсон (1934–2017) — лидер коммуны «Семья», отдельные члены которой в 1969 году совершили ряд жестоких убийств, в том числе известной киноактрисы Шэрон Тейт. Мэнсону посвящено эссе «Чудовище обывательских снов» в книге Лимонова «Священные монстры» (2003):
«Дело Мэнсона отвратило от движения хиппи интеллектуалов и попутчиков. С 1968–1969 годов солнце движения стало закатываться. Общество так толком и не поняло, кто был Мэнсон. Его объявили антихристом, маньяком, тогда как он по сути своей лишь начитанный рабочий, увидевший Христа и истолковавший видение как зов. И основавший свою секту».
«Группа молодых воинов 8-й революционного знамени дивизии имени Че Гевары». Эрнесто Че Гевара (полное имя Эрнесто Гевара де ла Серна; 1928–1967) — латиноамериканский революционер, команданте Кубинской революции 1959 года и кубинский государственный деятель.
Че Геваре посвящено эссе «Gerilliero heroico» в книге Лимонова «Священные монстры» (2003):
«Если раньше его портреты продавались, помню, на набережной Сены рядом с репродукциями Ван Гога и голой задницей туристки, то теперь Че успешно репродуцируется на майках, украшает брелки и вышел к ситуации, когда на вопрос: «Революционер?» — настоящие и будущие поколения будут дружно отвечать одно и то же: «Че Гевара!»»
«Стихотворения» (1976)
Сборник выпущен в единственном экземпляре — специально для Елены Щаповой. На обложке значится: «Стихотворения. Нью-Йорк, 1976 год».
Публикуется по книге Елены Щаповой — «Это я, Елена: Интервью с самой собой» (Нью-Йорк: Подвал, 1984. Под ред. К. К. Кузьминского), а также по доступным страницам, выставленным 16 мая 2020 года в аукционном доме «Антиквариум» (Аукцион 66–1. Лиля Брик Бронзового века: из архива Елены Щаповой де Карли. Самиздат и неофициальное искусство. Автографы и фотографии). За неимением возможности напечатать сборник целиком укажем, что в него ещё входили такие стихотворения, как «Вы живёте вдвоём…», «Елена! Михрютка!..», «Живу. Да — рискую…», «Жизнь идёт. Страданья нелегки…», «Туманных рощ огромный аромат…», «Утром кофе с тонкой сигаретой…», «Утром пышно и печально…», «Я зыбок и мне не до улыбок…».
«Стихотворения» (1976) созвучны роману «Это я — Эдичка» и заключают в себе переживания писателя при расставании с Еленой Щаповой. В самом романе сборник тоже упоминается:
«…я подарил [стихи] ей накануне, отпечатав [сборник] на оборотной стороне рекламных листков с голыми красавицами — реклама борделей. Эти разноцветные листки я собирал специально. Там о ней в моих стихах много чего не очень лестного написано».
«Солнечный мир перепоя…» восходит к известному стихотворению А. А. Ахматовой «Сжала руки под тёмной вуалью…». Там лирическая героиня довела своего возлюбленного до белого каления — и тот покинул её. Она пытается его остановить, но получается это или нет, Ахматова оставляет под вопросом:
«Задыхаясь, я крикнула: «Шутка
Всё, что было. Уйдешь, я умру».
Улыбнулся спокойно и жутко
И сказал мне: «Не стой на ветру»».
У Лимонова обратная ситуация: даётся взгляд доведённого до отчаяния мужчины:
«Солнечный мир перепоя
Я здесь один на ветру
С городом что-то такое
В городе этом помру».
Если у Ахматовой можно предположить, что возлюбленный лирической героини проявляет заботу о ней или в крайнем случае холодно и саркастически прощается с ней, то у Лимонова вся ситуация доводится до трагического абсурда.
«Эти пары ликующих дней…»
«Хорошо умереть молодым / Чтобы женщины плакать бы стали» — реминисценция стихотворения Н. А. Некрасова «Не рыдай так безумно над ним, / Хорошо умереть молодым!» (1868), где в центре внимания оказывается Христос. У Лимонова герой его поэтических и прозаических текстов часто христологичен, но в последний момент грозит обернуться лжемессией.
«Хорошо чтоб меня застрелил / Полицейский у края ограды» — эти строчки по своей интонации, настроению и описываемой сцене могут быть созвучны сцене из «Дневника неудачника»:
«Чёрные ткани хорошо впитывают солнце. Хорошо в них преть весной. Когда-то, может быть, у меня было такое пальто. Сейчас я уже не помню. Хорошо скинуть пальто в лужи, перешагнуть, зайти в дверь, она хлопнет за спиной, купить жареного, выпить спиртного, утереться салфеткой, сойти со стула. Сказать ха-ха-ха! Выйти в дверь, завернуть за угол налево, вынуть нож, спрятать его в правый рукав, нырнуть в подъезд Вашего дома,— ударить ножом швейцара, прыгнуть в лифт и очутиться на девятнадцатом этаже. Поцеловать Вас в глупые губы, раздеть Вас к чёртовой матери, выебать Вас, задыхаясь, в неразработанное детское отверстие, в слабую глупую дырочку. Шатнуться обратно к двери и получить в живот горячий кусок металла. И умирать на паркете. Лишь я Вас любил, пожалуй. Ботинки полицейских чинов в последний момент увидать».
«Мне поддержку утром дать готов…»
«Мне поддержку утром дать готов / Так любивший бабу Гумилёв / От него Ахматова ушла…». Николай Степанович Гумилёв (1886–1921) — русский поэт-акмеист, прозаик, переводчик и литературный критик; Анна Андреевна Ахматова (урождённая Го́ренко; 1889–1966) — русская поэтесса-акмеистка и переводчица. Ахматова ушла от Гумилёва вскоре после рождения их сына Льва: поэт часто изменял ей.
«Вы сочинили мне беду…»
«Безумная богиня Флора» — древнеримская богиня цветов и весны, в честь которой проводились флоралии — шестидневные разгульные празднества; в их программу входили как театрализованные представления, так и танцы с раздеванием в исполнении гетер.
«Леночка! Ведь были Вы поэт…»
«Леночка! Ведь были Вы поэт / Русского огромного размера» — в неподцензурном культурном пространстве СССР стихи Елены Щаповой ценились. Генрих Сапгир отзывался следующим образом:
«Лена Щапова — что называется, молодая поросль. Помню, в Крыму, на пляже, лежит длинноногая — мальчики со всех сторон на нее пялятся, а она в клеёнчатой тетрадке стихи записывает, зачёркивает, ничего кругом не замечает. В самиздате стихи её не ходили — муж заслонял, Лимонов. Потом эмиграция и вообще… Но стихи, по-моему, заслуживают внимания: мистичны и самостоятельны, и тоже лианозовские по части формы».
Щапова выпустила две поэтические книги — «Стихи» (Нью-Йорк, 1985) и «Ничего кроме хорошего» (1995).
«В этой жизни только и осталось / Жест красивый. Рана на груди» — интонационно восходит к предсмертному стихотворению С. А. Есенина «До свиданья, друг мой, до свиданья…», где появляются строчки:
«В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей».
«Блатная моя красавица…»
Интонационно пересекается с четвёртой частью «Реквиема» А. А. Ахматовой, что начинается следующими строчками:
«Показать бы тебе, насмешнице
И любимице всех друзей,
Царскосельской весёлой грешнице,
Что случилось с жизнью твоей».
Обыгрывая ахматовские строчки, Лимонов, собственно, показывает, что случилось: она «рыжих французов с фаллосом к малюсенькой жмёт груди».
«Считаясь женой моей третьею…» — видимо, это поэтическое преувеличение. Елена Щапова была второй женой Лимонова, первой — Анна Моисеевна Рубинштейн (1937–1990).
«Лена ты Елена — офицерская дочь…»
«Помнишь совершался в храме брачный обряд ⟨…⟩ Богу изменила. Потеряла кольцо» — Лимонов и Щапова обвенчались в октябре 1973 года в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Щапова вспоминала:
«Моя мама просто отказалась с ним знакомиться и сказала, что никогда в жизни в своем доме его не примет. Она не пришла на нашу свадьбу, на венчание, отец пришёл, а она — нет. Как это ни странно, после венчания, в церкви, я потеряла своё обручальное кольцо. Это было очень плохое предзнаменование. Когда у нас начались проблемы с КГБ из-за лимоновской прописки и его должны были в двадцать четыре часа выслать из Москвы за нарушение паспортного режима, я попросила маму сделать ему московскую прописку, и она, естественно, отказалась. Тогда я посоветовала Лимонову написать ей письмо. Он написал письмо, и моя мать, которая очень любит литературу, оценила его литературные данные и сказала, что хочет с ним встретиться. После знакомства с Лимоновым мама изменила своё мнение».
«Мой отрицательный герой»
Печатается по изданию «Мой отрицательный герой» (М.: Глагол, 1995). Стихотворения, составившие сборник, написаны в Нью-Йорке и Париже, в период с 1976 по 1982 год, и частично были опубликованы в журналах «Континент» и «Синтаксис», а также в сборнике «Трое. Не размыкая уст» (Los-Angeles: Almanac Press, 1981), где наряду с Лимоновым принимали участие Алексей Цветков и Константин Кузьминский, а со вступительным эссе выступил Саша Соколов.
15 мая 2009 года в своём «ЖЖ» Лимонов написал, где среди прочего сделал отдельный комментарий по поводу своих переводов и, возможно, их влияния на некоторые стихотворения из «Моего отрицательного героя»:
«В качестве пары костей для исследователей бросаю вот что. ⟨…⟩ В 1977-м году в Нью-Йорке я уже переводил стихи Лу Рида. Переводы тоже не сохранились, но, может быть, отыщутся когда-либо у кого-либо».
Лето 1978 («По вечерам я пил чаи…»)
«Случайно порешив гулять / Я в Грейси-парк ходил без дела / Детей там наблюдал несмело / Мечтая с ними поиграть // ⟨…⟩ Порой прелестнейшие крошки / Меня бросали в жар невольно» — похожий эпизод встречается в «Дневнике неудачника»:
«Траля-ля! Траля-ля! Так и хочется загалопировать куда-нибудь в лес с поляны, в ряду таких же хорошеньких, маленьких, завитых, в белых чулочках пажей — вслед за маленькой обольстительной принцессой, улыбающейся сквозь шиповные кусты. Загалопировать. Попробуй. Ведь тебе тридцать четыре года. Принцесса вызовет полицию, приедут санитары — объясняй тогда, объясняй, что ты паж. И куда делись другие пажи. Это было в Централ-Парке, где я облюбовал одну девочку».
Крым («Вы помните того индейца…»)
«Вы помните Бернар ту Сару…». Сара Бернар (1844–1923) — французская актриса еврейского происхождения.
«Тогда вдруг Крым украинским вдруг стал / Хрущев сказал. Никитушка сказал…». Никита Сергеевич Хрущёв (1894–1971) — Первый секретарь ЦК КПСС с 1953 по 1964 год, Председатель Совета министров СССР с 1958 по 1964 год. 19 февраля 1954 года Президиум Верховного Совета СССР издал Указ «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР». Хрущёв также упомянут в стихах «Шестидесятые» («И Пехлеви, и Сорейя…») и «На смерть «хрущевки»» («Здесь экскаватор, бьёт дубиной…»)
«Люблю я Крым в виньетке чайных роз / Сухой посёлок Коктебеля / Где я сидел как бы Емеля / На море глядя под откос» — Лимонов не один раз был в Крыму. В юношеские годы сбегал из дома и путешествовал по полуострову. Он успел поработать в местных чайхозах, исходить Крым вдоль и поперёк и встретить Новый год на тюремной скамье в Алуште. А о своей первой поездке в Коктебель Лимонов написал в «Книге воды»:
«В Коктебель мы приехали в мае 1970 года. Тогда это был простой совхозный посёлок. ⟨…⟩ Мы с Анной были передовые. Я уж не помню, кто нас отправил к Марье Николаевне Изергиной, но мы попали по лучшему адресу из возможных. По тёплой пыли в Коктебеле бегали собаки. Марья Николаевна, петербуржка, некогда певица, принадлежала к питерской аристократии, она была сестрой «Таты» — жены директора питерского Эрмитажа Орбели. Неизвестный юный поэт с седой женой Анной, по-видимому, не произвёл в первый раз впечатление на Марью Николаевну, посему нас вежливо препроводили к украинке Марье Ивановне, она поставляла Марье Николаевне и её гостям молоко. Там, в магазине, мы и поселились, вход был под вишней, на вишне жило семейство скворцов, за оградой были холмы, дом был крайний».
«Приятель мой читает Роб-Грийе…». Ален Роб-Грийе (1922–2008) — французский писатель, один из основателей движения «новый роман». В «Книге мертвых — 3. Кладбища», есть очерк «Однажды в Будапеште», посвящённый международной литературной конференции, организованной Энн Гетти, дочерью известного нефтяного магната.
«Ann Getty возглавляла в те годы Wheatland Foundation, и её хобби была литература. Очень высокая, думаю, она была выше 185 сантиметров, с очень правильными чертами свежего лица, намекающими на операции plastic-surgeon, Анн без устали собирала литературные конференции в столицах Восточной Европы, я побывал по крайней мере на двух, в Вене и в Будапеште. Еще Анн стала владелицей издательства Grove Press и тем загубила его»,
— вспоминает Лимонов. Там же о Роб-Грийе, названном «Агрономом»:
«Нужно признаться, я был разочарован. Предо мною предстал седобородый, вполне дружелюбный, разговорчивый мужчина, сопровождаемый знаменитой его подругой Jeanne de Berg. Вот она, злая, в сигаретных клубах, имевшая в прежние времена славу сексоманки и извращенки, произвела на меня большее впечатление. Постаревшая и помрачневшая, она сохранила тайну. ⟨…⟩ не получилось сближения и со знаменитым когда-то Роб-Грийе. К тому же, к тому времени он был уже порядком подзабыт. Я думаю, в 1980-е в Paris я был намного известнее его.
Умер он в 2008 году в Кан, а не в Каннах. Я уже долгое время жил в России, основал партию, отсидел в тюрьме. Мир его праху, он так увлеченно рассказывал о пахучем дереве, под которым мы стояли».
«Геринг даёт пресс-конференцию в душном мае…»
Герман Вильгельм Геринг (1893–1946) — политический, государственный и военный деятель нацистской Германии, Приговором Нюрнбергского трибунала объявлен одним из главных военных преступников. Покончил жизнь самоубийством.
«Кто-то вроде Лимонова»
Любопытно сравнить эту вполне программную для тех лимоновских лет самопрезентацию со стихотворением Генриха Сапгира «Московские мифы», написанным примерно в то же время:
Лимонов! Где Лимонов? Что Лимонов?
Лимонов-обладатель миллионов Лимонов
партизанит где-то в Чили
Лимонова давно разоблачили.
Лимонов брюки шьёт на самом деле
Лимонов крутит фильм в Венесуэле
Лимонова и даром не берут
Лимонов — президент ЮНАЙТЕД ФРУТ
Приглашение к балету («Пойдём посмотрим на балет…»)
«Глядя балет я вспомню есть Уайльд…». Оскар Фингал О'Флаэрти Уиллс Уайльд (1854–1900) — ирландский поэт, писатель, эссеист. Лондонский денди, позднее осуждённый за гомосексуализм. Проведя два года в тюрьме, уехал во Францию, где жил в нищете и забвении под изменёнными именем и фамилией. Автор романа «Портрет Дориана Грея».
Подробнее об Уайльде в книге Лимонова «Священные монстры» (2003), эссе Conversationalist:
«…остались блестящие афоризмы, пара статей (сказки его меня в восторг не приводят) и трагическая судьба. Этого достаточно, чтобы быть великим».
«…иллюстрации Бёрдслея…». Обри Винсент Бёрдслей (1872–1898) — английский художник-график, иллюстратор, декоратор, поэт. Наибольший успех связан с созданием и публикацией его рисунков к уайльдовской «Саломее». Подробнее о Бёрдслее в книге Лимонова «Мои живописцы».
Эпоха бессознания («Из эпохи бессознания…»)
«Вместе с мёртвым Геркой Туревичем / и художником Ворошиловым». Герка Туревич — это всё тот же Гриша Гуревич. Игорь Васильевич Ворошилов (1939–1989) — художник, представитель неофициального искусства. О нём см. комментарии к стихотворению «Я ведь, братцы, помру, и никто не узнает…» (том II).
«…встречи девочки и собаки / всего лишь через год-полтора…» — имеется в виду первая встреча с будущей женой Лимонова Еленой Щаповой, приходившей на свидание с собакой. О том, как эта собака вела себя во время встреч Эдуарда и Елены, упомянуто в романе «Это я — Эдичка»:
«Елена Сергеевна в платье из страусовых перьев шла гулять с собакой и, проходя мимо Ново-Девичьего монастыря, заходила вместе с белым пуделем в нищую, ослепительно солнечную комнатку к поэту Эдичке, это был я, господа, я раздевал это существо, и мы, выпив бутылку шампанского, а то и две,— нищий поэт пил только шампанское в стране Архипелага Гулаг,— выпив шампанского, мы предавались такой любви, господа, что вам ни хуя не снилось. Королевский пудель — девочка Двося, преждевременно скончавшаяся в 1974 году — смотрела с пола на нас с завистью и повизгивая…»
«где встречались грустные Окуджавы / резко очерченные бачурины похожие на отцов». Булат Шалвович Окуджава (1924–1997) — поэт, композитор, прозаик и сценарист. См. комментарии к тексту из этого тома — «Мы — национальный герой».
«и пел Алейников / И подпевал ему Слава Лён». Владимир Дмитриевич Алейников (р. 1946) — поэт, прозаик, мемуарист, художник, один из основателей СМОГа. Также упоминается в стихотворениях Лимонова «Эх Андрюша Лозин — деньги ничего…» из «Седьмого сборника», «Выпить, что ли? Здесь не пьют…», «И все провинциальные поэты» из сборника «Мой отрицательный герой» и идиллии «Золотой век». Слава Лён, Владислав Константинович Богатищев-Епишин (1937–2021) — русский поэт-квалитист, художник-нонконформист, философ-рецептуалист.
«Вы будете меня любить…»
В книге «Старик путешествует» (2020) Эдуард Лимонов показал, что это стихотворение оказалось во многом пророческим:
«Чуть ли не в первый же день пребывания в Риме Сандро Тети устроил мне выступление в шикарном книжном магазине в центре Рима. Так как я знаю английский и французский, а итальянского не знаю, то со мною рядом поместили переводчицу. ⟨…⟩ В какой-то момент переводчица, наклонившись ко мне, прошептала: «Там не ваша бывшая жена сидит?» От бывшей жены Елены, из Рима, мне ещё в Москву прислали (переслали, у неё нет электронного адреса) предложение встретиться в Риме: «Я слышала, ты будешь в Риме, давай встретимся?» Я ответил совсем не вежливо, но я вообще невежливый человек: «Я не хочу встречаться с людьми из прошлого». Ответа от неё из Рима не последовало. ⟨…⟩ Там в Риме было хорошо, жарко. Сбитые дождём, лежали на тротуарах широкие листья. Пахло грибами и хвоей. Случившееся лет сорок тому назад в ледяном Нью-Йорке не имело никакого отношения к Риму. ⟨…⟩ Моя бывшая жена была в чём-то белом с кружевами. По её недавним фотографиям я знал, что у неё морщинистое отёчное лицо, так что она явно вырядилась не по возрасту. Но если уж женщина однажды уверовала в то, что она красавица, то так и верит до конца дней своих. Очень давно я написал стихотворение: «Вы будете меня любить, / И целовать мои портреты…» Очень хорошее стихотворение. Обычно русские старушки за границей ходят в библиотеку имени Тургенева. Через некоторое время, уже в Москве, я понял, что совершил, отказавшись встретиться с ней, поступок. Ведь и в самом деле: совершил поступок».
«Меня подруга нежная убила…»
В книге «Анатомия героя» это стихотворение становится и поводом для разговора о Елене Щаповой, и воспоминанием о ней, и пророчеством:
«5 января 1998 года случилось знаменательное событие. Вечером, как всегда по понедельникам, я только что провёл партийное собрание и был в зале собраний Штаба, прибежал растерянный Саша Дементьев («Цемент») и сообщил, что звонит Елена Щапова. Я пошёл и взял трубку. Да, это была она. Из Рима её было слышно лучше, чем из Москвы. «Хочу предложить тебе жениться на мне. Женись, станешь графом…» — сказала она развязно, т.е. стесняясь. «По женской линии титул не переходит, ты же знаешь»,— сказал я. «Я не шучу, я серьёзно предлагаю тебе жениться на мне»,— сказала она. «Да мы с тобой, кажется, и не разводились. Я, кажется, женат на нескольких женщинах сразу. И на тебе в том числе»,— согласился я. Она сказала, что ей тошно в Италии и она хотела бы найти работу в России, и еще что-то стыдливо бормотала, всё же возвращаясь к тому, что она хочет, чтоб я женился на ней. Я хотел спросить: «Да трезвая ли ты?» Но не спросил. Затем она долго диктовала свой телефон с помощью дочери (было слышно), переводя цифры на русский.
Поздняя, ненужная, бесполезная победа, подумал я, положив трубку. Боже мой, я ожидал этого реванша почти двадцать два года. Но зачем мне сейчас этот реванш? Ей будет сорок восемь лет! Когда живёшь достаточно долго, то видишь жизнь в развитии и грустно замечаешь, что ты был прав.
Хуйня, Лена, никакая ты не графиня, а потерпевшая поражение женщина, которая через 22 года поняла, что тот парень, резавший из-за тебя вены, парень, написавший о тебе страстную книгу — крик боли и отчаянья,— был единственным и самым-самым ярким. А ты прожила эти 22 года вдали от него. Как там я писал в 1976-м — страшным летом? ⟨…⟩ «А я больна была и всё убила. / Прости меня!» — и сдернёт маску рыла…» Вот и сдёрнула. Случилось это в году 1998-м, 5 января. Но я не ощутил никакого удовлетворения. Поздно».
«Три деревенских стихотворения»
1. «Лампа. Книга и машинка».
«Четырёх баранов спины / Как с французския картины / Клод Лоррен или Пуссен / Только нету старых стен». Клод Лоррен (1600–1682) — французский живописец и гравёр, один из величайших мастеров классического пейзажа. Никола Пуссен (1594–1665) — французский художник, один из основоположников живописи классицизма.
2. «Там дальше — поле кукурузы…»
«Я днем работаю. А в час / Когда темнеет небо круто / Пишу ребятушки для вас / Отмывши руки от мазута // «Оно» вернее лишь смола / Мы кроем толью крышу хлева / Джорж. Билл и я. И нам без зла / Бросает листья осень слева». Эта же история присутствует в рассказе Лимонова «Моральное превосходство»:
«Майкл стал работать над опалубкой, сооружать её из досок вместе с толстым трусом Биллом, а меня прикрепил к Джорджу — покрывать новую крышу слоем смолы. На крыше пахло хорошо и крепко смолой и хвоей. Потому что вровень с крышей качалась под ветром крона пахучей сосны. Всё это происходило в местах, описанных некогда Вашингтоном Ирвингом. В нескольких милях всего лишь находился «Рип Ван-Винкель Бридж». И, как я уже упоминал, природа вокруг была необыкновенно красивая. Невозможно было поверить, что такая природа возможна всего лишь в двух часах езды от Нью-Йорка на автомобиле».
«В газетах опять о Вьетнаме…»
Последние две строфы публикуются по сборнику «Трое. Не размыкая уст» (Los-Angeles: Almanac Press, 1981).
«Островок наш ничего…»
«Мы на Вэлфере живем». Welfare — американское пособие по безработице. В известном смысле провидческое стихотворение, если обратить внимание на строки:
«Продавай старик Манхэттан
И гори дурак огнем
⟨…⟩
Загремишь и запылаешь
Вспомнишь наши имена!»
Манхэттен действительно загорелся, загремел и заполыхал вследствие террористического акта 11 сентября 2001 года. Знаменательно, что этот день Лимонов встретил в тюрьме, о чём напишет потом в книге «В плену у мертвецов» (2002):
«Когда я взглянул на экран, там горела чёрными клубами башня World Trade центра. Во, вздор какой!— где же «Новости»?— подумал я и сдвинулся по шконке, предполагая сменить программу. Но прежде я включил звук. Диктор, заикаясь, говорил о страшной катастрофе, упомянул самолёт, и я понял, что самолёт влетел в здание Мирового Торгового Центра. «Нам неизвестно, что это за самолёт, и почему он отклонился от курса»,— провещал диктор. Последовала пауза, и затем диктор закричал, задыхаясь: «Второй самолёт! Летит!» Через мгновение я увидел, как в башню World Trade центра номер два воткнулся игрушечный аккуратный самолётик, и, расплескавшись, вышел из Мирового Торгового с другой стороны в форме клякс и капель на экране!
Позднее эти кадры тиражировали вновь и вновь телестанции всего мира. Самолётик тысячи раз влетал в башню, как в кремовый торт, и, расплескавшись, вылетал из тела башни на противоположной стороне. Голубые небеса, чёрный дым над макушкой другой башни. Чистенькая аккуратная картинка. Два самолётика как сперматозоиды пробили плоть двух рослых 110-этажных американок, изнасиловав United States of America. Известная пуританская целка получила два shots of sperme. Чья сперма? Чужаков, разумеется. Но на то оно и изнасилование, что чужаки хотят остаться анонимными.
Вчера, десятого сентября, на прогулке, я услышал, как по радио сказали, что десятое — день святого Саввы Псковского и святого Вениамина. Моя фамилия — Савенко — происходит от имени Савва, а отца моего зовут Вениамин. Десятого на прогулке, вчера, я приободрился, получив такую защиту в важный для меня день. В четверг утром, я знал, уже появилась бумага Генеральной Прокуратуры, заменяющая мне арест на освобождение под подписку о невыезде. Я понял, что будет тяжёлая битва, раз мобилизованы такие силы. Дело в том, что я не верил, что меня отпустят. Вопреки очевидным фактам моё тело говорило мне «нет». И уже после 20 часов, за два часа до отбоя мне сунули-таки в кормушку бумагу. «Ознакомьтесь и подпишите!» Письмо следователя подполковника Шишкина к начальнику изолятора полковнику Кирюшину: «Сообщаю, что 10 сентября 2001 года, заместителем Ген. Прокурора РФ, Государственным советником юстиции 1-го класса Бирюковым Ю. С. срок содержания под стражей следственно-арестованного САВЕНКО Э. В. продлён до 8 месяцев и 3 дней, т.е. до 11 декабря 2001 года». Святой Савва, святой Вениамин, семейные святые, не сдюжили. Борьба сил Зла с силами Добра закончилась победой сил Зла…
И вот менее чем через сутки силы Зла поражены смертельными сперматозоидами. С Америкой у меня были старые счёты. Мой первый роман вышел в Германии под заголовком «Fuck off, Amerika!» ⟨…⟩ Будете знать, палачи, как продлевать срок заключения под стражей следственно-арестованному Савенко Эдуарду Вениаминовичу в день святых Саввы и Вениамина!»
«Уже шестое февраля…»
«Ты не ходил бы — ты бы лёг. / Ах не мочил бы бледных ног!» — аллюзия на известный моностих В. Я. Брюсова «О закрой свои бледные ноги».
Лето 1977-го
«С Джули-служанкою дружбу вертел…». Джули Карпентер, Julie Carpenter (р. 1955) — возлюбленная Лимонова. Выведена в романе «История его слуги» под именем Дженни:
«Я уже не помню точно, сказал ли мне кто, что Дженни экономка, служанка. Может быть, даже она сама сказала, ведь она от меня и не скрывала этого, ведь я сам выдумал, что она хозяйка. Внешне я виду не подал, в лице не изменился, но внутри разволновался. Эдвард — «любовник гувернантки». Даже вернее, поклонник. Помню, что слова «любовник хаузкипер», «любовник служанки», запали в меня глубоко, и я с тех пор о себе так и думал, иногда со злостью и отчаянием, иногда с бесшабашной гордостью отверженного. Вы знаете, гордость отверженного, на мой взгляд, может быть более пылкой, чем гордость аристократа и лорда чёрт знает в каком колене».
Встречается также в стихотворениях «Вспоминаю семидесятые в Нью-Йорке» из сборника «Ноль часов» и «1977» из сборника «Мальчик, беги!».
«Если же Мэрианн вдруг приходила / Джойнт ирландка всегда приносила». В одном из интервью Лимонов рассказывал:
«У моей подружки Джули была по дружка Мерелин, ирландка, и её бойфрендом оказался Марк Белл, который позже стал барабанщиком Ramones Марки Рамоном, а тогда играл у Ричарда Хелла».
Речь о Мэрианн Флинт и Марке Стивене Белле. История этой супружеской пары в художественном варианте воспроизведена в рассказе «The Death Of Teenage Idol», где они названы Бриджит и Дуглас, под этими же именами фигурируют в романе «История его слуги».
«…И мальчик работал в тени небосводов»
«Во двор, в снеготу, в черноту, в сырость мира…». Снегота — окказионализм, позаимствованный у Алексея Кручёных, из его стихотворения «Зима» (1926):
Мизиз…
Зынь…
Ицив —
Зима!..
Замороженные
Стень
Стынь…
Снегота… Снегота!..
Стужа… вьюжа…
Вью-ю-ю-га — сту-у-у-га…
Стугота… стугота!..
Начало («…И только Иван был чернее меня»)
«Мне Немченко Витька с похмелья играл / Любил меня Витька Карпенко / Сестра у него была полный отвал / В неё был влюблён друг мой Генка…». Виктор Немченко — приятель Лимонова харьковского периода. Также встречается в стихотворениях «Рыбки в тине…» и «О, виктор, виктор…» (том II). Виктор Карпенко, Карпеха — еще один приятель харьковского периода; у него была сестра Людмила. Как-то на Пасху к ним в гости попал Лимонов. В «Подростке Савенко» он описывал этот момент так:
«В доме Эди-бэби ожидало по меньшей мере еще несколько десятков христосований, гостей за столом в большой комнате оказалось неожиданно много. Некоторые христосования были совсем не неприятны Эди, например, с большой и красивой девушкой по имени Люда. По виду она была на пару лет старше Эди-бэби и Витьки. Губы у Люды были мягкие. Обойдя всех за столом, Эди был уже профессиональным целовальщиком».
Генка — вероятно, имеется в виду Геннадий Лях, приятель харьковского периода. См. комментарии к стихотворению «Ляхович Лях и Ляшенко…» (том I).
Фрагмент («Мы рот открыв смотрели на пейзажи…»)
«Ив Сен-Лоран наброшен на бедро». Ив Сен-Лоран, полное имя Ив Анри Дона Матьё Сен-Лоран (1936–2008) — французский модельер, самый популярный в мире высокой моды в 1960-е и 1970-е годы. Считается основателем стиля унисекс.
«Гляди на вёсла! О, Жолковский Алик…». Александр Константинович Жолковский (р. 1937) — российский и американский лингвист, литературовед, писатель, кандидат филологических наук. В его архиве сохранилось большое количество стихотворений Лимонова: все они приводятся в первом томе настоящего издания.
«И все провинциальные поэты…»
«Аркадий… Лёнька… Вовка…» — имеются в виду сотоварищи Лимонова, участники группы СМОГ — Аркадий Пахомов и упоминавшиеся в примечаниях выше Леонид Губанов и Владимир Алейников. Аркадий Дмитриевич Пахомов (1944–2011) — поэт. Автор книги «В такие времена» (М.: Прометей, 1989). Нередко упоминается Лимоновым в очерках-некрологах:
«Аркадия Пахомова с нами не было. На Трубной площади мы с Величанским расстались. А Пахомов, оказывается, в ту ночь продолжил бесноваться. Он выпил ещё и разбил при помощи железной урны две витрины на Кузнецком Мосту. За что очутился в Бутырской тюрьме. Позднее он хвастался, что сидел в той же камере, что и Маяковский. В той или в другой, но он сидел в Бутырке, и были мобилизованы многие известные люди, чтобы вытащить Пахомова из тюрьмы. Вытащили всё же, хотя он и просидел несколько месяцев».
(«Книга мёртвых», «Гипсовый пионер и его команда»).
Жена бандита
«Как выросшая Брук Шилдс до отказу…». Брук Шилдс (р. 1965) — американская супермодель и актриса. В 1975 году в возрасте 10 лет приняла участие в откровенной эротической фотосессии Гарри Гросса для Playboy Press, снявшись совершенно голой. В начале 1980 года была самой молодой топ-моделью, когда-либо появившейся на обложке Vogue. Позже в этом же году актриса появилась в противоречивой теле- и печатной рекламе джинсов от Calvin Klein. В рекламном слогане Шилдс произносит фразу:
«Вы хотите знать, что находится между мной и моими джинсами? Ничего!»
К 16 годам, то есть к началу 1980-х, когда и писалось это стихотворение Лимонова, Шилдс стала одной из самых узнаваемых моделей в мире.
Людвиг («Ох и Людвиг-поляк, ну он и Людвиг!»)
Поляк Людвиг — приятель парижского периода. Лимонов характеризует его как «пьяницу, скалозуба и циника». В «Книге воды» он отметил, в какое время сошёлся с этим человеком:
«Мои первые парижские связи были крайне беспорядочными. Только через несколько лет я почистил толпу вокруг себя, а первые года четыре меня окружали разношёрстные люди. Богема, анархисты, алкоголики, гомосексуалисты, лесбиянки, продавцы наркотиков, многодетные матери и проститутки. Я даже спал одновременно с Анн Анжени — редакторшей порножурнала и Кароль — её заместительницей, сразу с двумя. Надзирать за мной было некому. С февраля 1976 года я жил один. И к 1982 году у меня не осталось никаких моральных устоев, чему я был рад. Позднее они появились, и я жалею».
«И Анук Эмэ была там с ними…». Франсуаза Жюдит Сорья Дрейфус, известная под псевдонимом Анук Эме (р. 1932),— французская актриса. Обладательница премии «Золотой глобус». Снималась в самых известных кинофильмах Федерико Феллини — «Сладкая жизнь» (1959) и «Восемь с половиной» (1963).
14 июля («Инспектор тюрьмы и начальник работ…»)
14 июля — французский национальный праздник День взятия Бастилии.
Зависть («В камнях на солнце рано…»)
27 мая 2019 года Лимонов прокомментировал в «ЖЖ» и это стихотворение, и свои отношения с Иосифом Бродским:
«Он больше всех подходил под категорию «выдающийся», вряд ли «великий», но «выдающийся», да. Больше других понимал о жизни, как и мне, люди ему, я думаю, казались детьми. Я никогда ему не завидовал (я вообще никогда никому не завидовал, моё стихотворение «Зависть» — ироническое, уж поверьте, не нужно его трактовать, как идиотам, впрямую). Я безусловно Джозефа оспаривал, потому что он был полностью признанный поэт, а я — полностью непризнанный. Вообще-то у нас с ним существовала близость душ и восприятия, в которой я не сомневаюсь. Однажды он подарил мне здоровую американскую. сексуальную девку, что для мужчины конечно — поступок, от себя оторвать, с такими приветливыми словами: «Я пошлю тебе Эдик девку, у меня на неё здоровья нет, а тебе пригодится, она это любит». Не стану её тут рекламировать либо, напротив, ей мешать жить, но я воспользовался его подарком. Я часто вспоминаю его строки из Римских элегий «про худощавую, но с толстыми ногами, которая стала жрицей, и беседует с богами», а ещё душераздирающе средиземноморское «На рассохшейся скамейке — старший Плиний, дрозд щебечет в шевелюре кипариса»».
Бродский и взаимоотношения с ним (как при жизни, так и после смерти Бродского) — для Лимонова мотив постоянный. В «Книге мёртвых», очерк «Ветхий Бродский — великий американский поэт»:
«У него есть несколько стихотворений, которые я хотел бы написать. Это:
«Он здесь бывал,
ещё не в галифе,
в пальто из драпа, сдержанный, сутулый,
арестом завсегдатаев кафе
покончив позже с мировой культурой.»Это «На смерть Жукова», это «Письма римскому другу». ⟨…⟩ У Святого Иосифа была хорошая деловая хватка, попав куда надо, он эксплуатировал жилу до конца. Ему сопутствовала удача, уж казалось бы: что можно высосать из такой архаичной роли, как поэт в 20 веке, в его конце. А он высосал. И, высосав, защищал своё жестко и жестоко. Внешне он был некрасив и старообразен. У него был настоящий талант, хотя и архаичный, библиотечно-академический. Он — единственный из живших в моё время литераторов, кого я некогда выбрал в соперники. Единственный, с кем хотел бы поговорить долго и откровенно «за жизнь», о душе, и всякие там космосы и планеты. Но он всегда уклонялся, боялся. Когда он умер, мне стало скучнее. Мне хотелось бы, чтобы он жил и видел мои последующие победы, пусть они и не лежат в области литературы. Существуют сведения, что Владимир Набоков стал писать прозу потому, что существовал его великолепный современник, поэт Ходасевич. Думаю, что и на меня оказало влияние то обстоятельство, что в мою эпоху работал поэт Бродский. Я ушёл в прозу, где у меня не было конкурентов. Впрочем, это лишь догадка. Такого решения — нет, я не принимал».
Иуда на Бродвее («Я шел по Бродвею, одетый в полковничий плащ…»)
В книге «В плену у мертвецов» Лимонов даёт такой комментарий к этому тексту:
«У меня есть стихотворение «Иуда на Бродвее». ⟨…⟩ Иуда является вторым по значению персонажем истории Христа. Вовсе не апостол Пётр, лысый бородач, верный и мощный камень, и не Павел, и ни оба они вместе. Да, они построили христианскую церковь, но, если бы не они, какой-нибудь другой апостол построил бы: апостолы были способные люди. А вот без Иуды, целующего Христа, чтобы выдать его Синедриону — тогдашнему ФСБ — и людям Понтия Пилата, без Иуды не состоялся бы Христос. Поскольку непреданный, неарестованный Христос не предстал бы перед судом Синедриона и, соответственно, не был бы распят. Не умер бы на кресте и не воскрес бы впоследствии. То есть роль Иуды из Кариота — это роль делателя Бога, богосоздателя. Это уже звучит страшновато — «богосоздатель», ибо предполагается, что создавший Бога, возможно, выше стоит в иерархии, чем сам Бог».
Парижские стихи. Баллада парка Лобо («Пахнет бензином над бурой водой…»)
Стихотворение датировано: Париж, 1981 год.
«В парк вдруг заходит печальный Никто / Член показать из пальто // ⟨…⟩ Мы уцепились… И вот на пальто / Кончил за всех нас Никто…» — эти строчки можно воспринять как аллюзию на Иосифа Бродского и его известное стихотворение «Лагуна» (1973):
И восходит в свой номер на борт по трапу
постоялец, несущий в кармане граппу,
совершенный никто, человек в плаще,
потерявший память, отчизну, сына;
по горбу его плачет в лесах осина,
если кто-то плачет о нем вообще.
«Я ходил в супермаркеты вместо дворцов…»
«Я ходил в супермаркеты… Там как Мельмот / Я топтался часами». Имеется в виду главный герой романа «Мельмот Скиталец» Ч.Р.Метьюрина (1782–1824).
«Демонстранты идут по майской земле…»
«Две книжки Фройда читает наш сын». Зигмунд Фрейд (1856–1939) — австрийский психолог, психиатр и невролог. Лимонов называет его Фройд — и это более верная транскрипция, если брать во внимание звучание фамилии на немецком языке. О Фрейде Лимоновым написано эссе «Доктор Фройд» в книге «Священные монстры» (2003):
«Часть его выкладок, возможно, неверны. Ну и что с того? На самом деле он проделал крайне важную для человечества работу: дал названия некоторым инстинктам и желаниям, некоторым движениям и отвращениям, организовал сексуальный мир. С этим миром нужно ведь было что-то делать».
На Фрейда Лимонов ссылается в публицистическом дневнике «Убийство часового» (1992), доказывая, что агрессия — врождённое и неотъемлемое человеческое качество.
«Добавив Гамсуна книгу «Голод»». «Голод» (норв. Sult) — первый роман норвежского писателя Кнута Гамсуна (1859–1952), полное издание которого появилось в 1890 году. Его также называют первым модернистским романом. Из романа Лимонова «Молодой негодяй»:
«— Коллектив — козье племя,— сказал Эд.— Худшие — это коллектив. Слабейшие. Они объединяются, чтобы угнетать и не давать развернуться лучшим. Кнут Гамсун, Юрка, сказал в одной своей пьесе, что рабочих следует расстреливать из пулемётов.
Юрка даже задохнулся от ярости и расстегнул пуговицу под горлом. Его двухнедельные усы гневно задвигались под носом.
— Фашист был твой Кнут Гамсун. Он приветствовал Гитлера!
— Писатель не может быть фашистом. Он писатель, и всё тут. Кнут Гамсун очень хороший писатель. Ты «Голод» читал, Юрка? (В те времена Эд ещё считал нужным выгораживать Гамсуна от обвинений в фашизме. Сейчас он равнодушно заметил бы: «Ну фашист и фашист! Это было его личным делом». Было, потому как он умер. Об Эзре Паунде и Селине Эд еще не слышал, романы же и пьесы Гамсуна успели перевести на русский до и сразу после революции.)»
Доктор Джакиль и мистер Хайд
Сюжет восходит к «Странной истории доктора Джекила и мистера Хайда» — фантастической повести английского писателя Роберта Л. Стивенсона (1850–1894).
День X («Сегодня лидер оппозиции…»)
Две строфы, начинающиеся строчками «Капрал Родриго жадно держится…» и «Сейчас он вскочит. Вдруг оденется…», ранее не входили в оригинальную книгу «Мой отрицательный герой» и публикуются по изданию «Стихотворения» (Екатеринбург: Ультра. Культура, 2005).
Стихотворения из разных книг (1977–2001)
Наташа («Это кто идёт домой…»)
Стихотворение не в полном виде (всего должно быть 12 строф) появляется в романе «Подросток Савенко» в следующем контексте:
««Наташу» Эди написал после Пасхи у Витьки Немченко. Вообще-то Эди не собирался читать «Наташу» и конферансье её не показывал. Но теперь, стоя лицом к лицу с тысячами людей, он подумал: а почему бы и не «Наташу»? Слушателям она всегда нравится. Он только не будет читать последнюю строфу, там про шпану, а так — что, конферансье и дружинники его с эстрады, что ли, стянут?»
Отчасти похоже на стихотворение «На том месте где раньше стояло…» из сборника «Прогулки Валентина» (том I).
«По пустынным бульварам ночных городов…»
Это незаконченное стихотворение возникает в рассказе «Личная жизнь» из книги «Чужой в незнакомом городе». Там Лимонов подробно рассказывает о нём:
«Когда придёт мой последний час и буду я умирать, хрипя кровью, я знаю — я вспомню не лицо матери, не губы любимой, но ночную улицу супергорода и себя, одиноко шагающего в темноте, подняв воротник плаща. Когда-то, блуждая по Нью-Йорку, я придумал стихотворение. Оно осталось незаконченным, потому что я решил его не допридумывать. Что-то испортится, если допридумаю. ⟨…⟩ Всё-таки это больше о женщинах, чем о городах. Однако начало меня возбуждает. Что-то мне в нём удалось вечное…»
«Мою девушку из машины…»
Это стихотворение возникает в романе «Это я — Эдичка», где автор даёт его в следующем контексте:
«Попался [Саня Красный] без меня — сел в тюрьму за попытку изнасилования женщины, с которой он до этого много раз имел любовь. В тюрьме он работал на кухне и… писал стихи. Когда он вышел — его хорошо и глубоко пырнули ножом. «Не помогло и мое сало!» — жаловался он мне, когда я пришел к нему в больницу. Он был добрый по отношению ко мне, он поощрял меня к писанию стихов и очень любил стихи слушать. По его просьбе я несколько летних сезонов подряд на городском пляже читал изумлённой толпе стихи, приблизительно такого содержания ⟨…⟩ Смешно и грустно читать эти стихи, написанные 16-летним человеком, но я вынужден признать перед самим собой, что есть в них неприятно-пророческая нотка — выебал мир мою любовь — мою Елену, и именно эти — с крутыми затылками — бизнесмены и коммерсанты ебут сейчас мою Еленушку…»
«А утром начальник, стесняясь, сказал…»
Это незаконченное стихотворение возникает в романе «Подросток Савенко». Лимонов подаёт его в такой ситуации:
«Гришка же загадочно улыбается и посматривает на Эди. Эди-бэби чувствует, что Гришка в этот момент имеет над ним несомненный психологический перевес, потому, чтобы скомпенсировать себя за Гришкин перевес в области трансцендентного, чтобы Гришка не загордился, что в нем «темные, непонятные ему самому силы» (его выражение) толкают его на убийство, Эди-бэби читает ему только что написанные стихи о милицейском автомобиле, в котором Эди-бэби везут в тюрьму и на расстрел ⟨…⟩ Закончить Эди-бэби не успевает, потому что Гришка останавливает его как всегда идиотским Тришкиным вопросом: «Кто сука, начальник или Светка?» — спрашивает Гришка ехидно. «При чем здесь Светка?— говорит Эди.— Это же стихи». «Нужно выражаться яснее»,— поучительно выдавливает из себя Гришка. К Эди-бэбиным сочинениям он относится скептически, считая, что Есенина Эди-бэби все равно не переплюнуть, потому и незачем заниматься глупостями. ⟨…⟩ «Продолжай!» — говорит Гришка. «Не буду!— отрезает Эди.— Ну тебя на хуй, тебе что стихи, что не стихи, всё равно»».
«На студёном ветру ледяном…»
Стихотворение появляется в книге «Дневник неудачника».
«Я целую свою Русскую Революцию…»
Стихотворение появляется в книге «Дневник неудачника». Из рассказа «Женщина, вдохновлявшая поэта»:
«Мне журнал «Sunday Times» присудил бронзовую медаль наглости. По поводу моих строк, где говорилось, что я целую руки русской революции, журналист ехидно осведомился: «Не оказались ли в крови губы мистера Лимонофф после такого поцелуйчика?»»
Речь идёт о выступлении Лимонова на первых в мире Поэтических Олимпийских играх, организованных Майклом Горовицем в 1980 году.
«Эдюшечка, Эдюшечка…»
Стихотворение появляется в книге «Дневник неудачника».
«Холодно в доме и сыро…»
В «Книге мёртвых» это стихотворение относится ко второй половине 1970-х годов:
«Это было время, когда я ещё не совсем оправился от разрыва с Еленой, потому стихи были специфические».
Логично было бы отнести данный текст к корпусу стихотворений из машинописного сборничка 1976 года, написанного специально для Елены Щаповой, но, по нашей информации, его там не было.
Итоги
Впервые было опубликовано в литературном сборнике «Russica-81» (New York: Russica Publishers Inc., 1982).
«О моя ветреная муза…»
Стихотворение публикуется по книге «Анатомия героя», где оно подавалось в таком контексте:
«Душа воина может достаться мальчику из какого-нибудь Салтовского поселка в украинской степи, мальчику, затерянному среди чумазых рабочих. Мало-помалу он начинает УЗНАВАТЬ свою душу. Читая книжки, мальчик чувствует, на ЧТО его душа отзывается. В возрасте 14 лет я написал вот какое стихотворение ⟨…⟩ Увы, большую часть текста я забыл, стихотворение, без сомнения, старомодное, наивное, неоригинальное, но вот взвивающаяся во имя дружбы и любви шпага не совсем обычна».
«Anarchists and fascists…»
Стихотворение публикуется по книге «Анатомия героя», где оно подавалось в таком контексте:
«Больше десяти лет тому назад сочинял я для своей подруги Наташи текст песни; так незаконченной она и осталась, и нереализованной.
Текст на английском, а перевод (с той разницей, что по-английски в рифму) такой:
Анархисты и фашисты
Взяли город.
Порядок новый.
Анархисты и фашисты,
Молодые и красивые,
Маршируют по авеню.Пути творческого воображения неисповедимы, и никакая наука и сегодня не умеет толком объяснить связи между текстом, воображением, личностью автора и тем паче социумом. Ничто в далеком 1982-м не предвещало, казалось, сегодняшних идеологических союзов, но поэты (я считаю себя в первую очередь поэтом, темперамент у меня поэтический) обладают даром предвидения. Дар предвидения — это не дача, дачей можно похвалиться, пригласив гостей. Дачи у меня нет, вот хвалюсь даром Божьим».
«…Однажды…»
В книге «Убийство часового» Лимонов рассказывает, как появилось это стихотворение:
«У каждого сильного эпизода жизни есть своя мелодия. Там, в декабре, на Балканах звучала своя, балканская, военная… По приезде в Белград я попытался, не умея музыкально, нотами, записать ее стихами. Вот что получилось, такой себе фрагмент, как бы подойдя к пианино, клавиши трогает неумелый музыкант ⟨…⟩ Там, в войне, среди людей с красными руками и обветренными лицами (декабрь 1991 года был необыкновенно холоден, до -10°C, и это в стране, граничащей с Грецией!), среди полинялых армейских курток, шинелей и плащей и мой затасканный бушлат был уместен, сливался с ними. Я был одним из них, и мне было хорошо и тепло принадлежать, пусть на короткое время, к людям войны».
«Старый фашист (Пьер Грипари)…»
Пьер Грипари (1925–1990) — французский писатель, театральный критик, лауреат премии Вольтера и Французской академии. Для массового читателя Грипари остался известен как детский писатель: его самая популярная работа — «Сказки улицы Брока» (1967). Грипари был членом Французской коммунистической партии, но после речи Никиты Хрущёва в 1956 году отошёл от неё. Его взгляды сместились в сторону крайне правых идей; а частая критика монотеистических религий (в том числе иудаизма) заставила говорить о нём как о фашисте.
«…посоветовавший мне прочесть Нерваля». Жерар де Нерваль (1808–1855) — французский поэт-романтик, прозаик и переводчик.
«Я потерял Наташу». Наталия Георгиевна Медведева (1958–2003) — российская певица, писательница, журналистка. Третья жена Эдуарда Лимонова.
«Не удалась попытка Денара / отбить Коморские острова». Робер Денар, более известный как Боб Денар (1929–2007) — французский военный и наёмник, участник ряда вооружённых конфликтов в странах Африки и Азии. Деятель геополитического проекта Франсафрика. В 1978–1989 годах — командующий гвардией президента Коморских островов. Был осуждён за принадлежность к организованному преступному сообществу. Получил прозвище Король наёмников. Денару посвящён очерк «В своей постели» («Книга мёртвых — 2. Некрологи»).
«И умер Миттеран фараон…». Франсуа Морис Адриен Мари Миттеран (1916–1996) — французский государственный и политический деятель, один из лидеров социалистического движения, президент Франции с 1981 по 1995 год.
«Когда себя введу…»
Стихотворение датировано: апрель 2000 года.
«Ноль часов» (2002–2006)
В тюрьме
«Страшно проснулся: пустая тюрьма…»
Посвящено Насте. Анастасия Лысогор (р. 1982) — возлюбленная Лимонова, он называл её «девочка-бультерьерочка» (на протяжении их отношений у неё было несколько бультерьеров). Ей посвящены стихи из этого сборника — «Пойти бы погулять с блондинкой…» и «Когда-нибудь, надеюсь, в ближайшем же году…»; а также она является героиней стихотворений «Собака толстая храпит…», «Объявление что ли дать?» и «Писька должна быть как кипяток».
В очерке «Мои быстрые годы» (из книги «Апология чукчей») он вспоминал время их знакомства:
«В июне 1998 года пришла вступать в нашу партию Настя Лысогор, хорошенькая, как ангел, и мы очаровались друг другом, хотя разница в возрасте у нас была вопиющая — 39 лет!»
В романе «В Сырах» (2012) Лимонов добавляет подробностей совместной жизни и в нескольких штрихах рисует портрет Лысогор:
«Она всегда была такой себе девочкой с окраины, злой и немного нелепой. Маленького роста, блондинка, с пристрастием к проклятым российским панк-типажам, ну знаете, мёртвенькая Янка Дягилева, ещё живой тогда, но крепко качавшийся Егорушка Летов… Позднее её бросило к Мэрлину Мэнсону. Перед самым моим арестом в нашей квартире, в прихожей, она, помню, повесила бесовский портрет его с разными глазами. ⟨…⟩ Она, действительно, продавала мороженое, а потом трудилась в зоомагазине, пока я сидел. Чудаковатая девочка, однажды она в конце рабочего дня раздала бесплатно оставшееся мороженое детям и старушкам. («Оно всё равно таяло!» — пояснила она мне, рассказывая эту историю.) За что её с треском и скандалом выгнали, удержав стоимость розданного мороженого при расчёте. С зоомагазином у неё тоже не сложились отношения. Она встала на сторону зверей, и хозяин её уволил».
Анастасия училась в Литературном институте. Лимонов вспоминал о тогдашнем ректоре Литинститута Сергее Есине:
«Где я с ним познакомился? Чёрт его, не помню. Помню только, что первый и последний раз в жизни воспользовался личной связью с ним для того, чтобы устроить маленькую Настю в литературный институт.
Я ему сказал, что она дико талантлива. И дал её тексты. Плохо тогда неоформленные в книгу, но куски её текстов с восклицательными знаками.
Хотя был уже август (1998 год), её тексты в Литинституте прочла приёмная комиссия, и её взяли, решили взять, спасибо Сергею Николаевичу.
Сейчас он умер, и Настя из моей жизни ушла (точнее, я сам её ушёл), и вот сижу я и делаю единственное, что мне лучше всего удаётся,— пишу, скользя шариковой ручкой по дешёвой бумаге, воссоздаю не такое уже давнее, хотя уже и несвежее — 20 лет, прошлое.
— Берём твою пассию!— сказал мне Сергей Есин, когда я пришёл к нему за результатом.— Очень уж талантлива. Нельзя не взять».
(«Свежеотбывшие на тот свет», «Ректор»).
Их отношения в 2004 году закончились. В 2005 — вышла книга «Настя и Наташа» в издательстве «Запасный выход», в которой под одной обложкой оказались роман «Настроение зла» Анастасии Лысогор и пьеса (кинозарисовка) «Жизнь в ноу фьючер» Натальи Медведевой.
«А под ногами с крутого холма / …Бактрия и Согдиана». Бактрия — историческая область, на сопредельных территориях современных Таджикистана, Узбекистана и Афганистана. Согдиана — древняя историческая область в Центральной Азии, в восточном междуречье Окса (Амударья) и Яксарта (Сырдарья), в центре Зарафшанской долины. Ныне на бывшей территории Согда существуют Узбекистан (где располагался центр Согдианы — город Самарканд) и Таджикистан (территория Согдийской области), Южный Казахстан и Кыргызстан.
«Принцем Тамино, с винтовкой и ранцем…»
Стихотворение датировано: 2002, Лефортово.
Принц Тамино — главный герой оперы «Волшебная флейта» Моцарта (либретто Э. Шиканедера).
«Кози фан тутте» — «Так поступают все женщины, или Школа влюблённых» (итал. Così fan tutte, ossia La scuola degli amanti) — опера-буффа Моцарта на итальянском языке (либретто Лоренцо да Понте).
«Ди Зауберфлёте» — собственно, «Волшебная флейта» (Die Zauberflöte).
В эссе «Опера и балет» из книги «Контрольный выстрел» Лимонов рассказывает историю создания этого стихотворения:
«Лучшие оперы — это конечно же оперы Моцарта: его несравненный «Don Giovanni», он же Дон Жуан, о Дон Жуане естественно, «Cosi fan tutte» («Так поступают все») и восхитительная «Die Zauberflote» («Волшебная флейта»). Все они написаны в конце XVIII века. Историю Дон Жуана знает весь мир и русские тоже. «Так поступают все» — история о том, как два офицера — Феррандо и Гульельмо — решают испытать верность своих невест Дорабеллы и Фьердилиджи. Ну, а «Волшебная флейта» — это история о том, как принц Тамино играет на флейте, способной управлять человеческими страстями. В связи с принцем Тамино: австриец, как и Моцарт, Гитлер (на самом деле они два самых великих австрийца — Моцарт и Гитлер). И если уж кто и был способен управлять человеческими страстями — это Адольф Гитлер, как принц Тамино. Раздумывая над этим в один из тюремных вечеров в камере №13, я написал следующее неполиткорректное стихотворение ⟨…⟩ Причудливое моё произведение упоминает рисующего «домы в руино» Гитлера совсем не по причине рифмы. Будучи связным между линией фронта и штабом своего подразделения (Гитлер добирался до фронта на самокате-велосипеде). Гитлер имел в Первую мировую достаточно времени, чтобы рисовать. Его наброски и акварели отдают предпочтение историческим монументам, потрескавшимся и разрушающимся. В рисунках Гитлера есть одновременно историзм Клода Лоррена и дух мистического сюрреализма, прославивший позднее де Кирико».
Саратовский централ («Тюрьма шумит от двери до двора…»)
В книге «По тюрьмам» Лимонов объясняет это стихотворение следующим образом:
«Ещё в августе, в первые месяцы своего пребывания на третьяке я начал, помню, записывать звучавшую тогда в голове моей мелодию словами. Я так и не закончил это стихотворение, но вот что успел записать: «Тюрьма шумит от двери до двора, / С утра вползает влажная жара…» В процитированной культяпке стихотворения верно замечено, что тюрьма поёт. Любое место страстей и страданий поёт по-своему. Мне была знакома одинокая государственная печаль Лефортово, а третьяк поёт нашими страстями, его подневольных обитателей».
Смерть Александера («Цветут болота Вавилона…»)
Александр Македонский (356–323 годы до н.э.) — царь Древней Македонии из династии Аргеадов (с 336 года до н.э.), выдающийся полководец, создатель мировой державы, распавшейся после его смерти.
«Царь пьёт за прах Гефестиона…». Гефестион (356–324 годы до н.э.) — ближайший друг Александра Македонского и один из его полководцев.
«Ему мудрец Калан когда-то / Предрёк что нет, не смерть солдата / Найдёт. Но смертью вавилонен / Он будет в городе разврата». Калан — индийский мудрец, согласившийся покинуть родину и стать советником Александра Македонского.
Македонский упоминается также в стихотворении «Об империях».
«К своей невесте Пелажи…»
«К своей невесте Пелажи / Маркиз де Сад спешит». Донасьен Альфонс Франсуа де Сад (1740–1814) — французский аристократ, политик, писатель и философ. Был проповедником идеи абсолютной свободы, которая не была бы ограничена ни нравственностью, ни религией, ни правом.
Ухаживал за младшей дочерью президента налоговой палаты Франции — господина де Монтрей, но тот выдал за де Сада свою старшую дочь — Рене-Пелажи Кордье де Монтрей. 17 мая 1763 года состоялась свадьба. Однако де Сад не оставил прежней жизни и продолжил посещать дома терпимости. И уже 29 октября 1763 года за свои гуляния он был заключён в башню Венсенского замка, откуда спустя месяц был выпущен и сослан в Нормандию.
Упоминается также в стихотворениях «Петербург» («Меня привлекают твои наводнения…») из этого же сборника, «Де Сад и La Jeunesse» из книги «Золушка беременная», «Мой принц, мой сын!» («Мой сын и белокур и нагловат») и «Ресторан, там где zoo-магазин был…» из книги «А старый пират…», «Ну вот и состоялась порка!» из книги «СССР — наш Древний Рим» (все стихотворения находятся в четвёртом томе).
4 февраля 2003 года
Наталья Медведева умерла во сне 3 февраля 2003 года на сорок пятом году жизни. По данным врачей, смерть наступила в результате инсульта.
Историю этого стихотворения Лимонов рассказывает в книге «По тюрьмам»:
«Наташа — красавица, как с полотна Брюллова,— умерла в ночь со 2-го на 3 февраля. Так как я с нею не разведён, то получилось, что я стал вдовцом. Я узнал о её смерти очень рано утром 4 февраля. Я стоял уже в тулупчике, готовый ехать на суд-допрос, похрапывали сокамерники, когда в 6:30 в «Новостях» НТВ сказали: «Умерла Наталья Медведева, жена Эдуарда Лимонова, «чёрная звезда, леди русского альтернативного рока», «странная женщина»». Отмучилась Наташечка, подумал я.
Сказали: «Умерла во сне». Бородатый сожитель и бородатый брат Наташи, оба Серёги показались на экране. Кинокамера облизала её кассеты и вещи. Бесполезные теперь для неё. ⟨…⟩ Сожитель сообщил, что отсутствовал несколько дней, а когда явился домой, Наташа спала. Он потряс её, оказалось, она мертва. Корреспондентка «Комсомольской правды» задала вопрос: «Что же случилось с Наташей? Слухи уже поползли, говорят, что виной всему наркотики». Сожитель отвечал: «Наташа любила и могла выпить, это — да, хотя запойной никогда не была. А наркотики — нет, исключено. Этим она не интересовалась. Знаю точно, потому что сам когда-то увлекался по молодости, но потом прошло». ⟨…⟩
Сожитель врал во спасение её и своей репутации в глазах газетно-телевизионной аудитории обывателей. Он стеснялся вынести их совместный нарко-алкогольный стиль жизни с Наташей на свет. Наташа, красавица, как с полотна Брюллова [— аллюзия на стихотворение Михаила Кузмина «Первый удар» из сборника «Форель разбивает лёд», чрезвычайно ценимого Лимоновым.— Сост.], была запойной. Я прожил с ней 13 лет, уже с 1988 года она наблюдалась у врача, пила ежедневно под моим присмотром противоалкогольные таблетки Esperale. ⟨…⟩
Я не утверждаю, что она умерла из-за меня, за меня. Но страшный срок, запрошенный мне прокурором, перевесил чашу весов. Послужил последней каплей. Чего вдруг иначе она умерла в конце вторых суток после того, как мне запросили приговор? Что, ей было мало других дней? Она меня всегда очень любила и к тому же уважала. Устала и ушла. Правильно сделала. Я был её зеркалом. Она сделала всё, что могла. И больше уже ничего не могла. А зеркало задёрнул чёрный флёр 14 лет.
Сейчас из неё будут делать культовую фигуру. Женщин такого стиля в России не было уже лет семьдесят. Проклятая леди, чёрная звезда, пропащая душа.
Возвращаясь четвертого февраля из областного суда, зэка Савенко записал в стакане коряво первые стихотворные строчки, а дописал их уже в хате 156, скорчившись на шконке. Своеобразное прощание, тихая шизофреническая песенка умершей».
«Пахнет еда экзотических стран…»
Стихотворение датировано: 2003, Саратовский централ.
«Вечером у сквера…»
Стихотворение датировано: 2003, Саратовский централ.
«Тайны мистических малолеток…»
Стихотворение датировано: 2003, Саратовский централ.
После тюрьмы
«Я помню стихи о России…»
Стихотворение датировано: 23 октября 2003, после тюрьмы.
Бухара 1919 и далее в будущее («Горячий город Бухара…»)
Имеются в виду события 1917–1925 годов, которые привели к ликвидации Бухарского эмирата, образованию Бухарской Социалистической Советской Республики, интервенции Красной армии на территорию республики и подавлению басмачества. Если речь идёт о взятии Бухары, то правильнее указывать не 1919, а 1920 год. 2 сентября М. В. Фрунзе послал В. И. Ленину телеграмму:
«Крепость Старая Бухара взята штурмом соединенными усилиями красных бухарских и наших частей. Пал последний оплот бухарского мракобесия и черносотенства. Над Регистаном победно развевается красное знамя мировой революции».
Наташе I («Мы мало зрели парижских прикрас, Наташа!»)
««Амора миа!» — пела Грейс Джонс, пантера, пантера…». Имеется в виду песня «Amado Mio» Грейс Джонс (р. 1948) — американской певицы, актрисы, модели. По тембру голоса Грейс Джонс очень напоминает саму Наталью Медведеву.
В очерке «Поспешает в направленье Рая мокрая Наташечка нагая» из второй «Книги мёртвых» Лимонов рассказывает о том, как появилось это стихотворение:
«Я вышел из лагеря в заволжских степях и влюбился в мертвую жену. Я стал о ней навязчиво думать и видеть её в характерных для неё сценах. Сцен, на самом деле, в тёмных глубинах моей памяти много, я сам инстинктивно отобрал, видимо, самые сильные и яркие. ⟨…⟩ Углубляясь в тёмный колодец времени, нахожу её и себя в самом конце 80-х. Мы в нашей мансарде в доме 86, rue de Turenne. Вторая половина дня, вчера она была крепко пьяна, мы ругались и совокуплялись, ненавидя друг друга потом. Она пьёт красное вино, расплёскивая его по розово-грязному ковру, вылезла из-под одеял и нашего (я сам сшил его) красного с золотым серпом и молотом покрывала. Я ещё в постели, у стены, под покрывалом. На ней только красные трусы, сочные сиськи подрагивают, её венчает куст красных волос, она слушает, врубив на всю мощность, Грейс Джонс «Аморэ миа!» И подпевает: «Love me forever / And let's forever / To be tonight…» И танцует с грацией сильной тигрицы, рост сто семьдесят девять сантиметров. Из постели я любуюсь ею. И не останавливаю, не пытаюсь ругать за то, что вчера она напилась до дикости. Я понимаю, что она в экстазе. Вот как я эту сцену и Наташу вспомнил в стихотворении «Наташе-1», написанном уже после тюрьмы ⟨…⟩ Выпив, она не устранялась, не спала, как обычные алкоголики. Она впадала в экстаз. Ноги она сбивала, потому что натыкалась коленками, икрами и щиколотками о нашу небогатую и немногочисленную мебель. «Аморэ миа» в исполнении чёрной пантеры, как её называли, Грейс Джонс — действительно мощный и глубокий гимн любви, любви вообще: не кого-то к кому-то, а гимн той трагической травле, которую партнёры устраивают друг другу. Ну да, это трагическая травля. Наташа пела вместе с Грейс, и её голос, низкий и надтреснутый, звучал как любовный вой, как каннибализм самой страшной пробы. Жаль, что Наташа не исполняла эту песню на людях и не осталось записи. Это был ее персональный вой и её суть».
Наташе II («Мы любили друг друга при Миттеране…»)
В том же очерке из второй «Книги мёртвых» Лимонов комментировал это стихотворение:
««Сдохла» и «девчонка» рядом, конечно же, вопият о моей скрытой нежности к ней. Грубость «сдохла» употребляется, чтобы не плакать. Родилась она 14 июля, в день взятия Бастилии, и утром нас будили тяжелые самолёты, летящие низко-низко над нами с военного парада на Елисейских полях».
«Да, Жискар-фараон, Миттеран-фараон / И Ширак-фараон, дальше — некто, кто он?..». Валери Рене Мари Жорж Жискар д'Эстен (1926–2020) — президент Французской Республики (1974–1981). Франсуа Морис Адриен Мари Миттеран (1916–1996) — президент Франции (1981–1995). Жак Рене Ширак (1932–2019) — президент Франции (1995–2007).
«Меня интересовали Ленин и Пугачёв…»
«Разину, Пугачеву, Ленину бьём поклон…» Степан Тимофеевич Разин (1630–1671) — донской казак, предводитель восстания 1670–1671 годов, крупнейшего в истории допетровской России. Встречается также в стихотворении «У нас есть прошлое…» См. о нём комментарии к «Автопортрету с Еленой» (том I). Емельян Иванович Пугачёв (1742–1775) — донской казак, предводитель Крестьянской войны 1773–1775 годов в России. Часто встречается в текстах Лимонова. Подробней о нём см. комментарии к «Автопортрету с Еленой» (том I). Владимир Ильич Ленин (1870–1924) встречается не раз в текстах Лимонова. Подробней о нём см. комментарии к тексту «Мы — национальный герой».
«Собака толстая храпит…»
Стихотворение датировано: 2003, осень.
Героиня стихотворения — Анастасия Лысогор.
Про собаку по кличке Шмон, с которой начинается стихотворение, Лимонов оставил довольно нелестные воспоминания в романе «В Сырах»:
«Я определил ему место в нише в длинном коридоре. Мы положили туда несколько диванных подушек, оставшихся после предыдущих жильцов, и он там подрёмывал, когда не бродил молча, топоча твёрдыми ногами по квартире. Судя по всему, у него был не злой, но тупой и медленный разум боевого животного, опасный уже тем, что был медленным. ⟨…⟩ В первую же ночь он полез к нам в постель. Потому что она приучила его щенком, пока я сидел в неволе, спать у неё в ногах.
«Шмон! На место!— сквозь сон вскрикнула она.— На место!» Результата не последовало. Вонючее животное влезло на нас и стало бесцеремонно расхаживать по нашим телам, разрывая простыни костяными когтями. Ей пришлось встать и вывести его. С тех пор мы закрывали ярко-синюю дверь на задвижку. Однако он ещё долго стучал ночами твёрдой башкой в дверь, пока не привык к новому порядку».
Объявление что ли дать? («Вот я вышел к тебе из тюрьмы…»)
Стихотворение датировано: новый 2004 г.
Героиня стихотворения — Анастасия Лысогор.
25 марта 2004 года («Умер отец мой сегодня днем…»)
Про отца Вениамина Ивановича Савенко (1918–2004) Лимонов писал часто и в различных текстах. Ему посвящён большой очерк «Конец капитана Савенко» из второй «Книги мёртвых». Вот несколько выдержек из него:
«У меня сложилось такое впечатление, что отцу надоело жить достаточно рано. Ещё в 1989-м ⟨…⟩ Я видел его последний раз живым в 1994 году, высланный из Крыма, я подпольными тропами через Донбасс доехал до Харькова вместе с Тарасом Рабко. Тогда ещё подобное путешествие было возможным. Меня мало кто знал в лицо. Помню, мы стали говорить об армии. Он с горечью, глухо ограничился констатацией того, что «армию убили». Уничтожили два её важнейших становых хребта: институт политруков и институт старшин. В целом же у него образовался подавленный менталитет побеждённого человека. ⟨…⟩ Самое интересное, что он не был ничем болен. Ему просто и банально надоело жить. Он ещё держался во время тех двух с половиной лет, которые я, его сын, провёл за решёткой. А когда вышел, Вениамин Иванович, видимо, решил, что его миссия на земле выполнена. Он лежал в лежку ⟨…⟩ 20 марта 2004 года отцу исполнилось восемьдесят шесть лет. Он чувствовал себя в этот день неплохо, даже выпил рюмку водки в честь дня рождения. 25 марта, через пять дней, около 13 часов дня, он повернулся на бок, часто-часто задышал и умер. Я пытался через немногих знакомых в Киеве получить разрешение на пересечение границы. Мне не удалось преуспеть. Если бы ещё было у меня больше времени… но мать куда-то торопилась, стариков, по-моему, не отправляют в морг, они лежат одну ночь у себя в доме, а затем сразу утром едут в пламя крематория. 26 марта отца кремировали. Двое нацболов, я их послал, Анатолий Тишин и девушка Ольга, даже не успели прибыть к похоронам. Приехали только на поминки».
Ещё о Вениамине Ивановиче Савенко можно прочесть в комментариях к стихотворению «Письмо я пишу своей матери…» (том I).
Принцесса («Королева в синем салопе…»)
Диана, принцесса Уэльская (1961–1997) — с 1981 по 1996 год первая жена принца Уэльского Чарльза, наследника британского престола, с 2022 г.— короля Великобритании под именем Карл III.
«Мне скучно. Мне ведомы тайны…»
Елена Петровна Блаватская (урождённая фон Ган, 1831–1891) — российская дворянка, гражданка США, религиозный философ теософского направления, литератор, публицист, оккультист и спиритуалист, путешественница. Блаватская объявила себя избранницей некоего «великого духовного начала», а также ученицей (челой) братства тибетских махатм, которых она именовала «хранителями сокровенных знаний», и начала проповедовать авторскую версию теософии.
«В земли носорога Егузея…»
Вместе со стихотворениями «Собака толстая храпит…» и «Объявление что ли дать?» в газете «НГ-Exlibris» было напечатано как цикл из трёх текстов — «Осень патриарха». Но в итоге одноимённый цикл сложился из других стихотворений и напечатан в данном издании.
В книге «Торжество метафизики» Лимонов описывал процесс создания этого стихотворения:
«В пятом измерении — в мире мысли — начинает складываться в слова мелодия, поступающая из параллельного мира. Слова выступают из шума, шум внутренний, они освобождаются от бестелесности шума. Получается вот что: «В земли носорога Егузея / Шли мы, изумляясь и глазея, / тута-тита-тата, Егузей / Нам в глаза глядел из-за ветвей». Пауза. «Твоя попа рядом колыхалась, / Маленькая ручка мне вцеплялась…» Повторим сначала, заключенный Савенко ⟨…⟩ Дальше, неумолимо скотская, следовала животная развязка, за которую мне было жгуче стыдно перед маленьким демоном, несмотря на то что она меня сама провоцировала и просилась. Дальше следовало: «А когда заканчивался день, я входил в тебя, как толстый пень…» Стыд! Забудем, мой ангел, эти непристойные строки. Я люблю тебя любовью чистой и горячечной. Она, конечно, признана человеками извращённой, ибо разве может быть любовь между базарной puzzle с портретом девочки-демона (ангела, конечно, ангела, потому что демона!) и заключённым шестидесяти лет с седыми волосами? Ну какая любовь между существом как будто бы живым ещё, мной, и тобой? ⟨…⟩ Ангелы-девицы не против сомнительных приключений в землях носорога Егузея с осуждёнными за организацию приобретения автоматов, боеприпасов и взрывчатых веществ сынами человеческими, да? А ведь меня ещё обвиняли в терроризме, в создании незаконных вооруженных формирований, в намерении свергнуть конституционный строй, но не доказали. С кем же ещё, как не со мной, тебе, такой изумительной, попавшей в линзу фотоаппарата необычного джентльмена Льюиса Кэрролла в нежном возрасте, с кем же ещё, как не со мной?»
Наёмники («Договорились. Воюем в Дарфуре…»)
Дарфур («земля народности фур») — регион на западе Судана, район межэтнического Дарфурского конфликта. В 1994 году разделён на штаты (вилаяты) Северный Дарфур, Западный Дарфур и Южный Дарфур.
Об империях («Там Юдифь к Олоферну идёт молода…»)
«Там Юдифь к Олоферну идёт молода…». Юдифь — героиня Ветхого Завета, спасшая свой родной город от нашествия ассирийцев. После того как войска ассирийцев осадили её родной город, она нарядилась и отправилась в лагерь врагов, где привлекла внимание полководца Олоферна. Когда он напился и заснул, она отрубила ему голову.
«Саломея, главу на блюде / Иоанна, танцует через года…». Саломея — иудейская царевна, героиня Нового Завета. Мать Саломеи состояла в связи с братом своего мужа Иродом Антипой, за что публично осуждалась Иоанном Крестителем.
«Там на меч Митридат упадает собой…». Митридат VI Евпатор (132–63 годы до н.э.) — царь Понта (120–63 годы до н.э.). Смерть Митридата происходила во время заговора. Его сыну Фарнаку присягнули воины, но вскоре заговор был раскрыт. Сына схватили, однако после заступничества стратега Менофана Митридат отпустил его. Тогда Фарнак решился на открытый мятеж. Пытаясь избежать пленения, Митридат принял яд, но тот не подействовал. И Митридат попросил своего телохранителя Битоита убить себя мечом.
«Там копье Александр бросает…». Александр Македонский (356–323 годы до н. э.) — царь Древней Македонии из династии Аргеадов (с 336 года до н.э.), выдающийся полководец, создатель мировой державы, распавшейся после его смерти. Ему также посвящено стихотворение «Смерть Александера».
«Клеопатра плывёт на корме через Нил…». Клеопатра правила Египтом на протяжении 22 лет и делила трон со своими братьями Птолемеем XIII и Птолемеем XIV (по традиции они были её формальными мужьями). В настоящем браке она была с римским полководцем Марком Антонием. Ей также посвящено стихотворение «Клеопатра» из сборника «Русско-американские стихи».
«Брут и Кассий на Цезаря-Бога…». Марк Юний Брут (85–42 годы до н.э.) — римский политический деятель и военачальник из плебейского рода Юниев, убийца Гая Юлия Цезаря. Гай Кассий Лонгин (86–42 годы до н.э.) — римский государственный деятель из плебейского рода Кассиев Лонгинов, известный в первую очередь как один из главных убийц Гая Юлия Цезаря.
90-е годы («Я пил ракию…»)
«Дружком Йована Тинтора я был / А Тинтор уже много натворил / Военным комендантом он служил / Но Президент поста его лишил». Йован Тинтор — бывший комендант Сараево, вместе с Радованом Караджичем формировал первое сербское сопротивление восстанию мусульман в Боснии, один из основателей Сербской Боснийской республики. В 2016 году задержан в Боснии и Герцеговине. Приговорён к 10 годам тюремного заключения.
«Осень патриарха»
Аллюзия на название известного романа Габриэля Гарсиа Маркеса. «Девочка в платье из ситца» — аллюзия на широко звучавшую в 1970-е годы песенку на мотив «Cigánybálban sok a roma» («Много гостей на цыганском балу») из репертуара Пишты Хорвата — венгерского исполнителя. Автор русского текста неизвестен; наиболее популярный в России вариант — исполнение легендарного шансонье Аркадия Северного.
Ночь перед coup détat («I am, I am, I am Борис…»)
Сoup détat — государственный переворот.
Вспоминаю семидесятые в Нью-Йорке («Сегодня ветер… снег… со снегом ветер…»)
«Уже не встретишь Уорхола в Нью-Йорке…». Энди Уорхол (1928–1987) — американский художник чешского происхождения, продюсер, дизайнер, писатель, издатель журналов и кинорежиссёр. В 1960-х годах был менеджером и продюсером первой альтернативной рок-группы «The Velvet Underground». В очерке «Сломанный птенец и Лунный Чех» из «Книги мёртвых» Лимонов рассказывал о значении художника для его жизни:
«Энди Уорхола невозможно было не заметить. Его лунные волосы альбиноса и характерное лицо делали его уникальным. В него стреляла женщина, Валери Салана, но он продолжал ходить по Нью-Йорку один, без телохранителей. Правда и то, что американцы совсем не знают своих художников или писателей в лицо. Актёров узнают, конечно, на улице, но только американских. Как-то я встретил его на улице, в бытовой ситуации. Он пытался позвонить из телефона-автомата, однако у него не было «дайма» — десятицентовой монеты. Я был с приятелем, художником-эмигрантом, и мой приятель дал ему дайм, получив от Уорхола «котер» — монету в 25 центов. Так как Уорхол стоял в ожидании, то моему приятелю пришлось отсчитать ему сдачу в 15 центов. Я не мог оставить это событие лежать в памяти втуне и ещё лет 15 назад запечатлел его в рассказе «Котер Энди Уорхола». За несколько лет до встречи с Уорхолом на Мэдисон-авеню я купил его книгу «Философия Энди Уорхола». Я учил по ней английский язык. Лёжа в траве в Централ-Парке. Это полезная и неглупая книга».
В книге «Мои живописцы» Лимонов высказывался уже о прямой деятельности Уорхола:
«Все его Кэмпбэлл-супы — это, конечно, механическое, это Америка. А вот раскрашенные фотографии людей-символов: Мао, Мэрилин Монро, Кеннеди — это, конечно же, магическое искусство. ⟨…⟩ Занявшись изготовлением Мао, Мэрилин Монро, Джона Кеннеди как изготовлением икон, Уорхол по сути дела возводил Мао, Мэрилин Монро, Кеннеди в Богов. Как богиня любви чем, собственно, Мэрилин плоше Афродиты, а щекастый Мао слабее Зевса? Повсюду (и в механических работах Уорхола) у него бросается в глаза ненасытное желание размножить свои образы».
«Не пробирается весёлый Трумэн / Капоти…». Трумэн Капоте (1924–1984) — американский романист, драматург театра и кино, актёр; многие его рассказы, романы, пьесы и документальные произведения признаны литературной классикой, включая новеллу «Завтрак у Тиффани» (1958) и документальный роман «Хладнокровное убийство» (1966).
В том же очерке «Сломанный птенец и Лунный Чех» Лимонов рассказывает, как Трумэн Капоте случайно прочитал рукопись романа «Это я — Эдичка» и пожелал познакомиться с автором. Номер телефона Лимонову дала Татьяна Либерман, и он начал вызванивать американского классика. Спустя несколько недель это получилось:
«28 ноября [1979] (многие даты забыл, а эту помню) я услышал в трубку квёлый усталый голос: Да, это Трумэн Капоте, или Кэпот, кто как произносит. Да, он разыскивал Эдварда Лимонофф, настолько манускрипт, те главы, что ему показали, его поразили и тронули. Он хотел бы увидеть автора, он рад, что я звоню, можно было бы увидеться через неделю, если хотите. Я находчиво соврал, что улетаю завтра в Париж. Я действительно решил улететь в Париж и стал копить для этого деньги. ⟨…⟩ Он пожаловался на то, что только вошёл в квартиру, едва успел вынуть ключ из двери, что месяц находился на излечении в госпитале, что он очень слаб. И он вздохнул. Я тоже вздохнул и парировал его доводы тем, что просто не могу улететь на континент, в Европу, не услышав его мнения о моём романе и его замечаний. Он должен понять меня, ведь он сам был молодым писателем. Пусть он представит себя, улетающего в Европу, а у него не получается встреча с Трумэном Капоте… Я сумел рассмешить его. Мы встретились в тот же день в баре на Первой авеню, практически на равноудаленном расстоянии от площади Дага Хаммаршельда и Саттон-сквер. Встреча продолжалась тридцать минут. Я пил пиво «Гиннесс», он — какую-то водичку. Выглядел он следующим образом: серые брюки, чёрная куртка из искусственной блестящей ткани, под курткой — серая тишотка с длинным рукавом. Придя и садясь за столик, он размотал с шеи шарф. Я встал (я пришёл минут на десять раньше и волновался, выглядывая в окно) и пожал ему руку. В этот момент официант вдвинул под него сзади стул. Он был действительно усталый, тела было мало. Он был похож на выпавшую из гнезда птицу. Есть такие птенцы, без перьев, все в жилах, венах, кровеносных сосудах, им всего пара дней от роду, но выглядят они стариками. Вот такой был он. ⟨…⟩ «Перевод вашей книги местами хорош,— сказал он,— местами бездарен. Правда, я не прочёл её всю,— он поглядел на меня,— …не из недостатка интереса,— ответил он на мой невысказанный упрёк,— мне показали выбранные главы из вашей книги. Могу вас поздравить, Эди, вы очень хорошо начали. В моё время, когда я начинал, были другие нравы… — он задумался.— Америка — консервативная страна, я так и не смог сказать всего, что хотел сказать. Американцу, чтобы сказать всё, нужно уехать из Америки. Вы заметили, что все наши писатели мирового уровня были полжизни эмигрантами: Миллер, Хемингуэй… Эзра Паунд?» ⟨…⟩ «Здесь они вас обязательно опубликуют после французов»,— сказал он. И задумался: «Вы пока не представляете себе, что писателя преследуют его книги. Такая книга, как ваша, будет преследовать вас до конца ваших дней. Вы ещё не понимаете, что вы написали»».
«Даг Хаммершельд разбился в шейсят первом…». Даг Яльмар Агне Карл Хаммаршельд (1905–1961) — шведский государственный деятель, занимавший различные должности в министерстве финансов и Банке Швеции, а позже — в министерстве иностранных дел; с 1953 года до конца жизни — Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций. Организатор первой миротворческой операции ООН (в Египте в 1956 году). Известен также как поэт, журналист и эссеист. Член Шведской Академии (с 1954 года). Лауреат Нобелевской премии мира 1961 года (премия была присуждена посмертно). Погиб в авиационной катастрофе в Северной Родезии во время миротворческой операции ООН в Конго. Точные причины и обстоятельства катастрофы до сих пор неизвестны.
«Не пробирается весёлой Джули… / Ах, Джули, Джули, нас ветра раздули / И умер наш приятель Леонид…». Подробнее про эту девушку см. комментарии к стихотворению «Лето 1977-го» («Лето прошло без особых утех…»). Леонид Александрович Комогор — сын репрессированного, боец-окруженец 2-й Ударной армии, з/к и ссыльный (1942–1956), с 1972 года в эмиграции. В романах «Это я — Эдичка», «История его слуги» и ряде рассказов выведен под фамилией Косогор. В «Книге мёртвых» — один из персонажей очерка «Герои моих книг».
Фотография («Воспоминания. Париж…»)
«Там в сорок лет я молод был / В плаще на крыше Растиньяком / Хромой Гасто запечатлил / На зависть снобам и макакам». Жерар Гасто, Gérard Gasto (р. 1960) — французский фотограф, приятель Лимонова парижского периода.
О драконах («Воспоминанье о драконах…»)
«И Дарвином на бриге в шторм / Учёный видит Scaly worm». Scaly worm — если дословно, чешуйчатый червь.
«Писька должна быть как кипяток…»
«Вот отчего мы расходимся, Настя…». Имеется в виду Анастасия Лысогор.
«Гёрл жила такая умная и злая…»
Посвящено Екатерине Волковой.
Храбрецы Интернета («Храбрецы Интернета — Великие Кормчие «мышки»…»)
«…коноплёвы и маляры равно глупы и убоги». Роман Евгеньевич Коноплёв (р. 1973) — российский и приднестровский общественный и политический деятель, медиаменеджер, аналитик и публицист. Автор книги «Евангелие от экстремиста» (2005). Игорь Олегович Маляров (1965–2003) — российский общественно-политический деятель, коммунист. Основатель и лидер нового Российского комсомола — 1-й секретарь Российского коммунистического союза молодежи (РКСМ) с 1993 года. В книге «Моя политическая биография» Лимонов писал о нём:
«Однажды, помню, хотели познакомить меня с председателем Центробанка Геращенко. Сотрудничество с Российским Коммунистическим Союзом Молодёжи во главе с Маляровым (да-да, они входили в НБФ несколько месяцев) закончилось тем, что на вечере организации «День» мои национал-радикалы во главе с Барсуковым побили комсомольцев Малярова. Сам я при этой битве не присутствовал, уехал раньше».
«Хотя дугины тоже средь них истеричные есть…». Александр Гельевич Дугин (р. 1962) — советский и российский философ, политолог, социолог, переводчик и общественный деятель. Кандидат философских наук, доктор политических наук, доктор социологических наук. С 1993 по апрель 1998 года — идеолог и один из лидеров созданной Лимоновым НБП (ныне запрещённой в Российской Федерации).
«Хаусхоферы, Бисмарки спальных районов у МКАД». Карл Хаусхофер (1869–1946) — немецкий географ и социолог, основоположник германской школы геополитики. Отто Эдуард Леопольд фон Бисмарк-Шёнхаузен, герцог цу Лауэнбург (1815–1898) — первый канцлер Германской империи.
Римский папа умер («В дерьме и в муках умирает…»)
Имеется в виду Иоанн Павел II (1920–2005) — папа римский польского происхождения (в миру он был Кароль Юзеф Войтыла), предстоятель Римскокатолической церкви с 16 октября 1978 по 2 апреля 2005 года. Прощание с ним и похороны стали самой массовой чередой церемониальных событий в истории. 300 тысяч человек присутствовали на траурной литургии, 4 миллиона паломников проводили понтифика из жизни (более миллиона составили поляки). На его похороны съехались более ста глав государств и правительств.
Козетта («Я старый каторжник Вотрен…»)
Вероятно, в обращении к образам Козетты и Вотрена тоже можно разглядеть намёк на отношения Лимонова и Анастасии Лысогор.
«Я старый каторжник Вотрен / Где моя бедная Козетта?». Эфрази Фошлеван по прозвищу Козетта (фр. Cosette) — главная героиня романа «Отверженные» (1862) Виктора Гюго. Её имя стало символом детей-мучеников Франции, эксплуатируемых взрослыми. В романе Козетта также известна как Урсула, мисс Мадлен, Жаворонок и мадемуазель Лануар. Вотрен (Жак Коллен) — беглый каторжник по прозвищу «Обмани-Смерть», выдающий себя за испанца Карлоса Эррера. Один из героев Оноре де Бальзака, переходящий из текста в текст. Первое его появление произошло в «Отце Горио», дальше он появляется в «Утраченных иллюзиях» и «Блеске и нищете куртизанок».
«И шлем, что надевал Чкалов». Валерий Павлович Чкалов (1904–1938) — советский лётчик-испытатель, Герой Советского Союза (1936). Командир экипажа самолёта, совершившего в 1937 году первый беспосадочный перелёт через Северный полюс из Москвы в Америку.
«Док-Мартинсы куплю лихие». Dr. Martens (Docs; англ. Doc Martens) — обувная серия фирмы AirWair Ltd. В России девяностых и нулевых эти тяжёлые ботинки и сапоги были отличительной чертой неформалов, панков, скинхедов.
«Вы пронзительно красивы, о Екатерина!»
Посвящено Кате, то есть Екатерине Юрьевне Волковой (р. 1974) — российской актрисе театра и кино, певице, автору песен, модели. Волкова — последняя жена Лимонова, мать двоих его детей — Богдана и Александры. Встречается не единожды во многих стихотворениях Лимонова (преимущественно в четвёртом томе) и в его прозе. В этом сборнике ей посвящено стихотворение «Хорошо ебаться…» и обращены — «Надела женщина трусы…», «Love II» («Императора первым Зубов Платон…») и др.
«И у Вас больна Ваша дочка… / Вы трагичны как мать-одиночка!». У Волковой есть дочь от первого брака — Валерия.
Love II («Императора первым Зубов Платон…»)
«Императора первым Зубов Платон / Ударил табакеркой в левый висок». Платон Александрович Зубов (1767–1822) — активный участник заговора против Павла I, последний фаворит Екатерины II. Согласно «Запискам Н. А. Саблукова» из книги «Цареубийство 11 марта 1801 года» (СПб.: Издание А. С. Суворина, 1907), дело происходило следующим образом. Платон Зубов со своими подельниками ворвался в покои Павла I и потребовал во благо России отречься от престола. Император отверг это предложение. Начался спор на повышенных тонах. А дальше процитируем Саблукова:
«В это время шталмейстер, граф Николай Зубов, человек громадного роста и необыкновенной силы, будучи совершенно пьян, ударил Павла по руке и сказал: «Что ты так кричишь!» При этом оскорблении император с негодованием оттолкнул левую руку Зубова, на что последний, сжимая в кулаке массивную золотую табакерку, со всего размаху нанёс правою рукою удар в левый висок императора, вследствие чего тот без чувств повалился на пол. В ту же минуту француз-камердинер Зубова вскочил с ногами на живот императора, а Скарятин, офицер Измайловского полка, сняв висевший над кроватью собственный шарф императора, задушил его им. Таким образом его прикончили».
Обращение к этой истории лишь одно из размышлений Лимонова о Павле I, которого он считал «самым интересным персонажем российской истории, впрочем, богатой на редкостных персонажей».
«А Вы сидите в клубе «Шестнадцать тонн»». «Шестнадцать Тонн» — легендарный московский музыкальный клуб.
«И Вы сжимаете синий платок…» — аллюзия на советскую военную песню «Синий платочек».
Петербург («Меня привлекают твои наводнения…»)
«Дождём как тишайший Кибальчич промок…». Николай Иванович Кибальчич (1853–1881) — русский революционер, народоволец, изобретатель, участник последнего покушения на императора Российской империи Александра II.
«А после с Перовской я рядом качался…». Софья Львовна Перовская (1853–1881) — член Исполнительного комитета террористической организации «Народная воля». Непосредственно руководила убийством российского императора Александра II.
«А раньше с царем Гриневицким я лёг…». Игнатий Иоахимович Гриневицкий (1856–1881) — польский революционер, член подпольной революционнотеррористической организации «Народная воля», один из первомартовцев. Наиболее известен как непосредственный убийца императора Александра II.
«Мальчик, беги!» (2006–2008)
В оригинальной книге (СПб.: Лимбус Пресс, 2009) всё заканчивается послесловием. Мы же в рамках данного издания решили вынести его в самое начало, чтобы структурно соответствовать последующим сборникам.
Согласно публикации в газете «НГ-Exlibris» (от 21 декабря 2006 года), изначально книга должна была называться «Седой Ересиарх». И в дополнение к поэтическому высказыванию было подготовлено философское — «Ереси. Очерки натуральной философии» (СПб.: Амфора, 2008).
Стихотворения
«Из глуби амальгам несозданных церквей…»,
«Леди Х» («Билеты Государственного банка…»),
«О, девка ушлая! Вы мне моргали…»,
«Депутаты» («Паркет Государственной Думы…»),
«Как азиатская луна» («С малышкой, тайской медсестрой…»),
«Ребёнок купается в кислой среде…»,
«Конец 70-х» («Виски пью я, виски пью я…»),
«Какое облако в окне…»,
«Колониальный сон» («От грустной мрачности судьбы…»),
«Землетрясение и затмение» («Я был в Душанбе. Вниз упали картины…»),
«Спасибо, сербский капитан!» («Хоть я на фронте пил вино…»),
«Четвёртое сословие» («Наёмные рабочие…»),
«О, волосатые мужчины…»,
«Русский пейзаж» («Девочка глупая как цыпленок…»),
«Лепёшка» («Лепёшка-шан, лепёшка-шан…»)
и
«Клуб» («Где дух таинственной сигары…»)
опубликованы в «НГ-Exlibris» (от 21 декабря 2006 года) и, соответственно, написаны не позднее заявленной даты.
В Государственном Литературном музее им. В. И. Даля хранится дневник Э. В. Лимонова, в котором находятся записи от 24 февраля до 26 апреля 2008 года (Ф. 503). Приведём несколько отрывков, касающихся данного сборника стихотворений:
«В моих книгах «Ноль часов» и «Мальчик, беги» (не издана) присутствуют аристократизм и гламур».
«Около 17 часов. Уже готовы 94 страницы стихотворений, т.е. уже есть стихотворная история. И я не могу ничего повернуть, потому что, если есть стихотворения истории конца отношений, то поправить ничего уже нельзя. Можно лишь оттянуть публикацию до после-рождения ребёнка (если ребёнок-плод ещё ею не ликвидирован).
Написанное — необратимо. Книга стихов «Мальчик, беги!». Я вижу её в такой же обложке и такого же формата, как «Ноль часов». Правда, Борис Бергер из Emergency Exit исчез».
«У меня 98 стр. книги стихов. Перечитал и нашёл, что в «Мальчик, беги» сильны киплинговские напевы, в т.ч. и в «сторону матери», изучить бы, быстрее».
«Да, уже пару дней я закончил «Мальчик, беги». 112 страниц. Тема в книге исчерпана, точка поставлена».
«Ты Анна умерла, а я живу…»
«Ты Анна умерла, а я живу…». Анна Моисеевна Рубинштейн (1937–1990) — первая жена Лимонова, художница-экспрессионистка, повесилась в 1990 году. Ей также посвящено стихотворение «1970-й» («Дожди идут, и денег нет…»).
«Наташа умерла, а я всё жив!». Наталия Георгиевна Медведева (1958–2003) — третья жена Эдуарда Лимонова, российская певица, писательница, журналистка. В этом томе ей посвящены и к ней обращены стихотворения
«Где Сена долларом стремится…»,
«Н. Медведевой» («Ресторан, там где zoo-магазин был…»),
«К Наташе Медведевой, о ящике…» («Да этот ящик нам служил…»),
«Наташе Медведевой» («Несчастная самоубийца…»),
«Она называла меня «Ли»…»,
«Девочки без тела» («Во глубине у скифския державы…»),
«Наташе» («Весна на бульваре Распай!»),
«Сколько я носил обручальных колец?»
и
«С войны в Абхазии привёз…».
Генка («Я помню Генку в «Лангустин»…»)
Геннадий Григорьевич Шмаков (1940–1988) — русский поэт, переводчик и балетный критик, специалист по творчеству Михаила Кузмина и Константиноса Кавафиса, автор биографий Жерара Филиппа, Михаила Барышникова и Наталии Макаровой. Переводил поэзию Верлена, Кокто, Пессоа, Дарио, прозу Пруста, Готорна и Г. Джеймса. Переводческую работу по Кавафису особенно ценил Иосиф Бродский, посвятивший Шмакову вторые «Венецианские строфы». Под именами «гей-литератор Володя» и Володя Шмакофф появляется в текстах Эдуарда Лимонова «История его слуги», «Муссолини и другие фашисты…», «Сын убийцы», «Мальтийский крест». Встречается в стихотворении «Вставай мой друг, обнаружь себя…» из сборника «Золушка беременная».
«Идя пешком от «Клозери» / Вы «Лангустин» легко найдёте…». «Клозери де Лила» (La Closerie des Lilas) — кафе на бульваре Монпарнас (дом 171), известное место встречи французской и европейской артистической богемы в конце XIX — начале XX века. Его завсегдатаями были Клод Моне, Огюст Ренуар, Альфред Сислей, Фредерик Базиль, Пабло Пикассо, Амедео Модильяни, Эрнест Хемингуэй и многие-многие другие.
В очерке «Обитатели квартиры на Колумбус-авеню» из «Книги мёртвых» встреча Лимонова и Шмакова в ресторане «Лангустьерри» описывается следующим образом:
«Последний раз Шмаков приезжал в Париж, мы встретились и сидели в ресторане «Лангустьерри» на бульваре Монпарнас в том его конце, что выходит на бульвар Обсерватуар, в двух шагах от «Клозери де Лила». В ресторане мы, естественно, ели лангустов. Генка был спокойный, остриженный, вполне гладкий, немного по-американски провинциальный. Я запамятовал год, в который это случилось, думаю, где-то между 1987-м и 1990 годами. Перемазавшись лангустом, мы неторопливо беседовали. ⟨…⟩ «А Бродский всех победил, Лимонов. Теперь он для тебя недосягаем. Получил-таки Нобеля»,— не преминул уколоть меня Шмаков. «Я не пишу стихов с 1982 года, Геннадий»,— заметил я. Думаю, он не знал ещё, что у него СПИД. Скорее всего, несколько меланхоличным его сделало определённое разочарование. ⟨…⟩ Это был последний раз, когда я видел его. На бульваре Монпарнас мы и расстались. Он пошёл в одну сторону. Я — в другую, к авеню Обсерватуар».
1977 («Виски пью я, виски пью я…»)
«У окна страдает Джули». Джули Карпентер, Julie Carpenter (р. 1955) — возлюбленная Лимонова. Выведена в романе «История его слуги» под именем Дженни. Упоминается также в стихотворениях из третьего тома настоящего издания — «Лето 1977-го» («Лето прошло без особых утех…») и «Вспоминаю семидесятые в Нью-Йорке» («Сегодня ветер… снег… со снегом ветер…»).
Фотография (Я и Настя) («Вышел из тюрьмы. Сидит на табурете…»)
Анастасия Лысогор (р. 1982) — возлюбленная Лимонова, он называл её «девочка-бультерьерочка» (на протяжении их отношений у неё было несколько бультерьеров). Ей посвящены стихотворения из третьего тома настоящего издания — «Пойти бы погулять с блондинкой…» и «Когда-нибудь, надеюсь, в ближайшем же году…»; а также она является героиней стихо творений «Собака толстая храпит…», «Объявление что ли дать?» и «Писька должна быть как кипяток». В этом томе ей посвящены и к ней обращены стихотворения «Н.» («Хочется разврата…»), «Н.» («Я бы хотел, чтоб ты ходила в школу…»), «Тебе тогда шестнадцать было…» и «Анастази» («Я помню — вышел из тюрьмы…»).
Землетрясение и затмение («Я был в Душанбе. Вниз упали картины…»)
«Я был в Душанбе. Вниз упали картины…». В «Книге воды» тоже встречается этот эпизод:
«О, мой Таджикистан! По ночам пулемётные и автоматные очереди никого не срывают с кровати, лишь самые нервные переворачиваются с боку на бок. Землетрясение более пяти баллов на второй день моей жизни в войсковой части в Душанбе сорвало со стены картину, но не прервало ни жизни базара, ни торговли в магазинах, ни деятельности валютчиков».
«А вы испугаться трясенья могли бы, / Когда, изгибаясь, ломается дверь?..» — аллюзия на стихотворение «А вы могли бы» (1913) В. В. Маяковского:
«А вы ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?»
Спасибо, сербский капитан! («Хоть я на фронте пил вино…»)
В рассказе «Атака» из сборника «СМРТ» эта же история подаётся в таком ключе:
«Я вспомнил, как меня учили: не больше пяти выстрелов с одной позиции, так меня учили ходить в атаку (ну не спрашивайте где, сказать не могу), и поставил автомат на одиночные. Из-за толстого дерева три выстрела, и вперёд… Залёг у камня, из-за камня три выстрела, перекатился зачем-то (жить хочется, вот зачем) и прополз быстро вперёд. А где перёд — ясно, все в том направлении движутся. ⟨…⟩ Встал, бегу. Укрылся у дерева. Три выстрела. Бегом. Плита, мхом вся поросшая, лежит на другой плите. Может, могильная. Времени нет разглядывать. Почему три выстрела? А это перестраховка».
«Насекомых в этом году немного…»
«Одряхлела и заросла как Аппиева дорога…». Аппиева дорога — самая значимая из античных общественных римских дорог. Построена в 312 году до н.э. при цензоре Аппии Клавдии Цеке. Проходила из Рима в Капую, позднее была проведена до Брундизия. Через неё было налажено сообщение Рима с Грецией, Египтом и Малой Азией.
Четвёртое сословие («Наёмные рабочие…»)
«Пугало, вспомним, массово, / Хосе Ортегу Гассета». Хосе Ортега-и-Гассет (1883–1955) — испанский философ, публицист, социолог и эссеист. О том, как философа пугало «четвёртое сословие», написана книга «Восстание масс» (1930), описывающая культурный кризис Европы, связанный с изменением роли масс в обществе.
«Лепёшка-шан, лепёшка-шан…»
«Вот Рерихи вам, Николаи / Пересекают Гималаи». Николай Константинович Рерих (1874–1947) — русский художник, сценограф, философ-мистик, писатель, путешественник, археолог, ориенталист. С 1917 года жил в эмиграции. Организовал Центрально-Азиатскую и Маньчжурскую экспедиции, много путешествовал. Основал Гималайский институт научных исследований «Урусвати» и более десятка культурных и образовательных учреждений и обществ в различных странах.
Клуб («Где дух таинственной сигары…»)
«Не принимаем в клуб ни coward…». Coward (англ.) — «трус».
«Здесь женщины forbidden круп…». Forbidden (англ.) — «запретный», «запрещённый».
Дом («Кричит младенец, снег идёт…»)
Стихотворение датируется 31 декабря 2006 года.
В книге «В Сырах» Лимонов рассказывает, в каком контексте появилось это стихотворение:
«Новый год мы встретили красиво, я весь остаток жизни буду помнить тот уют и то правильное, простое человеческое счастье, которое у нас получилось. У армянина Гарика — оптового поставщика продуктов для ресторанов из Франции (с его женой моя жена познакомилась в парке, обе выгуливали младенцев в колясках) — мы закупили недорогого, но хорошего французского шампанского и вина, а также разделили с ними напополам короб устриц. Моя жена нафаршировала яблоками утку, а я зашил утку чёрными нитками. В доме пахло жареной уткой, младенец попискивал время от времени, я ловко открывал специальным ножом устрицы, преодолевая их сопротивление, шампанское чуть зелёное в зелёных простых бутылках. Я был счастлив, счастлив, счастлив. Настоящая полноценная сказка творилась вокруг. Я написал в тот же вечер чудесное стихотворение, в ту же ночь написал. Необыкновенно счастливое, сейчас-сейчас, вот оно ⟨…⟩ Смешав библейские и английские мотивы (форма стихотворения,— вы поняли,— баллада), мне удалось, я полагаю, выразить настроение праздничного счастья. Достичь его мне привелось уже в таком возрасте, когда обычные люди увядают или увяли. Суровый и одинокий, прошедший множество жизненных испытаний, я вдруг оказался с семьёй».
«Мне нравится рабочий запах «Волги»…»
«Я может быть Хрущёв или Булганин». Николай Александрович Булганин (1895–1975) — советский государственный деятель, член Президиума (Политбюро) ЦК КПСС (1948–1958), маршал Советского Союза (1947), генерал-полковник. Входил в ближайшее окружение И. В. Сталина.
«Номенклатурный толстый я Капитул…». Капитул — скорее как человек из закрытого и влиятельного сообщества.
«И речка под фокстрот «О, Рио-Рита!»». «Для тебя, Рио-Рита» — пасодобль 1930-х годов. Автор музыки — германский композитор Энрике Сантеухини.
«Мы — биороботы. И то, что мы восстали…»
Эта идея возникла у Лимонова уже в конце 1960-х годов. Во втором томе настоящего издания есть дневниковая заметка, в которой прописано следующее:
«Мои глаза раздражились от цвета голубого от обширности небесного предмета, т.е. воздуха и от его голубого цвета. Но кто сказал да. Кто сказал нравится. Кто отдал команду смеяться. Глаза ведь они только раздражились. И всё. Считаю, что внутри меня какой-то аппаратик зарегистрировал это раздражение».
Подробней об этом читайте в книге «Illuminationes» (2012):
«Человека сделали, создали при помощи неких технологий (к которым и человечество стремительно приближается), близких к технологиям клонирования, некие сверхсущества. Описания создания человека в Книге Бытия (глава 2) и в Куране (сура XXIII) суть достоверные воспоминания о создании биороботов сверхсуществами. Да-да, мы биороботы. Мы были бы разновидностью животных, если бы не наш разум. Разум мы украли сами».
«На сцене высокой играют могучие люди…»
«Хусейн, Пиночет, где-то тихо замучался Кастро…». Саддам Хусейн Абд аль-Маджид ат-Тикрити (1937–2006) — иракский государственный и политический деятель, президент Ирака (1979–2003). Аугусто Хосе Рамон Пиночет Угарте (1915–2006) — чилийский государственный и военный деятель, генерал-капитан. Пришёл к власти в результате военного переворота 1973 года, свергнувшего демократически избранное социалистическое правительство президента Сальвадора Альенде. Фидель Алехандро Кастро Рус (1926–2016) — кубинский революционер, государственный, политический и партийный деятель, руководивший Кубой с 1959 до 2008 года.
«Президент Указ подписывает строго…»
«А вдоль набережной реки Карповки / Построились питерские национал-большевики… / Дмитриев-начальник вдаль глядит, / Гребнев Сергей врагу грозит, / И Олег Юшков грозит…». Андрей Юрьевич Дмитриев (р. 1979) — политик, журналист и писатель. Сопредседатель незарегистрированной партии «Другая Россия». Под псевдонимом Андрей Балканский написал биографии Ким Ир Сена и Эдуарда Лимонова для серии ЖЗЛ «Молодой гвардии». Сергей Анатольевич Гребнев — из первых нацболов Санкт-Петербурга, младший брат Андрея Гребнева (1975–2003), лидера питерского отделения лимоновской партии во второй половине 1990-х. Писатель, автор двух книг «Бестиарий» и «Дальше некуда». В последней — в одноимённой повести — описывает алтайский поход. Олег Юшков — старый нацбол, писатель, автор романа «Гедонист».
Девочки без тела («Во глубине у скифския державы…»)
«Ты — Мата Хари, ты Мэрлин Монро!» Мата Хари (настоящее имя — Маргарета Гертруда Зелле) (1876–1917) — исполнительница экзотических танцев и куртизанка фризского происхождения. В первое десятилетие XX века стала широко известна в Европе как танцовщица «восточного стиля». Во время Первой мировой войны занималась шпионской деятельностью в пользу Германии. Расстреляна по приговору французского суда.
Мэрилин Монро (настоящее имя — Норма Джин Мортенсон) (1926–1962) — американская киноактриса, секс-символ, певица и модель. Появляется в стихотворении «Многосторонни деятельности наши…». В книге «Священные монстры» Лимонов уделяет ей особое внимание:
«Дело в том, что мне нравились вульгарные, простые, крашеные, хрупкие стервы с видавшими виды сиськами. А Норма Джин, даже ставшая Мэрилин Монро, была и осталась такая. Я говорю, что я бы ей понравился. ⟨…⟩ Она играла в идиотских фильмах. Самый глупый, он же самый известный «Некоторые любят погорячее», желудочно смешная якобы история о двух безработных музыкантах-мужчинах, выдающих себя за девушек и поступивших в женский оркестр. Свинячий юмор. Спасает всю эту карусель идиотизма только святая идиотка Мэрилин. Только она естественно правдоподобна в своей святой глупости, ибо между ног у нее — и это всё понятно и зрителям — находится храм, в котором царят блаженство и нирвана. Как и подобает божеству, Мэрилин тупа, непристойна, наивна, развратна и потому свята».
«Корде Шарлота, Фания Каплан…». Мари-Анна Шарлотта де Корде д'Армон (1768–1793) — французская дворянка, убийца Жана Поля Марата. Казнена якобинцами. Фанни Ефимовна Каплан (1890–1918) — участница российского революционного движения, анархистка. Известна главным образом как исполнительница покушения на жизнь В. И. Ленина в 1918 году.
«Суббота, залитая гипсом…»
Написано в марте 2007 года.
«Как будто Бергман или Ибсен». Эрнст Ингмар Бергман (1918–2007) — шведский режиссёр театра и кино, сценарист, писатель. Признан одним из величайших кинорежиссёров авторского кино. Генрик Юхан Ибсен (1828–1906) — норвежский драматург, основатель европейской «новой драмы»; поэт и публицист.
«Как будто прилетела Тэтчер…». Маргарет Хильда Тэтчер (1925–2013) — премьер-министр Великобритании (1979–1990), лидер Консервативной партии (1975–1990), баронесса (с 1992 года); первая женщина, занявшая этот пост, а также первая женщина, ставшая премьер-министром европейского государства. Встречается также в стихотворении «Не в августе подул сквозняк…».
«Полнолуние. Женщин протяжный вой…»
Написано в марте 2007 года.
24 марта 2007 («Где же твоя голова?»)
«Где же твоя голова? / Госпожа Волкова?». Екатерина Юрьевна Волкова (р. 1974) — российская актриса театра и кино, певица, автор песен, модель, последняя жена Лимонова, мать двоих его детей — Богдана и Александры.
«А мужу повестку вручают, / И партию запрещают…». В начале 2006 года Национал-большевистской партии было в пятый раз отказано в регистрации в качестве политической организации, а в 2007 году партия была признана судом экстремистской организацией и её деятельность была запрещена на территории РФ.
«Толстая девочка, что ты невесела…»
Толстая девочка и людоед позволяют предположить, что Лимонов обыгрывает в этом тексте известное детское стихотворение «Погода была ужасная. Принцесса была прекрасная…» Генриха Сапгира, которое он называл «крошечным шедевром».
«И ты, похожий на пингвина…»
Иосиф Александрович Бродский (1940–1996) — поэт, эссеист, драматург, переводчик, педагог. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1987). Подробнее об отношениях Лимонова и Бродского см. комментарии к стихотворению «Зависть» («В камнях на солнце рано…»).
Богдан и глюки («Мой ребёнок общается с глюками…»)
В книге «Ереси» Лимонов подробно останавливается на этом эпизоде:
«Мне говорят, что только к трём годам мой сын запомнит меня и станет преимущественно человеком. На что же уходят 9 месяцев в животе плюс 36 месяцев вне его? На мой взгляд, они уходят на то, чтобы ребёнок забыл тот мир. Я предполагаю, что, когда дитя рождается, оно «видит» Сверхсуществ, знает их язык и всецело чувствует себя принадлежащим тому миру. За моим плечом Богдан видит сверхсуществ — «дэвов» (термин великого мистика, провидца инженера Ковалевского; он живет в городе Красноярске, этот необычайный человек) и до сих пор общается с ними. Хотя и меньше, чем, когда он только родился. Он общается и со мной. Но ещё чуть-чуть только. А им он постоянно повизгивает. Я знаю, что постепенно в Богдане будет всё больше человека. Сейчас он переучивается. И он забудет лица дэвов, их язык, который, без сомнения, он сейчас ещё знает. Я допускаю, что он даже знает страшное предназначение человека — послужить пищей для сверхсуществ. Почему ему не страшно? А потому что он находится в стадии, когда быть съеденным — это значит воссоединиться с Создателями, стать частью Бога. Это его не пугает, но восторгает. А разве не то же самое предлагается в христианской церкви, когда совершается таинство причастия? Совершается некий обмен плотью. Правда, в церкви предлагается к поеданию символическая плоть (просфорка) + кровь (вино) Создателя. Но это не меняет сути обмена. Они питаются нами».
«Я живу уже дольше, чем Хэмингуэй…»
Эрнест Миллер Хемингуэй (1899–1961) — американский писатель, военный корреспондент, лауреат Нобелевской премии по литературе (1954). Ему посвящено отдельное эссе в сборнике «Священные монстры» — «Хэмингвэй: росла ли шерсть на груди?». Приведём оттуда несколько пассажей, важных для восприятия стихотворения:
«Хэмингвэй, возможно, один из лучших стилистов в американской да и вообще мировой литературе. Он тщательно следит за собой. Он ввёл в большую литературу диалог и поселил его там навечно. Он сделал диалог правдоподобным, немногословным, приближенным к жизни. Снабдил его всеми возможными интонациями. «Yes,— he said» до Хэмингвэя не имело легитимной прописки в литературе, после него имеет. Дело в том, что Хэмингвэй убрал из литературы — литературу. Во всяком случае, стремился убрать. ⟨…⟩ Он много раз женился, кажется, последняя его жена Мэри Хэмингвэй была шестой. Признавался, что по-настоящему любил только первую — Хэдли. От всех жён от считал своим долгом иметь детей, или это традиции того времени? Но он имел детей от всех. Постарел он быстро, непонятно, от излишка ли это алкоголя, или просто гены были такие, раностарящееся тело предусмотрено было в генах? Есть его фотографии в шортах, где он на съёмках какого-то фильма, экранизации, кажется, «По ком звонит колокол». Животастый, как гиппопотам, складки, дряхлые ноги, короче, «старик Хэм», а ведь на снимке ему едва пятьдесят лет. ⟨…⟩ В 1936 году Хэмингвэй был в Испании, где тогда шла война. Однако, вопреки легендам, был он там недолго и большую часть времени провел в мадридском отеле, вместе с другими журналистами интернациональных изданий. В 1944-м журналист Хэмингвэй, вопреки запрету командования, умудрился с небольшой коммандос упросить французского генерала Леклерка взять его в Париж с передовой колонной. ⟨…⟩ Хэмингвэй же оккупировал, примчавшись на пляс Вандом, отель «Риц», где и засел в баре. Потому слухи о военных доблестях Хэмингвэя сильно преувеличены. (Тут, признаюсь, меня подталкивает к разоблачению и моя личная воинская ревность. Я как-никак побывал на пяти войнах плюс на месте конфликта в Таджикистане.)».
«Скоро стану скелетом, чьим автором Дюрер…». Альбрехт Дюрер (1471–1528) — немецкий живописец, гравёр и график, один из величайших мастеров западноевропейского Ренессанса. В книге «Мои живописцы» Лимонов уделил ему отдельное эссе «Великий Дюрер». Приведём оттуда несколько выдержек:
«Его вершина — гравюра «Рыцарь, смерть и дьявол», конечно же. «Рыцарь, смерть и дьявол» — солдатская гравюра. В сравнении с ней — всё мягкотелое. И Джоконда, стареющая библиотекарша в шали, и даже собственных рук его, Дюрера, «Апокалипсис». ⟨…⟩ Ещё одна его гравюра — «Святой Иероним в келье». ⟨…⟩ Святой Иероним сделан в ту самую эпоху, когда по германской земле ходили Лютер и Фауст. И видимо, и их кабинеты выглядели так же. То есть Дюрер вот этими двумя гравюрами создал, нет, запечатлел, нет, обратил внимание, нет, воскликнул о двух германских самых главных архетипах и того времени, и всех времён,— рыцарь и святой учёный».
Визит к доктору Фаустусу («Простые люди те ещё исчадья зла!»)
Фауст очень важная фигура для Лимонова 2000-х и 2010-х годов. В книге «В Сырах» есть отдельная главка под названием «Анализ «Фауста»». Приведём из неё несколько выдержек:
«Гёте? Несомненно, великий. Правда, я понял его величие лишь совсем недавно, когда мой возраст жёстко поставил передо мной проблему Фауста. «Фауста» Гёте я прочитал ещё в ранней юности и был скорее скандализирован старомодностью изложения истории. Сейчас я перечитываю «Фауста» как притчу о человеке, пожелавшем продлить свою жизнь и наполнить её высшим смыслом. И как притча,— «Фауст» изумителен. Там уже есть всё — и ницшеанство, и можно заметить тень Гитлера в перспективе кулис. А ещё в конце жизни мне, конечно, близки мотивы страстей пожилого джентльмена к юным девицам. ⟨…⟩ Замечать в себе Фауста я начал, впрочем, где-то в 1998 году, когда волею судеб стал жить с шестнадцатилетней миниатюрной блондинкой Настей, она же бультерьерочка. ⟨…⟩ Мне было пятьдесят пять, а ей — шестнадцать, когда мы встретились. Но это были лишь первые биения Фауста во мне, в основном я оставался сильным нахальным воином. Фауст — религиозный «деятель», пророк, ересиарх. Фигура более крупная, чем воин-завое ватель. Фауст понадобился мне, когда я сам оказался на пути превращения в ересиарха, в пророка. В провидца. Летом 2003-го я вышел из лагеря готовым к новой роли. Новый 2004-й мы встретили с моим ангелом вдвоём. ⟨…⟩ Гёте попытался написать и написал универсальную историю о мытарствах человека высшего типа, позже другой немец, Ницше, прочно приклеит для такого человека определение, взятое им из «Фауста»: сверхчеловек. ⟨…⟩ Гёте написал архетипическую историю блужданий («кто ищет — вынужден блуждать…») сверхчеловека. ⟨…⟩ Если к дальнейшему познанию мира (оно же покорение его разумом) возможно прийти только через чёрные книги и связаться для этого с чёрными силами, пусть будет так. ⟨…⟩ (Оглядывая свою комнату, вижу то же самое. Пыльные книги до потолка, древности на полках. Некая тревога во мне поселилась года два тому назад, тревога и такое впечатление, что мне известно всё, а дальше? Дальше меня сдерживает моё человеческое. В 2007 году у меня случилось озарение о создании человека. Я написал «Ереси».) ⟨…⟩ Заинтересовавшись «Фаустом» и его отцом Гёте в возрасте Фауста, я нахожу в себе и своей творческой и личной биографии немало схожих черт, событий и книг. ⟨…⟩ Наши творческие порывы, Гёте и мои, бьются в унисон, таким образом, с дистанцией в двести лет. ⟨…⟩ Я всегда обладал огромной творческой силой. Её хватало и на литературу, и на организацию политической партии, и на изложение моих социальных идей. ⟨…⟩ Необычный сюжет позволил Гёте взять и необычный ракурс видения на человека и человечество, а именно — сверху, а именно — свысока. В этом взгляде сверху и свысока — одно из величайших достоинств трагедии. ⟨…⟩ Трагедия «Фауст» — кастовая книга, иерархическая книга. Она — не для всех. ⟨…⟩ В значительной степени «Фауст» — это метафизическая автобиография Гёте. Правда, плюс ещё многие неосуществившиеся желания и стремления. ⟨…⟩ В начале XXI века я бродил по старым красным (!) полам, в них щели, и вата из щелей, рабочего дома в Сырах на Нижней Сыромятнической улице, построенного для социалистических пролетариев завода «Манометр» в 1924-м далёком году, и с наслаждением думал, думал, думал об Иоганне-Вольфганге Гёте. И о себе. Я — связанный лилипутами, бумажными офицеришками; Гёте — гигант, напрягающийся, чтобы разорвать путы. Так видел я себя».
Про букву «Эр» («Ах сколько пива в вольном Нюрнберге!)
«Недалеко уже и Ева Браун». Ева Анна Паула Браун (1912–1945) — возлюбленная Адольфа Гитлера.
«Ведь ты читал, про это пишет Юнгер…». Эрнст Юнгер (1895–1998) — немецкий писатель и мыслитель.
«Я Вас люблю, как новую покупку / Лили Марлен, за ляжку и подвязку…». Лили Марлен — героиня одноимённой немецкой песни, ставшей популярной во время Второй мировой войны как у солдат вермахта, так и у солдат антигитлеровской коалиции.
«Сгнил Вальтер Ульбрихт, вермахт на погонах…». Вальтер Эрнст Пауль Ульбрихт (1893–1973) — немецкий политический деятель, коммунист, руководитель ГДР. На посту Первого секретаря ЦК Социалистической единой партии Германии (1950–1971) сыграл значительную роль в становлении ГДР, в её отделении и изоляции от ФРГ и Западной Европы; был инициатором строительства Берлинской стены.
Вальс («Искусство не знает законов…»)
«Так встанем же, Вивекананды…». Свами Вивекананда (1863–1902) — индийский философ Веданты и йоги, общественный деятель, ученик Рамакришны и основатель Ордена Рамакришны (Рамакришна Матх) и Миссии Рамакришны, масон.
«Я бы зашёл в «Клозери де Лила»…»
«Наша компания: Жан-Эдерн». Вероятно, имеется в виду Жан-Эдерн Халье (Аллиер, Hallier) (1936–1997) — французский писатель, критик и редактор скандальной газеты «L'Idiot International». Портретирован в «Анатомии Героя», в «Книге мёртвых» — герой очерка «Смерть на морском курорте».
«А за спиной его каменный Нэй…». Мишель Ней (1769–1815) — один из наиболее известных маршалов времён Наполеоновских войн. Наполеон называл его «le Brave des Braves» — «храбрейший из храбрых».
««Маршал, мы вот у твоих колен, / Франков спаситель», старый Пэтэн!». Анри Филипп Бенони Омер Жозеф Петен (1856–1951) — французский военный и государственный деятель.
«Да ещё жив был клоун Колюш…». Колюш (фр. Coluche, настоящее имя — Мишель Жерар Жозеф Колюччи) (1944–1986) — французский комик, режиссёр, актёр и сценарист.
Зимнее утро («Зима и снег. Зима и мрак…»)
Стихотворение написано 2 января 2008 года.
Сторону матери («Вот я сижу на кухне, сынок…»)
Стихотворение написано 6 января 2008 года.
«Думать, двигаться, дышать»
Редкий пример футбольной тематики в зрелых стихах Лимонова, осложнённой к тому же евангельским сюжетом с головой Иоанна Крестителя на блюде.
На пляже Гоа, февраль 2008 («Одна из жён Лимонова…»)
В дневниковых записях поэт постоянно мониторит, что происходит в Гоа. Для него это большое личное переживание. Приведём несколько записей:
«Жена злобным овощем растёт в песках пляжей, совершенно бессмысленно прекратив свою карьеру и разрушив мою личную жизнь. Удручает то, что моей вины нет вовсе. Удручает бессмысленность. Сидеть в Гоа — бессмысленно. Сломать наши отношения: вредно. Ей, Богдану, мне».
«Из сегодняшнего сообщения на сайте «Гоа»: «Найдена 15-летняя девочка Скарлетт Кин (англичане из Девона, приехали на шесть месяцев и т.д., целая семья), согласно главной версии следствия, туристка утонула. При этом следователи не пытаются объяснить, почему верхняя часть купальника не просто задралась, а была обмотана вокруг горла девушки. И лишь спустя два дня мать обнаружила в кустах, рядом с дорожкой, ведущей к пляжу, шорты и обувь своей дочери…
Друзья семьи полагают, что индийская полиция не желает всерьёз рассматривать версию об убийстве, пытается скрыть тот факт, что популярный курорт является не таким уж безопасным местом»».
««Гоа превращается в грязное Сочи» — пишут в интернете».
«Около 400 российских туристов не могут вылететь из Гоа, сообщают все СМИ. Пусть им будет хуёво там, всем этим овощам и коровам».
«Нашёл в интернете, что проблемы с отъездом из Гоа могут возникнуть у тех, кто купил one way ticket в Гоа, надеясь свободно приобрести обратный билет у того же тур-оператора. Это как раз моя жена. Пусть у неё возникнут проблемы, пусть обосрётся Богдан, заболеет Лера, и вся эта мешпуха. Как я её ненавижу! Это ненависть заставляет меня читать в интернете в рубрике Гоа дебильные заметки людей-овощей. Это всё ненависть».
«Жена, ребёнок были у меня…»
В дневниковых записях встречается иной вариант первой и третьей строфы — приведём их:
Жена, ребёнок были у меня
затем исчезли, как в воронку
у времени, не подарил коня
Богдану, годовалому ребёнку.
⟨…⟩
Богдан, когда ты вырастешь большой
возьми-ка мать и к лавке привяжи
и выпори, ведь с чёрною душой
зачем отца лишила, ты скажи!
«Она не читала роман «Овод»»
«Овод» — роман английской писательницы Этель Лилиан Войнич о судьбе революционера, впервые издан в 1897 году в США (любопытно, что в судьбе Овода можно усмотреть некоторые параллели с биографией и тем более биографическим мифом Лимонова). В России роман приобрел культовый статус ещё до революции, в СССР статус всячески поддерживался — спектакли, оперы, экранизации (музыку к фильму 1955 года написал Дмитрий Шостакович), балет, рок-мюзикл и пр. Книгой увлекались Николай Островский, Зоя Космодемьянская, Аркадий Гайдар, Юрий Гагарин.
«Тебя мучает ревность со злобой, тоска…»
В книге «Апология чукчей» есть небольшое эссе «Выбирайте щенков», где объясняется это стихотворение:
«Для вынужденного womenоведа, каковым я поневоле являюсь на шестьдесят шестом году жизни, совершенно очевидны несколько прописных истин. Я сейчас их проиллюстрирую здесь, приведя моё недавно написанное стихотворение ⟨…⟩ Итак, первая прописная истина: выбирайте щенков. Ещё теплых, только от мамы. У них не было травм. Жизнь, как правило, не нанесла им ещё ударов. ⟨…⟩ Что касается look, не так уж он и важен. Забавная прелесть околосовершеннолетней she dog вполне может соперничать с телом прекрасно расцветшей женщины в её двадцать пять — тридцать, впрочем, от них получаешь различные удовольствия. Хорош и первый, и второй возраст. Но за тридцать лет лучше не заглядывать, вовсе не потому, что женщина так уж успевает постареть к этому возрасту, а потому, что постарела её душа. А ведь на самом деле, вопреки общепринятому мнению толп и учебникам сексологии, совокупляешься-то с душой! В душе she dog после тридцати — мрачновато, и хорошо ещё, если это только скептицизм. Чаще всего мировоззрение такой дамы — пессимизм, а то и цинизм, недоверие к мужчине, а то и враждебность ко всем мужчинам. Я лично стараюсь избегать женщин после тридцати, а когда увлекаюсь и нарушаю свои собственные правила, то ничем хорошим это не кончается, как в моём стихотворении. Кончается лишь констатацией грустного факта».
Также эта проблематика затронута в стихотворении «Свежие девчонки…» из сборника «Девочка с жёлтой мухой».
Быть джентльменом («Если ты джентльмен, то уж ты джентльмен…»)
В эссе «Если ты джентльмен», вошедшем в книгу «Апология чукчей» (2013), есть объяснение, на какой почве возникло это стихотворение:
«Лет десять назад или чуть больше я отправился на выставку бывшей жены Елены, взяв с собой тогдашнюю подружку Лизу. Разница между этими двумя lady's составляла двадцать два года. Бывшая Елена, в прошлом модель, сохранила неплохую долговязую фигуру, но обрюзгла лицом и задницей. И вкус ей начисто изменил. В сорок шесть лет явиться публике в шортах, соломенная шляпка на голове, кудельки из-под шляпы, видимо, модной в Италии, где она обитает, пластиковый прозрачный плащ поверх. О, она напоминала чучело гороховое! Хотя и роста в ней 177 см. Лизе было в том году двадцать четыре, тоненькая, как шнурок, 178 см, маньеристская, персонаж прямо с полотна Тамары Лемпицкой! О, как я смаковал свой триумф, свою победу над женщиной, которая меня двадцать лет тому назад оставила! Моим орудием мести послужила тоненькая Лизка. Ничего никому нельзя прощать. Нужно помнить все нанесённые обиды и обязательно отомстить. Человек — существо страстное. Не подавляйте свою природу. Резюмирую моё отношение к бывшим супругам в стихотворении (Да, я вовсю пишу стихи!)».
Но обратим внимание на то, что это 2008 год, и Лимонов переживает не столько из-за Елены Щаповой и Елизаветы Близе, сколько из-за двух других женщин.
К. («Я бы тебе показал!..»)
В дневнике после наброска этого стихотворения поэт лаконично и восторженно написал:
«Ну и стишок! Людоедский!»
Однажды, в Довиле… («Меня разят своим слепым огнём…»)
В дневнике стихотворение произрастает из следующего наброска:
Тяжёлые глаза французской шлюхи
Сквозь шёпоты и слухи
Меня разят своим слепым огнём
. . . . . . . . . . . . . . . .
Вы всё равно ведь вспомните о нём
«Я презираю хлеборезов…»
«А вы бы повернуть могли бы, / Тот ключ с улыбкой на уста…?» — и вновь аллюзия на стихотворение «А вы могли бы» (1913) В. В. Маяковского:
«А вы ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?»
Я («И в метафизике, и в мистике…»)
В дневнике стихотворение заканчивается двумя другими строчками:
А на стене распятый здраво
Роскошен нильский крокодил.