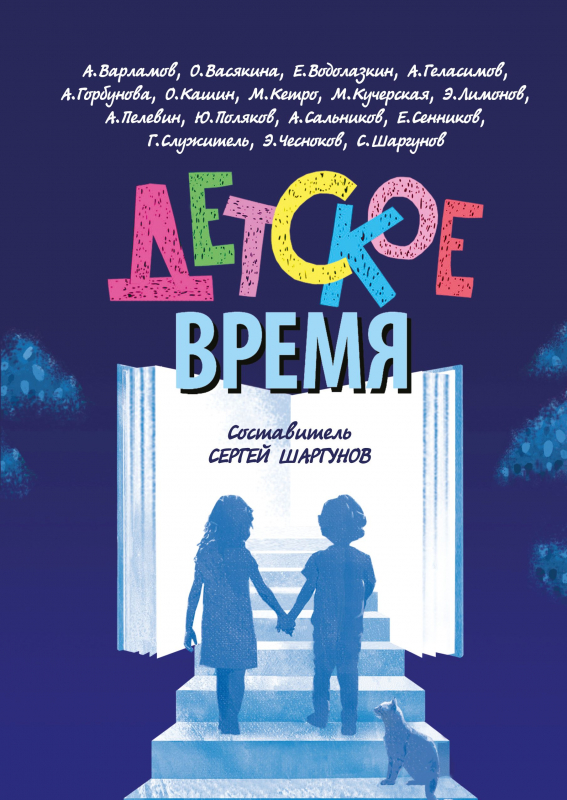После войны
Пленных немцев видел вживую, такой я старый.
Какое-то количество лет я считал, что этот постоянно возникающий кадр: пленные немцы в пыльных болотного цвета шинелях идут мимо окна внизу,— кадр из фильма. Ведут немцев всего ничего молоденьких тощих послевоенных красноармейцев с винтовками с пригнанными к ним штыками.
Позднее, восстановив с помощью тогда еще живых родителей этот эпизод, я осознал, что это кадры из моих собственных воспоминаний. Оправляясь от кори, глухой, я лежал в кровати у окна, выходившего на Красноармейскую улицу на развалины харьковского вокзала, а пленных немцев пригнали на работу…
Моим лучшим другом детства был горбатенький Толик с веснушками на остром носу. Он был замечательный подельщик: изготавливал из дерева, старых катушек из-под суровых ниток и мягких железных пластин паровозики и тележки. В них мы и играли. Ползая по полу в их жаркой норе.
Их семья называлась «черные», они были беженцы с Кавказа, из Красной Поляны. Жили они на первом этаже строго под нами. Так что играть приходилось бегать недалеко: спустился на первый и играй. Сам «черный» был печник. Его жена называлась «черная» — высокая женщина в платке, закрученном высоко на голове, она была уборщицей. Помимо Толика, в семье были еще две дочери: подросток Любка и «ребенок Надька». Так ее все и звали в доме — «ребенок Надька».
После войны вокруг было немыслимое количество родителей с ныне исчезнувшими профессиями: прачка, поломойка, уборщица, возчик. В основном родителями были женщины или старики, то есть деды. Отцы практически все погибли ведь.
У красивого Вовки Чумакова, моего одноклассника, с ним я убегал в 1954 году в Бразилию, мать была прачкой.
Даже позднее, через десяток лет, у Толика Мелехова, а он учился в Харьковском университете на филфаке, это 1964 уже год, мать была прачкой. Помню ее мешавшей деревянной лопатой в большой «выварке» белье. Теперь и профессий таких нет, и «выварку» можно отыскать разве что в старом деревенском сарае. Пол у Мелеховых был хорошо вымыт, сиял просто, зимнее солнце лежало на красно-буром полу. Я пришел получить от Мелехова «Введение в психоанализ». «Введение» было аккуратно завернуто в пропарафиненную бумагу. Тогда о книгах заботились.
У Толика Ветрова отец был возчик. То есть он был владелец лошади и подводы и подряжался что-либо привезти или отвезти. Вероятно, это все же был дед, а не отец. Сам Толик прожил только 22 года, его застрелили менты во время побега из лагеря. Или убили свои в лагере, я уж не помню. Он был круглолиц, краснощек и носил на валенках самодельные апельсинового цвета калоши. Тогда у многих в нашей школе были такие калоши. Их из чего-то варили народные умельцы, возможно, из трофейных каких-то резин.
Лошадок было много, и они весело трусили по улицам, таща на телегах кирпичи, доски и оцинкованное железо. Страна отстраивалась после войны, и вклад лошадок в этот огромный труд был неизмерим. Спасибо, товарищи лошади! А еще помню с удовольствием их душистый помет, из которого торчала солома.
Мы все донашивали одежду старших мужчин. Мать моя не ленилась выпарывать из отцовских темно-синих брюк эмгэбэшный кант (первый костюм мне купили, помню, на выпускной вечер, а так все донашивал), и я в этих брюках ходил в школу. Хорошие, кстати, были брюки из темно-синего толстого сукна. Я их сам заузил в два приема, мать заметила, но было поздно: в швах я обрезал лишнюю материю.
Задницы наших брюк все блестели от чрезмерной школоризации. У девочек висели, оттягиваясь, и тоже блестели, задницы платьев… Думаю, мы производили впечатление таких бедных зомби, нищих зомби, но мы-то об этом не догадывались. Наклейка на прохудившемся сверху ботинке была нормальным явлением. Сейчас сказали бы: вот пацан из совсем нищей семьи. У меня оба ботинка были с такими наклейками.
Вокруг было немыслимое количество заводов. На многих из них я потом работал. Все заводы гудели, рычали, гортанно орали гудками, стучали и горели и днем, и ночью. Названия у них были вполне банальные, индустриальные: «Поршень», «Электросталь», «Серп и молот» (этот тянулся на четыре трамвайные остановки), немыслимый гигант «ХТЗ» (Харьковский тракторный, чуть ли не сто тысяч работяг), мелкий «Велосипедный» (туда меня почему-то не взяли), военный завод имени Малышева, где я не работал, но строил один из его цехов. Имени Малышева и сейчас коптит небо: для украинских властей ремонтирует БТР.
Мать моя любила театры, а у отца было множество знакомых в театральной среде. Однажды мать потащила меня на представление балета «Красный мак» Глиэра. Там был эпизод, когда российский моряк сидит ловит рыбу, спиной к зрителю. А со спины к нему ползет реакционный китаец с ножом в зубах. И тут я совершил первый патриотический поступок. Я сорвался с места и побежал к матросу, желая предупредить его об опасности.
Смущенная мать побежала ловить меня, а зрители не рассердились и стали мне аплодировать.
В перерыве ко мне подходили большие военные и пожимали мне руку. Говорили: «Молодец мальчик, настоящим патриотом растешь!»
Ну я кое-как и вырос.
Еще с нами рядом там был цирк, и директор цирка тоже был отцовским приятелем.
Так что в цирк мы ходили как к себе домой, сидели в первом ряду, прямо у бордюра, отделяющего нас от арены.
Однажды голодный послевоенный тигр напал на дрессировщика с венгерской фамилией. Тигра быстро отогнали, но с дрессировщика, когда его уводили, капала кровь.
Вот так вот, дети другой эпохи.
журнал «Юность», №3, март 2020 года