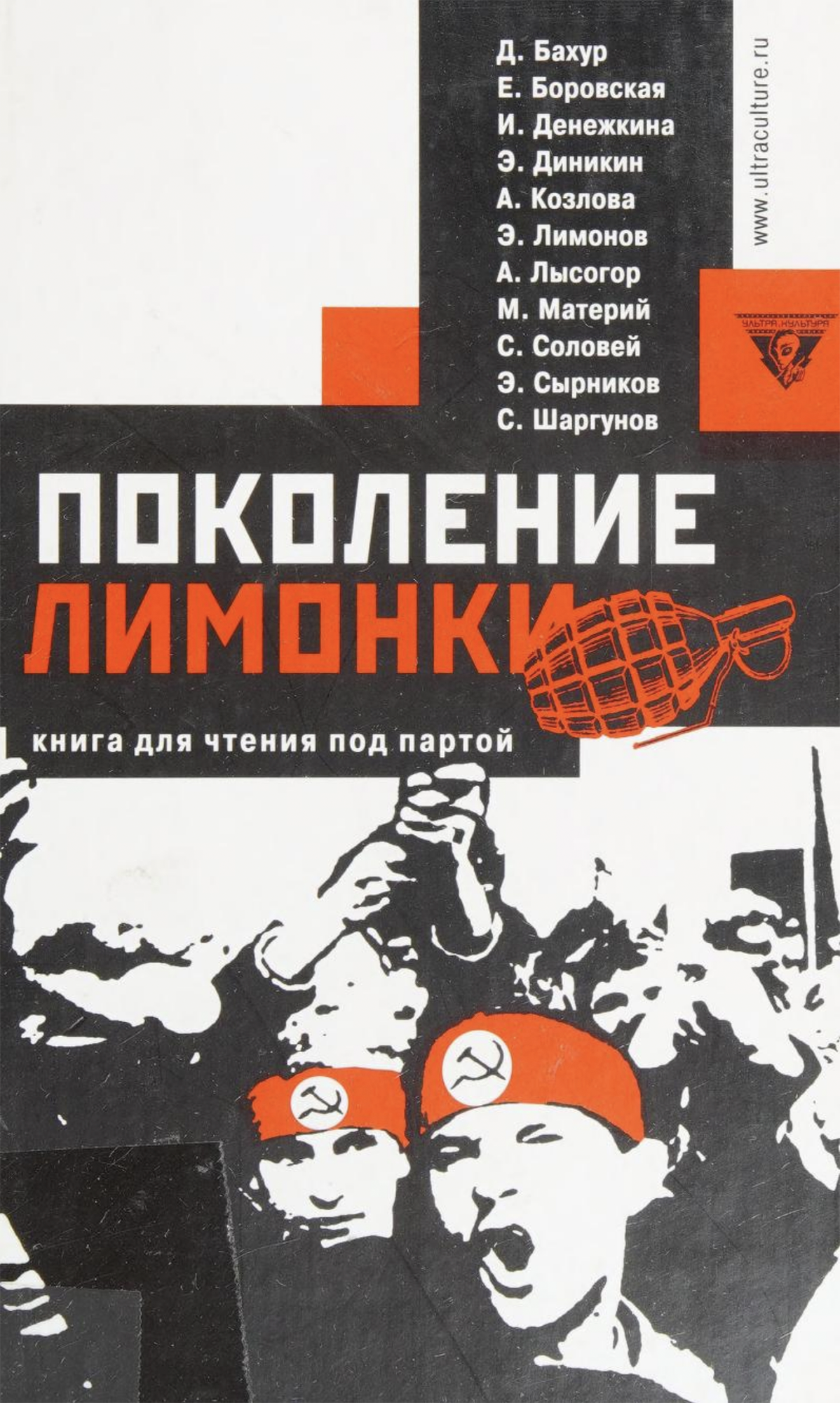Велика мать любви
Эдуард Лимонов
«И они ещё жалуются, хотят лучшей жизни… Еда валяется у них под ногами…» Я присел и пошарил в ящике рукой. Выудил из месива холодных листьев и корней пару лимонов. Шкура одного лишь была тронута пятнами. Второй был свеж, как будто спелый свалился в ящик с лимонного дерева. «Выбрасывать такие полноценные фрукты! Однако верно и то, что брезгливый парижский потребитель не купит лимон с пятнышком на коже… Цивилизация избаловала их…»
Меня она ещё не успела избаловать. Посему я смело запустил руку в ящик с отходами салата и в холодном свете уличного фонаря выбрал лучшие листья. Декабрьский ветер поддувал под китайский ватник. От перебирания мокрых отбросов руки заледенели. Мне хотелось найти капусту, но капусты сегодня не было. Выбросили десяток картошин — вполне приличных. Я нашёл толстокожее большое яблоко, забракованное неизвестно за какие скрытые дефекты, прихватил как можно больше пустых ящиков, засунув маленькие в большие, и отправился «к себе». На пересечении рю Рамбуто с рю Архивов в лицо мне больно швырнуло снежной крупой. Был декабрь 1980 года, деньги, привезённые из Америки, давно растаяли, и я гордо существовал на литературные доходы. Сравнивая свою жизнь в Париже с «бедствованиями» в этом же городе Миллера и Хемингуэя, я находил их существование благополучным. Они ведь посещали кафе и рестораны! Однако мне недоставало жалости к себе, чтобы отчаяться. К тому же у меня был за плечами опыт куда более голодной жизни в Москве и Нью-Йорке.
Поднимаясь по лестнице с ящиками, я встретил жившую на самом последнем этаже, под крышей, бледную девушку с массой каштановых волос, всегда убранных по-разному, в этот вечер они вываливались на плечи. Я дал себе последнее слово, что в следующий раз во что бы то ни стало заговорю с ней. Кроме финансовой проблемы, появилась голая, во всём её бесстыдстве, проблема секса. Была ещё проблема отопления жилища, и множество карликовых проблем, вроде приобретения ленты для пишущей машинки и бумаги, но самым наглым образом требовали заботы о себе желудок и секс.
Я сгрузил ящики у двери меж старых шкафов, и прошёл в голову студии-трамвая, к окнам. Открыл окно и, опершись на решётку, выглянул на улицу. Далеко внизу, на углу Рамбуто и Архивов, в витрине магазина «Миль фёй»1, ярко освещённая, лежала моя первая книга. Декабрьский ветер царапал мне физиономию, студёный и сухой, но я постоял некоторое время таким образом, глядя на мою первую книгу. Никто не мог видеть меня, окна домов напротив были прочно задраены на ночь, однако, когда истеричная нервность гордеца пробежала по моему лицу, покалывая кожу, и оно (я был уверен) сделалось маниакально-горделивым, я предпочёл закрыть окно. Позволив себе до этого презрительно окинуть взглядом город, то есть доступный мне открыточный срез пересечения Рамбуто и Архивов, с часами, кафе и магазином «Миль фей» и пробормотать: «И мэнтэнан — ану дэ»?2 Знаменитую фразу Растиньяка я выучил после фразы «Жё мапэль Эдуар»3.
Поставив варить собранную на Рамбуто картошку, я сделал салат-ассорти, в него вошли лимон и яблоко. Ужин получился вполне приличный. Я знавал куда худшие времена. У меня оставалось несколько тысяч франков в банке, но нужно было беречь их, студия стоила 1.300 франков в месяц. Никаких денежных поступлений в будущем не предвиделось.
В ту зиму я презирал род людской, как никогда ни до, ни после не презирал его. Мне удалось издать книгу, кончающуюся словами: «Я ебал вас всех, ёбаные в рот суки! Идите вы все на хуй!» Книга появилась в магазинах 28 ноября. Ожидались статьи в «Ле Монд», в «Экспрессе» и в «Ле Матэн»4. Каждое утро я выбегал покупать прессу, но статей о моей книге в названных изданиях не обнаруживал. Затянув китайский ватник плотнее ремешком, я возвращался в студию и, суровый, садился писать новую книгу. Вечера я проводил за чтением… что может читать борющийся с бедностью и обществом писатель? «Песни Мальдорора»! Я привёз «Песни Мальдорора» в переводе на английский из Соединённых Штатов. Уценённый, изданный в серии «Пингвин-классик» томик стоил меньше доллара. Очевидно, американцам Лотреамон был неинтересен. Ночами я ходил по рю Франк-Буржуа к пляс де Вож.
Владелица квартиры, бодрая старушка (мадемуазель Но!), запретила мне разжигать камин, но я жёг его каждый вечер. Ящики прогорали моментально, но, если мне удавалось найти старую мебель или строительные доски, в студии делалось тепло. Я приобрёл китайскую пилу за 21 франк и не пользовался электрошофажем вовсе. По совету Исидора Дюкаса два часа в день я уделял физическим упражнениям — тренировал себя в Мальдороры.
Самой характерной особенностью моей тогдашней жизни было то, что, за исключением эпизодических рандеву со служащими издательства «Рамзей», я прекратил общение с людьми. Сентябрь, октябрь, ноябрь я провёл в стерильном одиночестве. Моё существование всегда отличалось судорожным экстремизмом. Я принадлежу к категории людей, которые вдруг меняют жизнь в борделе на жизнь монастырскую. Нормальной, сбалансированной сексуальной или социальной жизни у меня никогда не было. Однако на сей раз я, кажется, зашёл слишком далеко… Не имея рядом близких людей, я сосредоточил всё своё внимание на девочке «с шевелюрой». Третьего декабря я заметил, что беседую сам с собой, в голос по-английски. Я дискутировал, раздвоившись, проблему «этих девочек», то есть проституток. Моя предыдущая по времени позиция, что проституция такая же профессия, как и другие профессии, подвергалась моим же нападкам. Я впал в нелогичную мистику и бормотал что-то об удушающем запахе шевелюры девочки сверху. Очнувшись от дискуссии, я обнаружил себя (нас: раздваивался я и раньше, это не был мой первый опыт раздваивания) сидящим у хрупкой двери студии в потоке холодного воздуха из-под двери и прислушивающимся к шагам по лестнице. Какая связь между девочкой с шевелюрой и проституцией? Дело в том, что я подозревал девочку сверху в проституции. Основанием послужило необычное расписание жизни её. В то время как все обитатели последнего этажа — «шамбр дё бонн»5 — сотрясали лестницу по утрам, она сходила по лестнице не ранее одиннадцати дня. Я справедливо полагал, что ни одна работа или учёба в мире не начинается в полдень. Подозрение усугублялось её чрезмерно напудренным бледным личиком с жирно окрашенными губами. На личике этом, по правде говоря, не было написано вульгарности, как правило, гордо носимой жрицами любви на рю Сен-Дени, но это меня не смущало. Бодлеристый, из цветов зла, городской чахлый порок намалёван на этом личике — решил я. Четвёртого декабря я сумел увидеть её в дверную щель и последовал за ней. Она быстро пошла по Рамбу-то, миновала Центр Помпиду и достигла бульвара Севастополь. Я победоносно уже напевал «Всё хорошо, прекрасная маркиза…», предполагая, что сейчас она пересечёт бульвар, дабы стать на своём углу рю Сен-Дени, но она отправилась по бульвару вверх. Минут десять я шагал за нею, не выпуская из виду её узкую, худенькую спину в дублёной, в талию, шубейке до пят, как вдруг она вошла в дверь высокого дома. Не имея возможности вбежать в дом тотчас вслед за нею, я выждал некоторое время и тем, неопытный детектив, загубил всю слежку. В доме было более десяти этажей и с десяток организаций. Иди знай, куда и к кому она отправилась. Делать любовь или печатать на машине. Подозрительнее всех показалось мне «Польское товарищество либеральных профессий» на шестом этаже направо, но я не сумел соединить эти два подозрения. Если «моя девочка» отправилась в польское товарищество, то каким образом это сообщается с её предполагаемым проституированием? На типичную большую наглую блондинку — так я себе представлял полек — моя девочка не была похожа.
В самый пик моей страсти к девочке сверху — утром девятого декабря — зазвонил телефон. Телефонный звонок был для меня событием из ряда вон выходящим, посему я не радовался, когда они раздавались, но пугался. Выбравшись из-под тёплого одеяла хозяйки, оставив в покое свой член, который я поглаживал, вспоминая «девочку с шевелюрой», я присел на корточки у телефона: шнур был коротким. Я медлил, пытаясь угадать, кто это может быть: возможно, девочка с волосами узнала мой телефон и звонит мне?
Нет, это не была робкая любовь нынешняя, но прошлая страсть моя, бывшая жена звонила из Рима.
— Эд! Случилось страшное. Убили Джона Леннона!
Я сделался невероятно зол. Одним махом, сразу же, ещё тёплый ото сна. Накануне я хорошо натопил студию счастливо обнаруженными мною под грудой строительного мусора брёвнами, сквозь золу в камине ещё просвечивали пурпурные бока их. Даже в такой относительной идиллии она сумела раздражить меня.
— Fuck your6 Джона Леннона и хитрую японку Йоко Оно. Так ему и надо…
— Ты что, с цепи сорвался, сумасшедший! Какой-то маньяк застрелил Джона Леннона у ворот дома «Дакота», на углу 72-й и Централ-Парка. Очнись, сумасшедший, речь идёт о Ленноне… Целое поколение потеряло лидера…
— Я никогда не любил эту сладкую семейку «Битлз». Жадные рабочие парни, сделавшие кучи денег, меня никогда не умиляли. Тебе они должны быть близки, такие же ханжи, как и ты…
— Слушай, ты совсем охамел,— сказала она там, в Риме.
— Я имею право!— твёрдо заявил я в Париже.
И она знала, что я имею право. Наша с ней попытка образовать пару опять после нескольких лет раздельной жизни (там, в Риме, у неё был законный муж!) не удалась. По её вине. Она опять сдрейфила. Я явился в Париж в конце мая из Нью-Йорка с двумя чемоданами начинать новую жизнь. Мой издатель Жан-Жак Повер в очередной раз обанкротился, остался без издательства, и контракт, который я с ним подписал, оказался недействителен. Я приехал в Париж спасать книгу. Я был готов к промоушэн7 моей книги даже с помощью пулемёта, как я записал в дневнике того времени. Она приехала в Париж в начале июня, с восемью чемоданами и гордон-сеттером, или сеттер-гордоном, глупейшей собакой в любом случае. Но не начинать новую жизнь со мной, как я воображал, она лишь привезла приличествующее количество нарядов, дабы с блеском прожить ещё одно приключение в жизни: она хотела испытать, что такое жизнь в Париже с начинающим писателем. Её муж? О, он был тактичным графом, он отпускал её на месяцы одну в Париж и Нью-Йорк, он был тактичен до такой степени, что предупреждал о точной дате и времени своего последующего телефонного звонка в письме!.. Выяснилось, что у неё превратные представления о жизни начинающего писателя. Ей не понравилась моя студия в виде трамвая: только голова студии была освещена, хвост терялся во тьме. Не понравился затхлый запах старых тряпок и мебели мадемуазель Но. Она возненавидела электрический туалет, шумно выкачивающий дерьмо по узкой латунной трубке в широкую канализационную трубу. В туалет этот — чудо французской канализационной техники (с мотором!) — нельзя было бросать туалетную бумагу. Ей была противна моя сидячая ванна, в которую (если я, забывшись, бросал в туалет бумагу) нагнеталось моё или её дерьмо из туалета! Какой кошмар, у её мужа был титул, и у неё был титул, и, пожалуйста, такой туалет, и такая ванна! Женщины любят читать о первых шагах впоследствии знаменитых писателей в Париже в книгах, в них дерьмо, вдруг выступившее хлюпая из отверстия в ванной, куда обязана стекать вода, выглядит романтичным. Но опускаться в такую ванну въяве, хотя бы и вымыв её предварительно… Кошмар? (Камин ей, впрочем, нравился. Камин был утверждён романтической традицией как несомненный атрибут «бедной» жизни художников и артистов).
За июнь месяц, прожитый с нею в Париже, я успел выяснить о её характере больше, чем за несколько лет нашей совместной жизни в Москве и Нью-Йорке. Она оказалась показушницей пар экселлянс8. Она вдруг опять шатнулась в мою сторону, потому что ей показалось, что я начал соответствовать её стандартам. Загружаясь в поезд в Риме с сеттер-гордоном и чемоданами, она, очевидно, думала, что едет прямиком в первые пятьдесят страниц книги Хемингуэя «Движущийся праздник». Она ошиблась, слишком забежала вперёд. Кроме Жан-Жака Повера, я не был известен ни единой душе. Ей некуда было надевать все эти восемь чемоданов тряпок. Один раз мы посетили «Липп» элегантно одетые (предвосхищая годы безденежья, я привёз из Нью-Йорка смокинг и несколько первоклассных одежд), молодые и бизарр, но посетители не остолбенели и не были повергнуты в смущение. Никто и ухом не двинул. (Одна она-таки повергла в смущение знаменитостей. После сольного посещения ею «Клозери де Лила» я нашёл у неё в сумочке целых три телефона Жан-Эдерна Аллиера и телефон Филиппа Солерса.) Мы не успели поскандалить, так как в июле, оставив половину чемоданов в своей студии, она уехала с титулованным мужем в Великобританию. Она всего лишь обозвала меня на прощание скрягой…
В августе она позвонила мне, чтобы сказать, что она в Париже и остановилась в отеле «Тремуай». Всё забыв, я помчался в такси к ней. Красивая, в соломенной шляпке с цветами, она мальчиком разгуливала по холлу. Мы бросились друг к другу и срочно поднялись к ней в комнату, чтобы совокупиться. Ближе к вечеру, сидя в ресторане, я узнал, что за отель «Тремуай» буду платить я. Я имел глупость похвалиться ей в открытке, что заключил с Жан-Жаком Повером и издательством «Рамзей» новый контракт, за каковой получил вдвое больше денег.
Декларируя письменно любовь к любимой женщине в только что проданной книге, мужчина не может так вот сразу выпалить: «Собирай вещи, переезжаем ко мне! Безумие платить девятьсот франков в день за комнату в отеле, когда я плачу 1.300 в месяц за студию!» Только по прошествии четырёх дней мне удалось увезти недовольную аристократку на рю Архивов. Отсчитывая деньги розоволицему кассиру отеля, я видел не пятисотфранковые билеты, но корзины с провизией, могущей обеспечить мой желудок на многие месяцы вперёд… Уже через неделю мы разругались вдребезги. Она швырнула в меня блюдом с вишнями, англо-французским словарём и покинула улицу Архивов. К моему облегчению. В пределах территории двух постелей студии, в горизонтальных или близких к горизонтальным положениях, наша жизнь была великолепна, но как только мы выбирались из постелей, начинались стычки и разногласия. Она не звонила мне всю осень. И вот убили Джона Леннона.
— Повезло человеку,— сказал я.— Что его ожидало в любом случае? Старение, судьба толстого борова Элвиса Пресли? Охуение от драгс и алкоголя… Благодаря тому что его пришили, нам не придётся увидеть его в загнившем состоянии. Я хотел бы, чтобы кто-нибудь пристрелил меня, когда я напишу всё, что мне нужно. Парня этого, который его убрал, объективно рассуждая, благодарить бы нужно…
— У тебя нет ничего святого,— сказала она.
— У тебя зато есть. Ты никого не любишь, кроме своей пизды. И мужа своего не любишь, но эксплуатируешь,— прибавил я, предвосхищая её ответ.
— Неправда!— закричала она.— Я люблю свою сестру и маму люблю!
— Кончай демагогию,— сказал я,— любовь — не твоя страсть. Твоя страсть — страх. Боязнь жизни. Потому ты всегда стремилась спрятаться от жизни за мужскую спину, в тёплое, красивое стойло.
— Неправда!— вскричала она.— Я любила тебя и ушла от богатого мужа, вдвое старше меня, который относился ко мне как любящий папа к тебе, безденежному поэту. У тебя было пятьдесят рублей денег, когда я ушла к тебе, ты забыл? И глупая, вышитая крестиком украинская рубашка. Одна. В ней ты читал стихи. Ты снимал жалкую комнату в девять квадратных метров в коммунальной квартире… Я не побоялась жизни, я, не умея плавать, прыгнула в неё!
— Это не твоя была храбрость, my dear9, но храбрость твоей пизды. Тебе было двадцать два года, и ты хотела ебаться, безудержно хотела ебаться, а твой муж, погасив свет, ебал тебя ровно три минуты! Ты же хотела ебаться сто минут, двести, всегда! Ты ушла ко мне, потому что я тебя хорошо ебал, вот что! В Нью-Йорке мой хуй тебе надоел, и тебе стало страшно бедности, в которую мы попали. Ты заметалась от мужчины к мужчине в поисках тёплого стойла…
— Каким же монстром ты стал, Лимонов!— сказала она грустно.
— Прекрасно!— сказал я.— Я счастлив быть монстром. Не звони мне, пожалуйста, впредь! Пусть твой муж-фашист утешит тебя в горе.
И я положил трубку. Её титулованный граф был членом фашистской партии, она мне сама об этом рассказывала. Я надел красные сапоги, брюки, куртку и спустился за прессой. С манерами бывалого аборигена я отобрал и купил четыре газеты и «Экспресс». Это был день «Экспресса». Я стеснялся листать издания и потому неразумно тратил деньги. Во мне всегда до эксцентричности была развита гордость. Я поднялся к себе. Вместо обещанной атташе дё пресс статьи о книге Лимонова («На этот раз точно, Эдвард»,— уверила меня Коринн по телефону) на несколько страниц растянулась статья о писателях Квебека.
«Кому на хуй нужны писатели Квебека?» — думал я злобно, закурив «житанину».
Я стал курить «Житан» вместо «Мальборо»: они были на три франка дешевле. Иногда, чтобы поощрить себя, я приобретал себе литр рому «Негрита» — самого дешёвого алкоголя, какой было возможно обнаружить. У рома был запах неочищенной нефти. В недрах одного из шкафов были спрятаны остатки марихуаны. (В своё время я привёз из Юнайтед Стейтс несколько унций, предполагая, что трава пригодится мне в стране французов.) Марихуану я берег для секса, поскольку и идиоту известно, что это афродизиак. Трава нужна была мне, чтобы соблазнять женщин и соблазняться женщинами.
Писатели Квебека, счастливцы, в парках и шапках, скалились со страниц «Экспресса». «О чём могут рассказать читателю личности с такими вот лицами, как у писателей Квебека?» — подумал я. О чём? Лица миддлклассовых хорошо питающихся обыкновенных людей среднего и преклонного возраста. Страсти позади. Несложные, как у большинства населения, взгляды на жизнь. Вот этот, может быть, описал путешествие на собаках через северные области Канады (на фото он был с собаками). Ну и хули, на лошадях ли, на быках, на собаках, если в голове у тебя обычные скучности, то что ты можешь сказать читателю? Я прикинул, как будет выглядеть на странице моя фотография. «Я ебал вас в рот, идите вы все на хуй, ёбаные суки!» — пришла мне в голову последняя фраза моего романа.
— Я тут, читатели, на рю Архивов, я здесь, я жив!— закричал я для пробы и прислушался.
За стеной молодой муж с усиками, он всегда аккуратно здоровался со мной, если мы встречались на лестнице (атташе-кейс, лёгкое бежевое пальто), прокричал жене (рыхлая беременная женщина-брюнетка) нечто злобное, перемежая не известные мне слова известными мне ругательствами. «Та гель! Сало!»10 Их страсти были шумнее моей молчаливой борьбы с призраками.
К двадцатым числам декабря, исключая небольшую заметку в провинциальной, непарижской газете, показавшуюся мне убогой (хотя атташе и уверила меня, что у газеты полуторамиллионный тираж), статья на мою книгу так и не появилась. Внешне я жил той же жизнью. Писал роман о человеке, живущем в студии с сообщающимися туалетом и ванной, собирал на Рамбуто подгнившие овощи и ящики для камина, с должной дистанцией покупал в определенные дни прессу. Лишь большее количество бутылок из-под рома «Негрита» скопилось у двери, и большее количество «житанов» выкуривалось за день. Однажды, идя по рю Сент-Анде дез'Арт, глядя себе под ноги, я увидел, что серый тротуар расплывается, корёжится и пучится таким образом, словно из него собирается вылезти дерево или фонарный столб. Чтобы не упасть, мне пришлось опуститься на грязные плиты… В другой раз, день был такой тошно-серый, что даже по парижским стандартам казался гнусным днём, я взглянул в окно. Здание напротив показалось мне головой очень старой женщины. Седые волосы — крыша с воткнутыми в них косо приколками антенн и гребешками каминных труб — покрывали старое, растрескавшееся и обильно запылённое лицо. Я отшагнул к столу и вгляделся в текст, только что отстуканный мною на машинке. «Я — ВЕЛИКАЯ МАТЬ ЛЮБВИ»,— отстучал писатель Эдвард Лимонов несколько раз подряд. Текст был не о древних религиях Месопотамии, в рассказе речь шла о моём пребывании в Калифорнии, среди новых мафиози — эмигрантов из СССР. Каким же образом попала туда Великая Мать, да ещё и в нескольких экземплярах? И уж если попала, то Эдвард Лимонов — мужчина, как он может быть Великой матерью? Что-то не так, Эдвард…
Я понял, что схожу с ума. Не потому, что у меня больная психика, дефективные нервы или уже я унаследовал безумие от порченой тёти или порченого дяди. Я закономерно схожу с ума, потому что заигрался в Мальдорора-супермена, что, полагаясь на своё здоровье и равновесие, забрался в своём одиночестве так далеко, как никогда ещё не забирался. В Париже жили сотни русских, какая-то часть их с удовольствием общалась бы со мной, стоило мне высказать желание. Но, гордый, я не желал общаться с соотечественниками, воспринимая это как слабость. Я хотел общаться с личностями, достойными Эдуарда Лимонова, опубликовавшего книгу в коллекции Жан-Жака Повера шэ «Рамзей»11. С достойными или ни с кем… Оказалось, что человек, в данном случае я, не может как угодно долго находиться один, что есть лимит одиночеству. Нужно было спасаться. Следовало идти к людям. Я поднялся по лестнице и прижал ухо к двери девочки с шевелюрой. Прерываемый её лёгким и взволнованным, оттуда прогудел на меня мужской голос. Я попятился к лестнице…
У себя в студии я прошёл к окну и открыл его. Лицезрением моей книги в витрине «Миль фёй» я рассчитывал вернуть себя в состояние маниакальности. Увы, книга из витрины исчезла. На её месте лежала чужая книга в красно-белой обложке.
Грубо, как аларм в мясном магазине, забился в судорогах телефон.
— Хэлло! Вы говорите по-рюсски, да? Меня зовуть Моник Дюпре. Пишется одним словом — Дюпре. Атташе дё пресс шэ «Рамзей» дала мне ваш телефон. Я жюрнальист для (последовало невнятное название газеты или журнала). Я читаю ваша книга. Можно вас увидьеть сегодня?
— Можно,— сказал я и попытался по голосу представить, как она выглядит и сколько ей лет. Но сколько бы ни было, решил я, я выебу её, иначе не буду себя уважать. Чем же и спасаются от безумия, как не пиздой. Лучшее средство.
Через пару часов она материализовалась на пороге моей студии в крупную даму в шерстистом зелёном пальто. В руках у неё было несколько пластиковых супер-маркетовских пакетов. И переброшенная через шею и плечо, висела на ней большая сума. Звякнув пакетами, она установила их под вешалку.
— У вас очень хорошьё,— сказала она, снимая шерстистое пальто и любопытно оглядывая помещение. Под пальто на ней был неопределённого цвета балахон в татуировке мелких цветочков, из тех, что носят обыкновенно консьержки. Коротко остриженная, загорелая, и, о ужас, босые мускулистые икры торчали из-под балахона, на ногах крепкие туфли без каблуков, она прошла в голову моего трамвая, к окнам.— Читая ваша книги, я представляла, что ви должны жить совсем пльёхо. Извини, можно я буду говорьить тебе «ти»?
— Можно,— согласился я и поместил её возраст где-то между пятьюдесятью и пятьюдесятью пятью. Ещё пяток лет, и она годилась бы мне в мамы.— Где вы так хорошо научились говорить по-русски? Вы что, русского происхождения?
— Но, нет, я стопроцентный француженкя!— засмеялась она.— Я долго жила в Москве, потому что мой мужь, индустриалист, делал там бизнес с совьетски. Два мой сина ходили там в школу.— Усевшись, она широко расставила ноги под балахоном и упёрлась ладонями в колени.— Твой книга меня очень тушэ, очень-очень затьрогал. Мне твой историй очень близок… Любов твой мне понятен. У меня остался большой любов в Москва. Его зовут Витька… Ох, Витька…— лицо её приняло нежное выражение.— Мой мальчик Витька, такой красивий, такой хорешьий… Я совсем недавно живу в Париж, Эдуард, только один с половиной год как из Москва. Францюзский человьек ужасны, материальный совсем… Я хочу всегда обратно, в Москва, где Витька… Я всегда плачью…— Она смахнула невидимую слезу.
Я кивал головой и думал: почему она не вынимает магнитофон или блокнот и не задаёт мне вопросов?
— Ты хочешь выпить и кушать?— сказала она и встала.— Я принесла хороший вина и кушать тоже. Я знаю, что ты бедни, потому ми должны кушать. Я очень научилась русски обычаи в Москва.
Она по-хозяйски прошагала к вешалке. Глядя на неё в перспективе, я решил, что она похожа на одно из приземистых коротких брёвен, которые мне удалось недавно обнаружить на рю Блан Манто. До того как я их распилил. Бревно в сарафане. Никакой русский обычай не предусматривает приход в дом незнакомого тебе человека с сумками еды.
— Вот,— сказала она.— Хороший бели и красны вино.— «Блан дё блан» и «Кот дю Рон» стали на мой стол.— Вот пате12.— Она вынула пате в глиняной чашке.— Кольбаса… Риэт…13— Стуча продуктами, она выставляла мини-гастроном на мой рабочий стол. Она насилует меня самым наглым образом, подумал я. Однако она приступила к сдиранию упаковок с припасов, и запах свежей еды заполнил студию.
Отвернувшись к окну, я проглотил слюну. Я хотел есть. И я любил именно риэт и свиную колбасу — жирные, холестериновые блюда.
— Я должьна тебе признаться, что я обмануля атташе дё пресс,— она рассмеялась.— Я сказала, что я жюрнальисткя, чтоб получить твой телефон, но мнье так ньрявилась твоя книга…— Её окрашенные синим веки виновато опустились и поднялись несколько раз, прося прощения, обнажая чёрные боевые зрачки нахалки.— Давай кушять. У тебя есть тарельки?
Через полчаса мы сидели рядом на диване-конвертабл, я курил марихуану, а она рассказывала мне, насколько наши души похожи, её душа и моя. Её русский, и до этого полный лишних мягких знаков после «Кот дю Рон» и «Блан дё Блан» истекал соками. «Моя» Елена и «её» Витька также, по её мнению, были похожи — любимые нами чудовища. Из того, что она успела мне рассказать о «такой красивий Витька», я привычно сложил из элементов образ бездельника, мелкого фарцовщика и даже не макро14 или жиголо, но приживальщика, оставшегося в столице Союза Советских, но на расстоянии не дающего пизде и воображению мадам Дюпре покоя. С Витькой мне всё было ясно. Витька доил иностранку, «раскалывал» её на костюмы и свитера, зажигалки и всяческие приятные мелочи. У Витьки, у ленивого бездельника, не было даже достаточно энергии, чтобы найти себе иностранку помоложе. Однако следовало ебать мадам Дюпре. Ведь я пообещал себе: это первый акт курса лечения моей расшатанной одиночеством психики, ещё когда беседовал с ней по телефону. Она совершенно мне не нравилась. Ни её сарафан, ни её возраст, ни бревнообразная фигура, ни скользкие синие тонкие губы, ни седина в её короткой причёске под мальчика, ни веснушчатые руки её мне не нравились. Но необходимо было освободиться от оцепенения перед жизнью, от гипноза, в каковой я погрузил себя сам (самогипноз — самый эффективный из гипнозов). «Выебу мадам Дюпре, а потом выебу эту девочку сверху»,— сказал я себе. Так ребёнку обещают сладкое на десерт, если он съест суп.
— Ты такой сенсативь…15— донеслось до меня.— Витькя…
Нужно было действовать без промедления, ибо она намеревалась украсть у меня победу — выебать меня. С самого начала, с момента, когда она стала выкладывать свои жирные припасы на мой стол, у меня не было сомнения, что она пришла меня выебать… Аккуратно притушив ногтем марихуанный джойнт, я положил его в хозяйкину пепельницу. Неуклюже, сдирая с дивана хозяйкин плед, но без колебаний, я придвинулся к Витькиной женщине. Крупным планом надвинулись её узкие губы, смятый кусок шеи и цепочка на ней. Губы не были мне нужны. Не совсем понимая, что мне нужно, я нажал на её плечи, и она послушно, лишь вздохнув, съехала вниз. Её вздох подтвердил мою догадку, что она любит первая хватать мужчин за член. Мне удалось досадить ей, предвосхитив попытку. От сознания того, что я краду у неё часть удовольствия, процесс сволакивания её на пол студии доставил мне удовольствие. Сволокши, я приспособил её грудь на диване, зад обращён ко мне и запустил руки под сарафан. Под сарафаном оказался по-мужски твёрдый зад, покрытый шершавыми трусами из толстого акрила. «Ни единого мягкого куска!» — отметил я с сожалением, проползая руками талию, вернее полное отсутствие талии, мадам Дюпре лишь едва заметно сужалась в этом районе… Я дополз до грудей. Они оказались маленькими и резиновыми на ощупь. «Бедный Витька!» — пожалел я соотечественника и решил вызвать в себе желание тем, что внушить себе, что мадам мне противна… Задрав сарафан далеко ей на руки и голову, я стащил (действуя как можно грубее) акриловую броню, и — о счастье!— у неё оказался отвратительный запах…
— Почему ты не открываешь глаз, Моник?— спросил я её, вернувшись к своему марихуанному джойнту. Оправив сарафан, она, однако, осталась на полу, прикрыв ладонью глаза. И не шевелилась.
— Мне стыдно перед Витька…— прохныкала она.
— Витька далеко, в Москве,— сказал я.— Он не видит.
Сам я подумал, что Витька, если бы вдруг, согласно невероятному какому-нибудь чуду, вошёл бы сейчас в студию, то, переступив через неё, протянул бы руку к джойнту. «Дай потянуть, мужик?» — сказал бы Витька. И потянув, допил бы полстакана «Блан де Блан», оставшиеся в бутылке. И уж после этого, может быть, заметил бы её. «Бонжур, монястый!»
«Сержант», как я окрестил мадам Дюпре, пережила стыд перед Витькой. Я трахнул её ещё (спасибо, мисс марихуана!) и наутро чувствовал себя великолепно. Стараясь не глядеть на одевающегося «сержанта» (короткие ноги, твёрдый зад, широкие плечи, кошмар!), я оделся и, спускаясь с ней по лестнице, был уверен, что обнаружу статью о моей книге в сегодняшней прессе. Жизнь подобна напряженному и чуткому магнитному полю, и когда твоё весёлое и бодрое тело излучает силу в мир, оно, несомненно, оказывает влияние на сложные волны воль вокруг, и они подвигаются.
Сержант, спускаясь за мной, жаловалась на то, что ей стыдно. Однако теперь ей было стыдно не перед Витькой, но перед сыновьями, за то, что она не ночевала дома. Я был уверен, что она переживёт и этот стыд. Стоя у окон агентства страхования «Барбара», мы расстались.
— Я позвонью тебе вечером,— сказала Сержант.— Можьно? Что ты делаешь вечером?
Кажется, она намеревалась продолжить разговор о том, какие мы с ней «сенсативные» и какие моя бывшая жена и Витька чудовища.
«Экспресс» напечатал статью о моей книге! Статья была большая. Чтобы понять, хорошая это статья или плохая, я вооружился двумя словарями и сел у окна. Дом напротив больше не казался мне головой седой дамы, но, освещённый бьющим из-за моей спины, со стороны церкви Нотр Дам де Блан Манто солнцем, он казался мне этой самой Нашей Дамой Белых Пальто. Статья была положительная. Писали, что наконец у русских появился «нормальный» писатель…
Во второй половине дня, когда я находился в процессе уничтожения оставленных Сержантом припасов, телефон подал голос. Я с неохотой отвлекался от риэта. После риэта я собирался постучать в дверь девочки с волосами. «Бонжур, же сюи вотр сосед. Буле ву куше авек муа»?16 Мы спустимся ко мне, и «Экспресс» будет небрежно валяться на диване… Переместившись из монашеского периода в бордельный, я немедленно приобрёл необходимую наглость.
— Могу я говорить с Эдвардом Лимоновым?— спросили по-английски. Женщина.
— Конечно,— сказал я, обрадовавшись английскому. Сноб, я презирал русский язык, а учиться французскому медлил.— Говорите.
— Я узнала ваш телефон у атташе дё пресс издательства «Рамзей»,— сказала она. (Нужно будет купить Коринн цветы, подумал я.) — Мой муж — писатель Марко Бранчич. Сегодня «Экспресс» опубликовал статью о его книге. Рядом со статьёй о вашей. Вы видели?— Она приветливо засмеялась в трубку.— В той же рубрике — «Иностранный роман». Мы югославы.
Я заметил в «Экспресс» лишь свою рожу и «Ю. эС. Арми» тишот на груди Эдварда Лимонова, но смех её мне понравился. Почти наверняка она окажется лучше Сержанта.
— Да,— сказал я,— конечно видел, прекрасная статья!
— Я извиняюсь за то, что так вот запросто вам звоню, у французов так не принято, но я подумала, что вы русский… Короче говоря, вы заняты сегодня вечером?
— Нет,— решительно ответил я, готовый к любому приключению.
— Дело в том, что, по странному совпадению, у меня сегодня день рождения,— она ещё раз засмеялась, и я решил, что она уже отметила свой день рождения, выпила.— Хотите приехать к нам?
— Хочу. С удовольствием приеду.
— Мы будем очень-очень рады,— сказала она.— Я и мой муж… Запишите адрес. Мы живём в Монтрой. Это не близко, но и не на краю света. У вас есть автомобиль?.. Ну не страшно, в метро это не более получаса… Гостей будет немного. Несколько друзей…
Я приобрёл бутылку водки и цветы за 25 франков. Невозможно было явиться к женщине с таким голосом без цветов. «Сэкономлю впоследствии,— решил я,— буду питаться исключительно овощами с тротуаров рю Рамбуто».
Я плохо знал тогда Париж и совсем не знал Монтроя. Но я добрался без происшествий до указанной мне станции метро, где меня должен был встретить её муж. «Вы узнаете друг друга по фотографиям в «Экспрессе»,— счастливо сказала она. Одновременно. В чёрном узком пальто, в тёмных очках, со свисающим набок, чуть на тёмные очки, чубом среди толпившихся у станции арабов и чёрных, он был единственным блондином.
— Приятно познакомиться, Эдуард,— сказал он по-русски и улыбнулся куда-то вниз. В том, что югослав говорит по-русски, ничего удивительного не было.— Пойдёмте, тут совсем недалеко.— По его мягкому выговору и манерам можно было предположить, что он мягкий и приятный человек. Что и подтвердилось впоследствии.
Окраина была застроена дешёвыми коробками для бедных. Подобные кварталы окружают все большие города мира, включая советские. Дом, подъезд, квартира, если исключить граффити по-французски и арабски и чёрную кожу части соседей,— вполне можно было представить себе, что я приехал на московскую окраину.
Изабель Вранчич оказалась латиноамериканкой. Маленькая, носатая, чёрные волосы завёрнуты в одну сторону черепа и заколоты. В брюках. Я вручил ей цветы и бутылку в прихожей, стены её были окрашены в чёрный цвет.
— Моя идея, не совсем удачная,— сказал Марко Вранчич по-английски.— Кстати, как ваш французский, мы можем говорить по-французски, если вы хотите? К сожалению, русского, кроме нас с вами, никто не понимает.
Я признался в своей импотенции в области французского языка и отметил, что квартира их хорошо пахнет. Чем-то свежесовременным пахло, перекрывая разумный, ненавязчивый запах еды.
В салоне сидели на полу вокруг низкого стола несколько человек. Я обошёл их. «Мишель. Журналист». Очки. Клоки волос здесь и там по черепу. Такими изображают преждевременно полысевших в банддэссинэ17. «Колетт. Жена Мишеля. Доктор». Тяжёлые челюсти северного (Бретань? Нормандия?) лица, зелёное платье. «Сюзен». Очкастая Сюзен сочла нужным встать с пола. Встав, она оказалась здоровенной дамой на голову выше меня, бестактно одетой в ковбойские сапоги и цветастую юбку.— Сюзен нас изучает.— Освободившись от пальто, Марко вернулся в комнату в тёмной куртке без воротника и с накладными карманами. Если бы писателям полагалась униформа, выбрали бы именно такой вот френчик.
— Сюзен изучает славянскую и восточноевропейские литературы. Она американка. Эдвард много лет жил в Нью-Йорке,— пояснил он ей. Я подумал было, откуда он знает всё это, но вспомнил, что моя краткая биография была пересказана в статье.
Я, может быть, и одичал за несколько месяцев жизни без человеческого общества, но вовсе не желал прослыть дикарём. Мы выпили за Изабель. И ещё шампанского за наш с Марко дебют в литературе. Я опустился рядом с Сюзен, скрестил ноги, и мы заговорили о славянской литературе по-английски. Я выяснил, что Лошадь (я имею ужасную привычку тотчас придумывать людям клички) никогда не была в Нью-Йорке. В момент, когда я это выяснил, в комнату вбежала рыжеволосая дочь Вранчичей, и я забыл о взрослых.
Очевидно, кто-то из Вранчичей учился верховой езде. Рыжеволосый демон влетел с плёткой в руке и набросился на гостей. Пока она хлестала мою соседку Лошадь, я заметил, что девчонкин прикус зубами губы неполный. Отсутствовал один передний зуб. Девочка обрабатывала бока Сюзен дольше, чем другие бока. В конце концов, поймав несколько брошенных ею из-под ресниц взглядов, я понял, что она избивает американку для меня. От девчонки на меня изливались ощутимо горячие волны биотоков. Не считая себя неотразимым мужчиной, я объяснил её внимание завоевательским, агрессивным темпераментом девчонки. Всех других она, очевидно, уже завоевала, я был новым объектом завоевания.
У них была лёгкая атмосфера в их компании. Чем-то они напоминали мне нью-йоркских моих друзей. Все открыто, спокойно и без чопорности веселились. Когда я предложил выкурить джойнт и извлёк его, они обрадовались. Покурив травы, я, однако, заметил, что за тонкой плёнкой веселья у нас просматривались насторожённость в глазах и свои у каждого цели.
Будущая рыжая блядь, наевшись стайка, разделанного ей странно молчаливой мамой Изабель (по телефону у меня сложилось о ней другое представление. И это ради её смеха я приехал в Монтрой), стэйк оказался её любимой едой, возбудилась ещё более. После буйного веселья, воинственного танца по всей квартире она остановилась предо мной, швырнула плётку на пол и, глядя на меня наглыми, полуулыбчивыми глазами женщины, твёрдо держащей в руках мою судьбу, приказала:
— Подыми!
«Откуда она знает, откуда так чувствует?— подумал я, ведь никто не учил её». Некоторое время я, колеблясь, смотрел на рыжую. Красивое личико сморщилось во властную гримаску, глаза были совершенно безжалостные. Присутствовавшие молчали. По лицу мамы Изабель блуждала, ослабевая, стеснительная улыбка. Я был слегка «хай» от шампанского и травы, но я понял, что нужно поднять, и поднял плётку, подчиняясь восьмилетней госпоже. Дитя, из женщины опять став дитём, довольно захохотало.
— Сурово она тебя,— сказал Марко, переходя на ты.
— Видишь ли, Марко, — начал я тоном учёного,— мы с ней, несмотря на возрастную дистанцию, принадлежим к одной из вечных классических человеческих пар. Я и она в сочетании способны причинить друг другу максимум страданий и — что почти то же самое — счастье. Мы — «Поэт и Гетера». Твоя дочь этого не знает, но чувствует. Биология…
Мы принялись развивать эту тему, к нам присоединилась Сюзен. Перешли на другую тему. Мы смеялись, затихали, марихуана вдруг открывала в собеседнике бездну, но тотчас эту бездну вышучивала и закрывала плоской поверхностью. Устав, Эммануэле тихо улеглась возле меня, задрав ноги на пуф. Из-под длинной юбочки до меня доносился запах непроветренной её пипки. Порывами. Прибудет, и исчезнет, и опять прибудет… Я некоторое время раздумывал, приятен ли мне запах, смешанный с запахом детской мочи, или нет. Я нашёл, что приятен… Долго нюхать её мне не привелось. Отдохнув, она вскочила, схватила большое перо, в него была вмонтирована ручка (Лошадь Сюзен подарила эту гадость Марко-писателю), и стала щекотать мне шею. Я вскочил, погнался за ней и принялся обстреливать её мандариновыми корками, их множество уже было разбросано вокруг, никакого порядка в обеде не соблюдалось, десерт был подан в одно время со стайками. Швырял я в неё корки серьёзно, желая попасть. Она удивительно честно и красиво пугалась, визжала и пряталась от моих безжалостных мандариновых корок.
В два часа ночи с большим скандалом её увёл спать Марко. Чувствительная, как животное, от моего внимания она сделалась истерически взвинченной, и большого труда стоило её успокоить.
Так как идеал был насильно уведён, следовало обратиться к реальным женщинам. Эпизодические гости исчезли. Супруги, улыбаясь, бродили по квартире, и на лицах их я не обнаружил никакого желания, чтобы гости ушли наконец. Я подумал: а не трахнуть ли мне исследовательницу славянских литератур. Марко, мы вместе что-то делали на кухне, уже успел сообщить мне, что она лесбиянка. Я отнёсся к сообщению скептически.
— В наше время, Марко,— сказал я,— все желают быть интересными и необыкновенными. Я убеждён, что многие называют себя лесбиянками или гомосексуалистами исключительно из мелкого тщеславия. Мне кажется, что американке такого роста, в ковбойских сапогах, безвкусной юбке, в очках нелегко найти мужчину в Париже.
— Она не любит мужчин,— заметил Марко.— Мы пытались, между нами говоря, с Изабель затащить Сюзен в постель. Сопротивляется… Зажмётся и не даёт.— Югослав снял тёмные очки и посмотрел на меня без очков.
Порозовевшая физиономия его и чуб, свисающий на глаза, были мне необыкновенно симпатичны. Я почувствовал к нему братскую любовь и нежность. Ещё я почувствовал гордость за моё поколение, такое доброжелательное и нетяжёлое. Но я не прекратил его анализировать. «Они пытались затащить…» Этим провокационным замечанием он пытается дать мне знать, что они не против того, чтобы затащить кого-либо в постель. Я вспомнил смех Изабель по телефону… Я решил остаться с ними. Но, как это часто бывает, случайность расстроила наши планы в последний момент.
Не рассчитав марихуанной силы (это была бессемянная, я привёз лучшую!), Сюзен способна была разговаривать, но не способна передвигаться. Но по железной американской причине, в которую мы все поверили почему-то, ей нужно было возвратиться шэз'элль18 в квартиру на рю Монмартр, у Ле Халля. Умолив нас вызвать такси, поверженная башня стала ползком двигаться к лестнице. Я сжалился над башней и взялся отвезти её. Выгрузив великаншу на рю Монмартр, я мог вернуться к себе на Архивов, пешком через Ле Халль. Мыслей о захвате её тела у меня, кажется, не было.
Несмотря на предрождественский мороз, она не очнулась ни в такси, ни на рю Монмартр. Я изрядно измучился, подымая её на второй всего лишь этаж без лифта. Отыскав у неё в сумке ключи, она в этот момент сидела, вытянув гулливеровские ноги поперёк французской лестничной площадки, и пыхтела, я втащил её в квартиру. За неё платил университет богатого нефтяного штата, квартира была большая. Протащив через салон, я возложил великаншу на кровать в спальню. С подушки свалился розовый слон, почивавший на ней ранее, а с великанши свалились очки. Пытаясь понять, что она пытается мне сказать, я пригляделся к ней и нашёл её вовсе не дурной девушкой. Без очков у неё оказались большие глаза, рот, может быть, потому, что она перестала им управлять, выглядел крупным и сочным, из створок пальто, прорвавшись через блузку, выскользнула большая белая, с розоватым соском грудь.
— Мазер! Ох, Мазер!— простонала она и протянула руку в моём направлении.
Я вспомнил безумную строчку Лимонова «Я — Великая мать любви», и она показалась мне менее безумной. Я сел на кровать и склонился над телом.
— Я здесь, май дир… Я с тобой, моя герл!— Одну руку я положил на белую грудь; другой, удалив волосы со щеки, я провёл по её губам.
Всё ещё принимая меня за мать, оставшуюся в нефтяном штате, она поймала мои пальцы губами и стиснула их. Боясь, что она меня укусит, если откроет глаза, я был готов выдернуть их в любой момент, но, обхватив два пальца губами поудобнее, она стала сосать их, как дети сосут соску или материнскую грудь. Может быть, в марихуанном сне ей привиделось, что мать дала ей грудь?
Сюзен поняла, что я не мама, только после получаса езды на ней. Очнувшись и поняв, что с ней происходит, что мужчина лежит меж её неприлично раскинутых ног и энергично пытается разбудить к жизни её уснувший (от лесбийских утех или воздержания) орган чувствования своим членом, она пыталась сбросить меня.
— Вот ар ю дуинг19, Марко?!— закричала она.— Вот ар ю дуинг?!
— Молчи,— сказал я.— Я хорошо тебя дуинг. Помнишь вашу американскую поговорку: «Если не можешь избежать насилия, расслабься и получи удовольствие»?
Мама! Ох, мама! На то, что я не Марко, я не стал ей указывать, поймёт сама. Да и какая, в сущности, разница?
Рациональная, почти профессор, она преодолела страх или отвращение к мужчине и втянулась в то, чем мы занимались. Может быть, и лесбиянка, но она оказалась на высоте, никакой скидки ей давать не пришлось. В некоторой её неуклюжести был определенный шарм. У больших женщин хороши ноги и зады. И вот я с большим удовольствием лежал меж высоких ног великанши. Эрудит, я вспомнил соответствующие строчки Бодлера. Я решил доказать ей, что никакое лесбийское удовольствие не может сравниться с сексом с мужчиной. Я не считаю себя сверхсамцом, и у меня случаются срывы, есть моменты в моей жизни, которые мне стыдно вспоминать, но в ту ночь я был в хорошей форме. В лучшей, кстати сказать, чем с Сержантом.
К утру я замучил её, заездил, у неё заметно обострились скулы. В порыве благодарности и откровения она призналась мне, что она не спала с мужчиной семь лет! Уже одевшись, я, из хулиганства поставив её в дог-позицию, выебал её толстой красной свечой, оказавшейся на неиспользуемом ею пыльном камине, и она получила, к моему недоумению, быстрый и могучий оргазм, взвыв как прижжённая сигаретой обезьяна. Размякшую и мокрую, как после бани, я оставил её отсыпаться, а сам суперменом пошёл меж заборов отстраивавшегося Ле Халля, размышляя о том, что секс — не только биологическая операция, но и единственный доступ к нормальной жизни. Что сексуальные отношения дают право на прикосновения, на переплетение телами. В то время как в безлюбовные периоды человек бродит на дистанции как холодное небесное тело…
Вечером позвонила Изабель.
— Эдвард?— И она замолчала. Во время этой паузы я уже понял, чего она хочет.— Я рядом с тобой, у Бобура. Покупала рождественские подарки. Я могу к тебе зайти? Ты не занят?
— Разумеется,— сказал я.— Я буду рад. Только у меня ничего нет выпить. Есть марихуана.
— Я куплю вина,— сказала она.
Я открыл ей, и мы обнялись. У неё был, как я уже отмечал, крупноватый нос. Поцелуй её заставлял догадываться, что она занимается этими делами серьёзно, глубоко и профессионально. И что другие её акции в этой жизни второстепенны. Она захлопнула дверь ногою, и мы, пятясь, свалились на матрас.
Далее я бы хотел накатать на полсотни страниц лекцию о сравнительных качествах женских задов и ляжек, но грубый писатель-профессионал во мне затаптывает нежного любовника, потому ограничусь указанием на то, что у латиноамериканки было обыкновенное, чуть рахитное тело женщины из слаборазвитой страны. Зад грушей, худые ноги, уставшие, спустившиеся крупные груди с несвежими сосками (их усосала рыжая!). Но как неподвижное бревно спрятавшейся в ил электрической рыбы аккумулирует в себя энергию электрическую, Изабель аккумулировала дичайшее количество энергии сексуальной. На Изабель следовало не смотреть, но трогать её. Любовь она делала грустно, сумрачно, депрессивно, как, может быть, её католические прабабушки оплакивали Христа или погибших в очередной резне маленьких своих мужчин, с красными дырами в белых рубахах, босиком лежащих в зале маленькой церкви. В моменты оргазмов Изабель плакала.
Он позвонил ночью. Марко, её муж. Закутавшись в хозяйкино ватное одеяло, мы поедали оставшийся ещё с нашествия Сержанта паштет. Он сказал:
— Добрый вечер, Эдвард. Как вы там, всё хорошо?
— Да,— сказал я.— Всё прекрасно.
Мне не совсем было понятно, что он имеет в виду. Мой секс с его женой? Подобные вещи меня не удивляли уже много лет, однако то, что мужья не только не возражают, чтобы их жены делали любовь с другими мужчинами, но и хотят беседовать с этими мужчинами, меня удивило.
— Ты хочешь говорить с Изабель, Марко?— предложил я.
— Да, если можно,— сказал он ласково.
Она улыбнулась и высвободила из-под одеяла голую руку.
— Да, маленький…— Жестом она указала мне на наушник, дескать, возьми, послушай. Я взял, хотя мне почему-то было стыдно. Остатки самурайского воспитания в офицерской семье? Я делал любовь с большим количеством чужих жён до этого.
— Тебе там хорошо, маленькая?— спросил он.— Эдвард с тобой хорошо обходится?
— Очень,— она грустно улыбнулась мне.
— Я счастлив,— сказал он действительно счастливым голосом.— Может быть, вы хотите приехать? Я купил шампанского.
— Хочешь, поедем к нам?— сказала она, оторвавшись от трубки.— У нас осталась масса еды. У Марко в гостях девочка из «Либе»20…
Я вдруг понял, что мы не полностью морально разложились, но сохранили почти буржуазное, чистое приличие в словесном общении. Она не сказала мне: «Эй, Эдди, поехали к нам, устроим оргию, ты выебешь девочку из «Либе», её только что ебал Марко, и будем ебаться все вместе». Но сформулировала всё красиво.
— ОК, поедем!— согласился я, подумав, когда же я научусь жить размеренно и нормально. После трех месяцев монашества и мальдороровского презрения к миру вот я опять по горло в грехах и похоти мира. Я улыбнулся своей библейской формулировке — «грехам и похоти».— Эммануэль легла?— осведомилась жена у мужа. Телефонная трубка проурчала утвердительно.— Эдвард, Марко хочет тебя о чём-то попросить!
— Да, Марко!— Умелый фальшивомонетчик, я тотчас перенял тональность их бесед. Сумрачную мокрую ласковость.
— Захвати, пожалуйста, немного твоей травы, если ещё осталась,— попросил он,— Очень хорошая была трава.
— Непременно, дорогой.
— Я вас обоих целую,— сказал он.— До встречи…
Девочка из «Либе» оказалась похожей на актрису Кароль Букэ и, так как я люблю эту актрису, тотчас завоевала моё расположение. Не знаю, чем они занимались с Марко до нашего прихода, но, будучи младше всех нас, девочка рано устала и захотела уйти. Марко напугал её невозможностью вызвать такси, сказал, что ни он, ни я не в силах её проводить, потому что перекурили травы, придумал дюжину ужасов, и она осталась. Постелив ей на диване в салоне, оставив меня в раскладном кресле, Марко выключил свет и вышел в спальню к супруге. Сделалось тихо. Я был уверен, что это временная тишина, слишком уж бодрым и весёлым выглядел Марко, уходя.
Я разделся и, не ложась в кресло, лёг к «Кароль». Она была в тишот и юбке. Сунув руку под тишот, я погладил груди. Большие и прохладные.
— Ох, но!..— вздохнула она неэнергично.— Я устала!
Вне сомнения, она не лгала, оставалось узнать, настолько ли она устала, что откажется от любви. Я занялся сдвиганием юбки, а она приподнялась в постели, вздыхая и зевая, и в этот момент появился голый и очень белый в темноте Марко с полустоящим членом.
— Вам удобно, ребята?— прошептал он.
Подойдя к «Кароль» с другой стороны, Марко поправил подушку под её локтем. И взялся за юбку с другой стороны.
— Я устала, бой…— сказала она тихо.
— Да-да…— Марко оставил юбку и приподнял тишот.— О, какое великолепие!— воскликнул он и потрогал обе груди. Наклонился над ними и захватил сосок в рот.
— Марко!— грустный голос Изабель прибыл из спальни.
— Пойди, Эдвард!— сказал Марко, просовывая руку под юбку «Кароль».— Изабель ждёт тебя…
— Чего она хочет?— глупо спросил я.
— О, она тебе скажет, чего она хочет…— Я увидел, как вырастает на моих глазах (как дерево из семечка в научно-популярных телефильмах) член Марко, отклонившись в сторону «Кароль», как подсолнечник к солнцу.
В спальне Изабель лежала на спине, отбросив простыни, прикрыв глаза рукой. В их дешёвом доме для бедных было так тепло, что время от времени они открывали окна. Груди, выкормившие рыжую девочку, свалились в стороны. Отверстие удовольствий было прикрыто клоком черных волос. Я лёг на неё. Из салона доносились шёпоты Марко и «Кароль», потом шёпоты перешли в равномерный скрип дивана.
Марко явился в спальню вместе с первым серым светом утра в щели зашторенного окна. Я дремал, прижавшись к мягкому заду Изабель.
— Какие вы красивые, ребята!— воскликнул Марко.— Вы выглядите потрясающе!
Изабель пошевелилась.
— И ты красивый, Марко…— сказал я, открыв один глаз. Я не люблю цвет моей кожи,— альбиносная какая-то…
— Маленькая,— он наклонился к Изабель,— тебе было хорошо?
— Да, очень хорошо…— прошептала она.— А тебе?
— Не очень. Девочка оказалась слабенькой. Уснула с моим членом в ней…— Марко положил руку жене на живот, погладил его, съехал ниже и взъерошил, раздвинул шерсть на отверстии.— О, красная!— с уважением произнёс он. Во всех его восклицаниях и разглядываниях была определенная невинная искренность.— Эдвард, маленькая, покажите мне, как вы это делаете?!
— Уймись,— сказала она тихо.— Ложись спать…
— Ну, пожалуйста, маленькая…
Она потёрлась коленом о простынь, и зад её под моим животом вздрогнул. Следуя сигналу, вздрогнул и мой член!
— Эдвард!— воскликнул он, заметив.— Ты хочешь её… Вы друг друга хотите!— Со вздохом, надвинув на лицо подушку, латиноамериканочка съехала на спину. Раздвинула ноги. Я, приняв её движение за приглашение, закинул на неё ногу.
— Нет, не так…— прошептал он.— Мне не будет видно… Маленькая, прими другую позу, пожалуйста, стань как собачка…
— Марко!
Но он уже переворачивал её, ставил на колени. Она сгребла одеяло и сунула в него голову. Оставила зад.
— Можно?— спросил он и коснулся моего члена.— Я хочу сам ввести тебя в неё…
Ведомый рукой мужа, член мой, раздвинув латиноамериканские сизо-чёрные волосы, вошёл в отверстие, которое согласно строгим стандартам прошлых времён должно принадлежать исключительно ему. Добрый, он делился со мной.
Она плакала, дрожа, приближалась к оргазму (Марко только что прервал меня, чтобы, кончив в жену, до этого он мастурбировал, глядя на нас у края постели, уступить мне место), когда за моей спиной от двери капризный голосок прохныкал:
— Что вы тут делаете без меня?!
— Возвращайся немедленно в свою спальню!— закричал отец. Снял руку с живота жены, сквозь который прощупывал мой член, вскочил с колен.
— Я хочу быть с вами!— истерично заверещала Эммануэль.
— Дура! Тебе рано! Есть вещи, которые могут делать только взрослые…
— А-ааааааа!— зарычала, подняв высоко зад, Изабель и разрыдалась, резко опустив зад к матрасу.
Всё стихло. Хлопнула входная дверь. Это, не выдержав наших страстей, сбежала от нас «Кароль».
*
Новый год я праздновал в окружении семьи. У меня в студии, по причине наличия камина. За праздничным столом. Рыжеволосая девочка принесла мне подарки. В камине пылал огонь. Марко, в чёрном свитере, склонив голову так, что чуб спал ему на глаза, сидя на стуле, неумело наигрывал на гитаре. От электрической плиты, где Изабель готовила пирог, доносились запахи корицы и кинамона…
К лету чудно сложившаяся семья, увы, развалилась. Причинами послужили зависть, высокомерие, эгоизм, и мой собственный, и других членов семьи, включая нашего ребёнка. То есть, как видите, вовсе не секс, сплотивший нас. Однако некоторое время жизнь наша была великолепна.
1 «Тысяча листьев» (франц.).
2 «À nous deux maintenant!» (франц.) — «А теперь — кто кого?».
3 «Меня зовут Эдуард» (франц.).
4 Французские газеты.
5 Chambre de bonne (франц.) — Комнаты для прислуги.
6 Ебать твоего (англ.).
7 Продвижение (англ.).
8 В высшей степени (франц.).
9 Моя дорогая (англ.).
10 Заткнись! Сучка! (франц.).
11 В «Рамзей» — имеется ввиду в издательстве «Рамзей» (франц.).
12 Паштет (франц.).
13 Тушёнка (франц.).
14 Сутенёр (франц.).
15 Чувственный (англ.).
16 «Здравствуйте, я ваш сосед. Не хотите ли выспаться со мной?» (франц.).
17 Комиксы (франц.).
18 К себе, к ней (франц.).
19 Что ты делаешь (англ.).
20 Газета «Liberation» («Освобождение»).