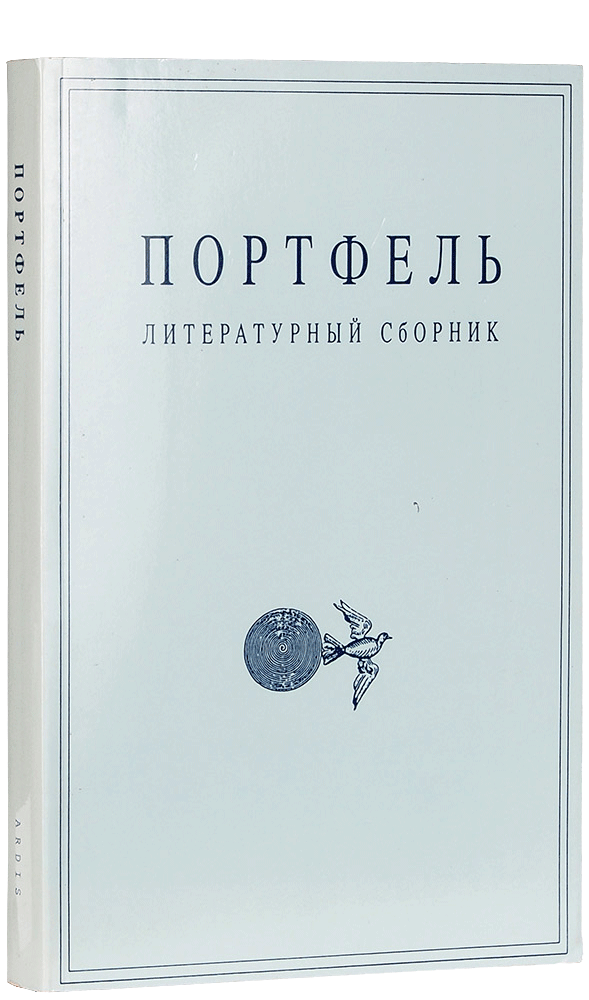«Дешёвка никогда не станет прачкой…»
Толика Толмачева арестовали на третий день нашей ссылки на сахар. Прежде всего следует представить личность, объяснить, кто такой Толмачев, и связать его с кубинским сахаром.
Толмачев считал меня фраером, глядел на меня скептически, однако дружил со мной. Может, у него была слабая надежда на то, что, преодолев недостатки, «Сова», как он звал меня (производное от моей фамилии Савенко), станет хорошим вором? Что он думал, останется навсегда «глубокой тайною», как поётся в блатной песне. «И пусть останется глубокой тайною, что у меня была любовь с тобой…» На протяжении пары лет Толик был моей совестью. Именно после того, как его прочно посадили, я, по выражению моей матери, «взялся за ум» — устроился на завод «Серп и Молот» в литейку и проработал там целых полтора года, невыносимо долгий срок для юноши в те времена. Уволился я с «Серпа и Молота» как будто бы не из-за Толика, однако именно тогда он вышел из тюрьмы (ненадолго, впрочем) и, встретив меня, шагающего на третью смену (авоська с едой болтается в руке), обронил сквозь зубы: «Рогом упираться идёшь?..»
Даже сейчас, через четверть века, в моих ушах звучит эта фраза со всем её классовым презрением. Я вижу сухую пустынную остановку трамвая против Стахановского клуба, несколько изморённых августовской жарой деревьев, пыль и песок меж трамвайных рельсов. Светлый пиджак Толмачева наброшен внакидку на плечи, белая рубашка расстёгнута на груди… Вижу верную подружку его — цыганку Настю, обхватившую его за талию под пиджаком… Кольца на пальцах её смуглой маленькой руки… И навсегда повисло над субботней пустой окраиной толмачевское «Рогом упираться идешь…» И все, и никакого дополнительного нравоучения по поводу… Не сказал, что ж ты, Сова, опустился как, в работяги ушёл, я-то думал, ты прикинулся, для мусоров, ну на месяц, а ты… Ничего такого, только одна фраза… Но потом, после того как мы обменялись не по делу, а давно известными сведениями, для приличия, как аристократы: «По амнистии… скосили… Борьку Ветрова, слыхал, замочили в криворожском лагере… Да… Ну бывай…» — и я пошёл, вернее, начал разворачиваться уходить… тогда он скептически-грустно так улыбнулся (сверкнул первый золотой зуб), вроде как бы говоря: «Ну вот, худшие мои опасения по поводу тебя, Сова, оправдались… Жаль…» И уже топая по асфальтовой дорожке, стараясь вертеть как можно независимее авоськой с завязанным в ней завтраком, я услышал, как он засвистел, без слов. Засвистел, зная, что я знаю слова.
Дешёвка никогда не станет прачкой,
Вора ты не заставишь спину гнуть,
Долбить кайлом, возить породу тачкой —
Мы это дело перекурим как-нибудь…
Свистом он дал мне знать, что он сожалеет, грустит о том, что я не оправдал его надежд, что вора из меня не вышло, а вышел — работяга. Воры были аристократами нашего посёлка, работяги были серой массой, каковую аристократы презирали.
В ту ночную смену все у меня валилось из рук, и, помогая Ивану Глухову передвигать вручную, ломами, опоки на остановившемся конвейере, я чуть было не оставил меж опок ногу. Лишь случайно лом Ивана удержал на мгновение сдвинувшийся вдруг конвейер, и я успел выдернуть ногу, правда без ботинка…
Но это уже хвост истории о Толике, а начало её ещё в младших классах восьмой средней школы. В школе он не был хулиганом, не отличался выдающимися физическими подвигами. Такой себе был серьёзный мальчик, компактный, с особым взглядом, бешено-открытым каким-то.
Маленькие мужчины конфликтуют постоянно и открыто, однако я не помню, чтоб у него были проблемы с кем-либо. Маленькие мужские животные, очевидно, понимали, что Толмачев намерен прожить жизнь, не простив ни одной обиды, ни одного толчка. Семья Толмачевых попала в Харьков с Кубани. Отец был инвалид, я помню маленького, жёлтого, оплывшего, как дешёвая свеча, старика, неподвижно сидящего в деревянном кресле у окна. Мать была уборщицей. Существовали ещё старшая сестра и брат, уже отселившиеся от родителей. Обыкновенные бедные люди, живущие в хорошей квартире из двух комнат, потому что отец инвалид… советская власть инвалидов уважала. В шестом классе он пропал из школы. Мы на время забыли друг о друге. Он возник опять, и мы стали видеться все чаще уже в подростковом возрасте, когда оба стали выходить в свет, то есть на улицы и танцплощадки в поисках приключений. В поисках общества противоположного секса и приключений, позволяющих нам убедиться и утвердить нашу мужскую силу, репутацию, повинуясь обычным биологическим толчкам, заставляющим подростков искать общества девочек и других подростков. Он вырос, но так и остался меньше меня ростом, сделался суше, определённее. Нос, повинуясь влиянию, возможно, нескольких вливаний крови кавказских горных племён (Кубань-то, откуда его семья родом, именно с ними и граничит), сделался горбатеньким, сухим хищным носом. Блондинистая прядь по лбу, светлый глаз ястребка из-за горбатого носа — сочетание было красивым. Я встречал его обычно у Стахановского клуба ближе к вечеру. С заходом солнца к клубу сходились поселковые ребята, и стайками или по двое прогуливались девочки. Толмачев несуетливо стоял, обычно сунув руки в карманы брюк, перебрасываясь фразами с собирающимися к клубу ребятами. Иногда он скупо сплёвывал. Плеваться было модно и являлось признаком независимого поведения. Иногда, сидя на скамейке в сквере, подростки устраивали турниры: кто дальше плюнет. Особым шиком считалось умение плевать сквозь зубы. Толмачев плевался редко и благородно. (Да-да, возможно плеваться благородным образом и плеваться вульгарно.) Осенью он стоял в плаще, и, чтобы поместить руки в карманы брюк, Толику приходилось расстёгивать плащ. Внешне невозможно было заметить в его костюме выборочности или заботы о том, что на нем надето, но странным образом он был хорошо и ловко одет в самые обыкновенные «широкого потребления» («ширпотребные», как тогда говорили) советские тряпки. Вспоминая его, в тёмном костюме и часто при галстуке, аккуратного, скептически глядящего на меня: «Ну что, Сова?» — у меня не возникает сомнений, что он преспокойно мог бы из тех времён прийти и сесть между мной и Председателем Национальной Ассамблеи Шабан-Дельмасом перед телевизионной камерой в самый шикарный ночной клуб Парижа «Бан-Дюш» (расшифровывается как «Бани-Души», Толик) и улыбнуться. «А что это за мужик, Сова?» И выглядел бы он уместно, и нашёл бы, что сообщить. Правда, он не знает иностранных языков, но я бы ему перевёл. Я тогда ходил в жёлтой куртке. Я очень хотел выделиться. Он презрительно называл меня «стилягой», и был прав. За ним и его скептицизмом стояла мощная консервативная традиция (так причёска английской королевы всегда отстаёт от моды на тридцать лет). Он исповедывал воровской консерватизм. Однако он мною не брезговал, легкомысленным. Может быть (он знал, что я пишу стихи, и не презирал меня за это), он испытывал определённую тягу к людям пера, воры ведь, или, как они себя называли гордо, «урки», тяготеют к пишущей братии, вспомним отношения Месрина с журналистами… А может быть, он предвидел, что через тридцать лет я напишу о нем? Как бы там ни было, постояв, перешвырнув несколько раз папиросу «Казбек» из одного угла рта в другой, он вдруг говорил мне: «Ну, что, Сова, по садику прошвырнемся?» — и, не дожидаясь ответа, двигался по направлению к садику. Точнее, садиков у Стахановского было два, но для прогулок ребята использовали лишь один — большой, в меньшем помещалась летняя танцплощадка. И мы шли, чаще всего вдвоём, иногда к нам присоединялся кто-нибудь из ребят… Полагалось обойти асфальтовые тропинки по периметру, может быть, ненадолго присесть на скамейку… Степенно покурить, стряхивая пепел ногтем.
*
Я назвал его много раз «вор», «урка», и лишь сейчас с удивлением понял, что тогда он, пятнадцатилетний или шестнадцатилетний, не мог быть таким вот сложившимся, полным достоинства, беспорочным, гордым вором. На его счету в тот год было ещё немного преступлений, горстка и, по всей вероятности, нестрашных, подростковых: украденный мотоцикл, подвернувшаяся касса… Однако как характер он уже возник и сложился в деталях, от безукоризненно начищенных туфель до умения всегда быть центром, арбитром, уравновешенным взрослым, со своим секретом в сердце, среди бахвалящихся и обсуждающих баснословные, готовящиеся свои подвиги подростков. Тогда, в 1958–1964 гг., на стыке двух эпох, блистательный образ урки ещё влиял на молодёжь и разговоры о готовящихся «больших делах» были куда более частыми, чем разговоры о девочках, или танцульках, или выборе серьёзной профессии. Уже несколько мальчиков из моего класса планировали идти учиться в институты, да, но у Стахановского говорили о «больших делах», и гитары если звучали в темноте подворотен и в скверах по вечерам, то песни были блатные: «Ровные пачки советских червончиков с полок глядели на нас…»
Толмачев никогда не говорил о делах, и тем более о больших делах. Он презирал Костю Бондаренко по кличке Кот, майорского сына, моего подельника, с которым я «ходил на дела», за суетливую занятость деталями: за коллекцию отмычек, ломиков, за «духарение». («Не духарись»,— говорили, имея в виду «не выпендривайся, не суетись».) Он даже сумел меня обидеть, сам наверняка этого не желая, когда, встретив нас однажды с Костей вечером, с рюкзаками на тёмной улочке, называл нас «котами»… «Ну что, коты, опять на дело идёте?» — сказал он и скрылся в темноте. Вооружённые ломиками и отмычками, мы и впрямь шли на дело.
Он всегда был готов к преступлению, то есть у него была воровская хватка. Однажды мы зашли с ним в столовую. Приблизившись к кассе, платить, кассирши мы не увидели. Её голос раздавался из открытой двери, и был виден кусок белого халата. Бросив лишь один взгляд вокруг, Толмачев бесшумно переметнулся на другую сторону прилавка. Секунды понадобились ему, чтобы, сорвав с себя пиджак, вывалить на него содержимое кассового ящика. Перепрыгнув обратно, он бросил мне «Атас!», и, выскочив на улицу, мы смешались с толпой… Это не бог весть какое преступление, но реакция у него была удивительная. Воровской взгляд — это и есть главный талант вора. Мгновенная оценка обстановки, мгновенный выбор. Сейчас или позже… Акшэн! В посёлке встречались ребята свирепые и дикие. Борька Ветров, наш с Толмачевым одноклассник когда-то, сын возчика (отец его держал лошадь во дворе собственного дома), не сумел дожить даже до 21 года, таким он был резким, этот тип. В перерывах между сроками Ветров, пьяный, «дурил» и однажды в том же сквере у Стахановского, где салтовские ребята прогуливались, выстрелил в своего же парня, за здорово живёшь, просто так, выстрелил и уложил наповал. Во время второго суда он, сложив руки над головой, ласточкой выпрыгнул с третьего этажа в незарешеченное стекло окна, остался жив и убежал. На роковой и последний срок в криворожский лагерь сел он, однако, не за убийство, но за ограбление окраинной сберкассы, в которой обнаружил всего лишь 130 рублей… Толик Резаный сбежал из колымского лагеря и, пересекши всю Сибирь, явился в Харьков, чтобы быть арестованным, в квартире родителей своей подружки. Был великолепный Юрка Бембель, посаженный в пятнадцать лет на пятнадцатилетний срок за вооружённое ограбление, вышедший по половинке срока в 23 года и расстрелянный в 24! Какие люди, а! Однако все они были скорее пылкими жертвами судорожной эпохи, истеричными Гамлетами… Вором же настоящим был Толмачев.
У него были свои принципы. Когда однажды моя мать, озабоченная до отчаянья моим поведением, тем, что улица уводит у неё сына, бросилась ко мне у Стахановского и стала кричать, звать, молить, плакать, чтоб я пошёл с ней домой… я, раздражённый, стесняясь уронить своё мужское достоинство на глазах всей стаи молодых волков, заорал: «Дура! Проститутка! Отъебись от меня!» И неожиданно получил резкий апперкот в живот от стоявшего до сих пор рядом, не вмешиваясь, приятеля. «Это твоя мать, Сова, мудак…— сказал он строго.— Она тебя родила. На мать не тянут. Мать у человека одна…» И все, он отошёл. И сплюнул.
Осенью 1961-го у нас появилась общая проблема. «Мусора» начали очередную кампанию по борьбе с молодёжной преступностью. И мы с ним оказались рядом по алфавиту в мусорском списке… «С» и «Т». Толмачев заслуживал их внимание много больше, чем я, я не заслуживал находиться в его категории, но так как он не был истериком, но, спокойный и секретный, делал свои дела или один, или с очень странным молодым человеком по кличке Баня, то мусора занизили его в должности. Они стали лечить нас. Толмачева лечить было поздно. «Лечить» — было модное вдруг слово из «фени» — то есть блатного жаргона. «Что ты меня лечишь?», «Ты меня не лечи!» — такие фразы каждый день сотни раз вспарывали пыльный воздух над нашей пыльной Салтовкой…
Мусора решили прежде всего убрать нас с улицы. Нас стали устраивать на работу. Когда мы дали «вторую подписку» (то есть подмахнули наши подписи под нечленораздельным текстом «обязуюсь… в …дневный срок устроиться на работу… в противном случае… сознаю… что подлежу административной высылке или…») и выходили из отделения милиции на Материалистическую, в красивую украинскую осень, Толмачев сказал мне, взяв меня за рукав:
— Слушай, Сова, есть идея! Пойдём грузчиками к еврею на продбазу, а? Ясно, что мусора с нас не слезут, а на продбазе хотя бы работка непыльная и возле жратвы, а? Пойдём?
— Грузчиками? Ты думаешь, нас возьмут?.. Саню бы Красного или Лёву они бы тотчас взяли, а нас с тобой…— Я хотел сказать ему, что мы с ним мелковаты для грузческой работы, но воздержался.
— Амбалы, как Саня или Лева, потом изойдут через два часа, Сова…— сказал он снисходительно.— Они рыхлые и жирные. Для грузчиков у нас с тобой самая подходящая комплекция. Ты когда-нибудь что-нибудь грузил уже?
— Соседям помогал вселяться, картошку грузил на Чёрном море в Туапсе, но чтобы ежедневно, профессионально, нет…
— Если ты думаешь, что я больше двух месяцев собираюсь рогом упираться, то ты ошибаешься. Надо, чтоб мусора забыли о нас, так что прикинемся грузчиками. Один я не хочу идти, от скуки охуеешь, но если ты пойдешь…
Мы остановились. Тенистая под каштанами, уходила в перспективу низкая, как уютное помещение, улица Материалистическая. Осень была самым лучшим временем года в Харькове. Долгая, красивая, многообразно окрашенная, широколиственная… И в такую осень устраиваться на работу… Мы оба вздохнули. Однако было ясно, что другого выхода нет. На каждого из нас в отделении милиции была заведена пухлая папка. И мы уже перевалили из «трудных подростков» с криминальными тенденциями и с десятком «задержаний», «приводов» и арестов на каждого во взрослую категорию «подозреваемых в ограблении» тех и этих магазинов и «закоренелых антисоциальных элементов»…
— Грузчиками так грузчиками,— сказал я.— Все же лучше, чем сто первый километр и принудительная работа в колхозе…
— Будем пиздить продукты,— сказал он мне в утешение.— Продбаза богатая…
На следующий день мы встретились у Стахановского клуба и отправились, не выспавшиеся, зевая, в отдел кадров учреждения с таким длинным названием, что его хватило бы, если рассечь, на три или даже пять нормальных названий. Учреждение помещалось у самого поворота 24-й марки трамвая на Сталинский проспект, в свежем дворике, в одном из типичных украинских домиков-хаток. Выбеленные извёсткой, снаружи они кажутся хрупкими и временными, но, попадая внутрь, удивляешься их стационарной солидности. Пройдя через целую анфиладу маленьких проходных клеток, в одной, по клавишам чудовищно дряхлой пишущей машинки, трудно ударяла толстыми пальцами секретарша, Толмачев уверенно привёл меня в комнату, половину которой занимала печь. За столом, в меру пошарпанном и в сухих чернильных пятнах, сидел старикан в больших очках и, содрав с опасно торчащей вверх пики розовую квитанцию, вглядывался в неё.
— Здрасьте, Марк Захарыч,— сказал мой друг, остановившись на пороге.
— Ага, Толмачев самый младший пожаловал.— Старикан перевёл взгляд на меня.— А это кто?
— Приятель, Марк Захарыч.
— Приятель, воды податель… Приятель, мячей лягатель,— неожиданно прорифмовал старикан и улыбнулся.— Садитесь.
Стул был один, и Толмачев посадил меня, а сам стал рядом.
— Оформляй нас, Марк Захарыч, меня и Сову, грузчиками…— В голосе моего друга прозвучала тоска по свободе, оставленной нами на углу Сталинского и Ворошиловского проспектов.
— Скорый какой. Оформляй! Медицинский осмотр надо пройти. Тебе отец говорил? Ты или дружок твой свалитесь под мешком, а я за вас отвечать буду.— Старик все время улыбался, что противоречило нашему предполагаемому падению под мешками.— Я понимаю, что вы юноши здоровые, но для порядку. Во всем должен быть порядок. Понятно, Толмачев самый младший?
— Понятно, Марк Захарыч. Ты нас оформи, а медицинский осмотр мы потом пройдём. Нас милиция жмёт. И справки нам дай сегодня, если можешь…
— Что, приспичило, прищучило?..— Старик снял очки и посмотрел на нас без очков, Глаза его, плавающие в центре морщинистых концентрических кругов кожи, были удивительно яркими, синими и совсем не тронутыми возрастом. Кожа, виски, даже лысина, кое-где шелушащаяся, пообносились на старике, но глазам ничего не сделалось от времени, может быть, они даже стали ярче от возраста.— В Сибирь грозятся загнать?— Он произнёс «Сибирь» с сочностью, словно это был базар с фруктами, мясистое вкусное место на боку глобуса-персика, а не места отдалённые, с подъебкой произнёс, с подначиванием. Наши проблемы, очевидно, казались старику смешными.
— Какая Сибирь, что вы, Марк Захарыч.— Толмачев решил почему-то вернуться к обращению на «вы».— До Сибири нужно достукаться…
— Ну, ещё достукаетесь,— убеждённо сказал старикан и стал деловым.— Жалованье вам будет 87 рублей в месяц. Работа, предупреждаю, плохо подходящая к темпераменту молодых людей. Часто будет возникать необходимость поработать и в воскресенье, и после окончания рабочего дня. Так что, если у вас есть девочки, предупредите, что им придётся ходить на танцы одним. Сверхурочные часы оплачиваются по тарифу…— Он вынул из ящика и протянул нам каждому по экземпляру каких-то графиков или таблиц.
Я сунул свою в карман, не читая. Толмачев предупредил меня, что зарплата у грузчика продбазы смехотворная, но что «клиенты» из магазинов, приезжающие на продбазу отовариваться, всегда суют грузчикам и кладовщику «на лапу», дабы отовариться побыстрее и получше. «В любом случае,— сказал Толмачев,— подразумевается, что грузчик — ворюга по натуре своей, все равно будет пиздить, сколько ему ни плати».— Он брезгливо поморщился. Будучи аристократом духа, Толмачев лишь помимо воли своей подчинялся законам подлого мира, где большие люди вынуждены совершать порой и мелкие кражи. Такое же лицо было у него, когда он подсчитывал деньги, уведённые в столовой. (Половину денег он дал тогда мне. На мой удивлённый вопрос: «За что? Я же не участвовал…» — он ответил: «Если бы нас повязали, ты хуй бы доказал мусорам, что ты не участвовал».) Мы подписали несколько бумаг, не читая их, пожали руку Марк Захаровичу и вышли.
— Он с моим батей на фронте в разведке служил,— сказал Толмачев.— Хороший еврей. Правда, не похож совсем? Батя говорит, что с евреями лучше всего работать. Директор продбазы — тоже еврей. Завтра увидишь. Жулик, говорят, каких свет не видел. Но своих рабочих в обиду не даёт.
Назавтра мы уже висели с ним на подножке 23-й марки, хуячащей на всех парах по Сталинскому проспекту в сторону Тракторного посёлка. На наше счастье, продбаза начинала работать в восемь часов утра, на полчаса или даже час позже, чем большинство заводов, расположенных на пути 23-й марки. На подножке, но все же без особой давки путешествовали мы. Бедные заводские работяги за полчаса до нас вынуждены были оспаривать друг у друга даже трамвайную крышу. Мы почти добрались до нужной остановки, весело вися и разговаривая, стараясь на ходу задеть ногою кусты, когда из вагона к нам пробился голос:
— Толмачев! Савенко! Войдите в вагон! В вагоне достаточно места. Что вы висите, как обезьяны!
— Не пошли бы вы на хуй, Иосиф Виссарионович,— весело отозвался Толмачев.— Раньше нужно было учить нас жить, теперь уже поздно.
По близорукости я не рассмотрел лица обладателя очень знакомого начальственного голоса.
— Это он, Толь, директор?
— Ну да, он, пидарас, кто еще…
Трамвай остановился, и бывший наш директор школы Игнатьев сошёл наземь. Он был прозван школьниками восьмой средней «Иосифом Виссарионовичем» за привычку каждого первого сентября открывать учебный год церемонией, во время которой держал на руках избранную первоклассницу. Обычно дочь самого достойного родителя сезона — начальника цеха, парторга, полковника, или зав. магазином. Как Сталин. Бант на школьнице, цветы… Все как надо. Он не изменился. Тот же начальственный тёмный костюм, галстук, в меру — длинные седые волосы. Такие ходят в мэрах и сенаторах во Франции.
— Я думал, вы давно гниёте в тюрьме, бандиты,— сказал он приветливо. Или же он не расслышал вежливое послание его на хуй Толмачевым, или ничего иного от нас и не ожидал.
— Ладно, ладно,— пробормотал Толмачев.— Идите себе… Мы на работу едем.
— На работу!— Большая физиономия директора изобразила было удивление, но тотчас приняла насмешливое выражение.— Врёте, бандиты. В это время все заводы уже полным ходом дают продукцию.
— Мы не на завод, но на продбазу устроились,— сказал я.
— Бедная продбаза.— Директор взялся за голову.— Бедные жители Харькова. Не видать им продуктов. Все ведь разворуете…— И директор стал смеяться. Стоял и хохотал.
— Вот мы возьмём сейчас вас и отпиздим,— нерешительно начал Толмачев и посмотрел на меня.— Будете знать.
Честно говоря, многолетняя привычка, не уважая директора, подчиняться ему, возымела верх над нашими чувствами, и мы молча вскочили на подножку тронувшегося трамвая.
— Сгниёте в тюрьме!— закричал директор весело вслед трамваю. Перестал хохотать и, поправив галстук, пошёл по своим делам. Только тогда расхохотались и мы с Толмачевым.
Продовольственная база, общая сразу для трёх районов города, оказалась расположенной в центре обширного поля, обнесённого каменным забором с колючей проволокой поверх его. Башня системы охлаждения приветливо истекала водой со всех этажей; вокруг железнодорожных путей, прорезающих территорию, росли дикие травы высотой по пояс взрослого человека, а кое-где и в полный рост с головой; цвели дикие цветы; и жужжали пчелы и трутни, насекомые, от голубых до зелёных, стрекозы. Короче говоря, когда мы шагали к строениям продбазы через все это гудение и жужжание, мы были довольны. Я уже проработал осень и зиму прошлого года монтажником-высотником, в ледяной грязи строил далеко за городом цех нового завода, я понимал разницу.
— Благодать,— сказал Толмачев.— Видишь, вагоны стоят пломбированные… Это все продукты. Селёдка, мясо… Такой один вагон увести — сотни тысяч рублей, наверное…
— Но как?— пробормотал я.
— То-то и оно,— согласился Толмачев.— Именно — как…
— Если вы со мной сработаетесь,— сказал директор, энергично промокнув пресс-папье какую-то бумагу, и встал,— вам будет хорошо. Нет — вылетите отсюда, как уже многие вылетели. Штат у нас небольшой: два кладовщика, шесть грузчиков.— Директор был моего роста, но массивен и грузен в туловище, как дикий кабан. Только что шерсть не торчала по позвоночнику сквозь жёлто-серого цвета рубашку его из искусственного шелка. Но короткий рукав обнажал серо-жёлтую шерсть кабаньих рук. Нос директора был перебит.— Запомните: если вам что нужно — идите ко мне, спросите. Не тащите все, как дикари. Хорошо? Со мной можно договориться. Повторяю: будете хорошо работать — я вас обеспечу. И семьи ваши будут в полном порядке. Пойдёмте, я познакомлю вас с персоналом.
Мы обошли базу по периметру и вышли на эстакаду. К ней были причалены задними бортами несколько грузовиков. Над ящиками и у весов возились с десяток человек. Из выпучившихся вдруг обеими половинками дверей вырвалось облако пара и выкатилась телега с замороженными тушами, толкаемая здоровяком в белом халате поверх ватной одежды. Мы с Толмачевым переглянулись.
— Вы в морозильнике работать не будете,— объяснил директор-кабан.— Будете под начальством Ерофеева, он заведует сухими складами: крупы, мука, вино, сухие колбасы и прочее…
Уже через четверть часа мы сопровождали кладовщика Ерофеева в высоком помещении сухого склада, и он, указывая на тот или иной штабель продуктов, говорил: «Два риса, ребятки». На мешках с рисом были выштампованы тусклые иероглифы, и, глядя на них, мне захотелось путешествовать.
Два других штатных сухих грузчика продбазы появились лишь к концу рабочего дня. Приехали в металлическом фургоне, лишь щель была оставлена им для прохода воздуха внутрь. Шофёр открыл их, и, вытирая пот, они сошли на эстакаду. Грузчики оказались вопиюще не похожи на грузчиков. Младшего звали Денис, он был прямо-таки малюткой, на целую голову ниже меня. Кожа да кости, облачённые в сиреневую майку и черт знает какого происхождения синие штаны. Второй тип был жилистый старик в чёрном комбинезоне. Голова была забинтована, и сквозь бинт на лбу угадывалась ссохшаяся кровь.
Приблизительно комбинезон можно было угадать как форму авиационного механика, но, может, это была форма подводника. Старика звали Тимофей. Оба штатных сухих грузчика были подозрительно веселы. Мы познакомились.
— Денис у вас будет вроде бригадира,— сказал кладовщик и снял очки.— Слушайтесь его после меня. Учиться вам особенно нечему, но он вам постепенно покажет, как что удобнее брать, и, главное, старайтесь запомнить, где что находится в складах.
Мы с Толмачевым насмешливо переглянулись. Однако руки у нас были в ссадинах и я успел приземлить один из ящиков себе на большой палец ноги. Штатные же, если не считать алкогольных по-видимому, потных физиономий, были свежи и веселы. Может быть, Ерофеев прав и следует знать, что как захватывать. Съёмка бочки с селёдкой с верхнего ряда бочек заняла у нас массу времени. Ерофеев, чертыхаясь, помог нам и сказал, что у Дениса операция занимает пару минут.
— Ты понял…— сказал мне Толмачев, когда мы шли к трамваю, опускалось за Тракторный далёкий посёлок большое солнце.— У них тут своя банда. Директор ворует по крупному, кладовщики — на своём уровне, а грузчики — ещё мельче… Много ли таким, как эти два, нужно… Круг колбасы, бутылка водки…— Он оглянулся и, никого за нами не увидев, извлёк из только что выданного рабочего халата (вёз его домой, чтоб мать ушила) бутылку вина, а из-за пазухи… круг сухой колбасы.
— Когда ты успел?— Я был искренне поражён, потому что за весь день мы разлучились лишь несколько раз на пару минут, когда я или он отходили отлить в продбазовские заросли.
— Бутылку я затырил, когда мы уксус толстому жлобу возили, а колбасу уже из ящика у клиента в машине выломал.
Он задержался, вспомнил я, во внутренностях грузовика, спиной к стоявшему на эстакаде завмагазином, поправлял неудачно ставшие друг на друга ящики. За эту минуту или полторы он, оказывается, успел отпороть доску на ящике и изъять колбасу. Чем он отпорол доску?
Он понял ход моих мыслей и, вынув из кармана нож, раскрыл его одним крылатым движением. «Так-то, Сова,— сказал он.— Идём сядем где-нибудь, отметим первый рабочий день». Мы прошли вдоль трамвайной линии и уселись в дикой траве у забора неизвестного завода. Расположенные на той же линии, что и наша продбаза, заборы многочисленных заводов тянулись на многие километры. Параллельно им по другую сторону трамвайной линии тянулись жилые кварталы. Простая планировка социалистического общества. Здесь вы работаете, товарищи, а здесь живёте. Чтоб не заблудились, трамвайная линия будет служить вам границей…
Белое «столовое» вино было тёплым и слабым, колбаса — жирной, но было хорошо.
— Все, что спиздишь или найдёшь, всегда приносит больше удовольствия, чем купленное на заработанные деньги, правда, Сова?— сказал он задумчиво. И сбил щелчком пчелу с ядовито-красного цветка.— Почему так?
Я пожал плечами.
— Может быть, есть какая-нибудь работа, которая и деньги приносит, и удовольствие даёт?— предположил неуверенно.
— Вором быть — тоже работа,— сказал он.— Есть большие тонкачи по части сейфов, например. Они с сейфом как доктор с больным работают, знаешь, приложив ухо к груди… Только у меня никогда не было слесарных способностей. Вот Баня, тонкач…— Вспомнив о подельнике, он улыбнулся.— Баня, если нужно, пулемёт выточит по деталям.— При упоминании о пулемёте мы оба вздохнули.
Не знаю, что было у него в голове в ту эпоху, у меня в голове была каша, состоящая из моделей «настоящих мужчин», набранных откуда только возможно, и множества оружия. Вместе с бандитом по кличке Седой — он только что вышел после гигантского срока — и его молодёжной версией Юркой Бембелем там были Жюльен Сорель (!), три мушкетёра, бородатые кубинцы во главе с Фиделем Кастро…
На третий день нам удалось украсть мешок с сахаром. Восемьдесят кило сахара. Сахарный склад находился не на территории продбазы, но в том дворе, где помещался отдел кадров треста. (Мы забежали сказать «здравствуйте» Марк Захаровичу.) Воспользовавшись моментом, когда клиент подписывал на капоте автомобиля квитанцию, мы перебросили только что погруженный последний мешок через забор, и он приземлился в кустах соседнего двора, где дед Тимофей его уже поджидал. Хромой экспедитор, выехавший с нами «на сахар», вежливо отвернулся. Украденное у клиентов его не касалось. Мы тотчас же продали мешок в Салтовский магазин за полцены. Нам даже не пришлось тащить его дальше ворот соседнего с трестом двора. Салтовский грузовик, выехав из ворот треста, затормозил, и их грузчики, соскочив, подобрали мешок.
На пятый день прибыли вагоны с вином. Один медленно пришвартовался у эстакады, закрыв от нас солнце, другие два замерли в отдалении. Директор в соломенной шляпе и пиджаке, в красивых туфлях, вышел к нам и сказал:
— Орлы! Работа срочная. Три вагона вина из Молдавии. Нужно разгрузить все это сегодня. Оставлять вино на ночь вне склада я не могу. Помимо сверхурочных, ставлю ящик вина. Идёт, орлы?
Мы пошушукались. Выйдя вперёд, Денис сказал:
— Два ящика вина. Три вагона на четверых грузчиков — проебемся до утра, Лев Иосифович.
— Хорошо, два ящика,— сказал директор.— Я вытребовал персонал из треста, чтоб присматривали за территорией. Но вы начинайте без них.
Мы начали. Как из-под земли появились вдруг непонятные типы и засели в выжидательных позах. На корточках или столбами вокруг вагона, некоторые чуть поодаль в поле. Мы работали, а они нас молча обозревали. Подкатывая в очередной раз тележку к дверям вагона, я заметил в щели между вагоном и эстакадой кудрявую голову.
— Что за люди, откуда их хуй принёс,— спросил я у Дениса.
— Местные ханыги. Всегда, как приходит состав с вином, повторяется та же история. Собираются вокруг и ждут. Чуть зазеваешься — прыгают, суки, в вагон и волокут все, что могут схватить. Потому директор и вызывает народ из треста: бухгалтерш, секретарш, чтоб стерегли, пока мы крутимся…
— Беспорядок,— сказал Толмачев.— Куда только мусора смотрят.
— А что мусора могут сделать?— Денис закатал рукава сиреневой футболки. Он, я уже успел заметить, делал это всякий раз, когда предстояла серьёзная работа.— Он схватит пару бутылок и бежит с ними в поле или туда вон, к подземным складам… Пока ты за ним рванёшь, другие на вагон набросятся… И если ты его поймаешь, что ты ему сделаешь? Ну, дашь в морду… задерживать же из-за бутылки вина не станешь… Заебешься задерживать. Да и мусора не приедут по пустяку — продбазе свои сторожа полагаются.
— Где ж они?— Толмачев отёр пот со лба и сдёрнул тележку с места. Бутылки зазвенели.— Сторожа хуевы!
— Осторожней со стеклотарой,— посоветовал дед Тимофей.— Сторожа ночью дежурят. Штат у базы маленький.
Солнце закатилось, и внезапно охлаждённые после жаркого сентябрьского дня растения пронзительно запахли, каждое на свой лад. Ещё десяток лет назад тут было прекрасное украинское Дикое Поле. В сущности, Диким полем территория и осталась, только что озаборили её, воздвигли подземные склады для тушёнки на случай атомной войны, морозильные отделения, холодильную башню с водопадами. И вновь заросло все полем, диким, как триста лет назад.
Часам к одиннадцати мы с честью разгрузили последний вагон и, заметно осунувшиеся и мокрые от пота, устроились с полученной добычей — двумя ящиками вина — в травах за сухим складом. Выдав нам колбасы и сыру, кладовщик ушёл, обязав явившегося ночного сторожа выгнать нас с территории после полуночи. Мы пригласили сторожа, и он, желая нам услужить, смотался через трамвайную линию в поздний магазин за булками. В левом углу неба висел акварельный слабый месяц.
— Хорошо,— сказал Денис, когда мы выпили по паре стаканов и утолили первый голод.— Жить хорошо, правда, ребята… Иногда так хорошо жить, что жил бы целую вечность, всегда то есть.— И он лёг на спину.
— Ну и живи, кто тебе не даёт.— Толмачев закурил и любопытно поглядел на старшего грузчика-малютку. Маленький человек поднял нас в атаку на три молдавских вагона, как политрук, личным примером. Мы носились как дьяволы. Как матросы во время аврала.— Однако, если так будешь вкалывать, долго не проживешь…
— Разве это «вкалывать»! Вот когда селёдка приходит…
— Прав Дениска,— крякнул дед.— Селёдка, она, проклятая, все жилы вытягивает. Не приведи Господь. Сегодня, оно нормально ухайдокались. Я ещё бабу пойду ебать.— Дед засмеялся и снял с головы черкую кепчонку с пуговицей в центре и бережно опустил кепчонку в траву.
— Сколько тебе лет, а дед Тимофей?— Толмачев, следуя примеру Дениса, прилёг и оперся локтем о землю.
— Да уж шестьдесят с гаком, милый человек…
— Так много! Я думал под пятьдесят…— Толмачев уважительно покачал головой.— Во, Сова, люди старого закала какие злоебучие. Пятнадцать часов подряд тягал ящики, сейчас выпьет пару бутылок вина и ещё бабу ебать пойдет… Дай Бог, чтоб мы в его возрасте жопу поднять могли.
— Так вы, значит, и революцию помните, и гражданскую войну?— спросил я.
— Очень даже хорошо,— согласился Тимофей.— Лучше, чем вторую войну с немцем. Я в Екатеринославле в гражданскую жил.
— А батьку Махна вы случайно не видели?— спросил Толмачев.
— Не только видел, мил человек, но и в армии его сподобился служить.— Дед хитро улыбнулся и посмотрел на нас.
— Ты, значит, старый, у Махна в банде был!— воскликнул Денис.— Что ж ты мне никогда об этом не рассказывал?!
— А ты меня не спрашивал, мил человек. А я не в банде служил, но в армии. У Махна республика была и армия, чтоб республику ту защищать…
— Как же это тебя к Махну занесло?— спросил сторож. По роже судя, он был из чучмеков, но трудно было определить, к какому племени черножопых он принадлежит.
— Когда Махно занял Екатеринославль, я видел въезд в город его гвардии. Стоял на улице, а они, по пять лошадей колонной, въезжали. Здоровые хлопцы, красномордые от самогона и сала, все в синих жупанах, на сытых конях, чубы из-под папах на глаза падают, шашки по бокам бьют, жупаны на груди трещат. Пять тыщ личной гвардии, а за ними тачанки: парни к пулемётам прилипли, ездовой стоит… Потом пехота, отряды матросов-анархистов. Чёрные знамена… Я никогда такой красивой армии не видел.
— У немца была красивая армия,— сказал сторож.
— Машина,— поморщился Тимофей.— Шлемы с шишаками, ать-два… Если ты любишь на механизмы смотреть, может быть… У Махна же хлопцы были красивые. Серебра много, оружие личное все украшенное, тогда это любили…
— А как же ты сам-то к Махну попал?— Толмачев повёл глазами так, что мне стало ясно: махновская армия понравилась моему другу.
— Красотою соблазнился. Пошёл к ним в штаб записываться.— Дед стеснительно провёл рукою по горлу. Шея у него была белая по сравнению с физиономией.— Посадили меня за стол, писарь штабной мне вопросы задаёт и ответы мои записывает… Вдруг сзади надо мной как шарахнет. Я вскочил — бомба, думаю, разорвалась. Уши мне заложило. Стоит хлопец с обрезом в руках и хохочет. Я ругаться стал. Штабные смеются все, а писарь говорит: «Это у нас испытание такое, мил человек, не обижайся. Храбрость проверяем. Ты вот ругаться стал, годишься ты нам. Нормальная у тебя реакция».
Мы все восхищённо расхохотались. Стало ещё темнее, должно быть от туч. Лишь от угла склада нас освещал фонарь, да месяц нечёткий и расплывчатый держался ещё в углу неба.
— Только вы не очень пиздите, ребята,— сказал дед.— Кладовщикам там или директору не нужно знать, что я у Махна служил…
— За кого ты нас принимаешь, дед?— сказал Толмачев, впрочем, без обиды в голосе.
Первая пуля попала в меня,
А вторая пуля в моего коня…
Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить,
С нашим атаманом не приходится тужить…
— пропел он.
— Тогда другое пели,— сказал дед.— Это после Гражданской уже еврей один сочинил для кинофильма, это не махновская песня.
— А что пели?
— Народные пели песни… Хэ, я вам сейчас исполню одну. Её моя жинка любила. Под шарманку исполнялась. Очень страстная песня.— Дед покашлял и затянул тонким, монотонным речитативом с хрипловатыми окончаниями:
Наша жизнь хороша лишь снаружи,
Но суровые тайны кулис
Много в жизни обиженных хуже
И актёров, и также актрис…
Вот страданья и жизнь Коломбины
Вам со сцены расскажут о том,
Как смеются над нами мужчины
И как сердце пылает огнем…
Восемнадцати лет Коломбина…
Дед остановился, пошевелил губами.
— Забыл дальше, надо же… Полюбила она Арлекина?.. Нет, забыл. Вот она, старость не радость. По-разному ударяет. Кому в ноги, кому в память…
Мы засмеялись и зашевелились.
— Это не из кукольного ли спектакля песня?— спросил я.— Такие, говорят, на базарах исполняли. Я на Благовещенском рынке один раз видел. Последний такой театр, говорят, остался.
— Да,— подтвердил дед отвлечённо.— На базарах…
— А что, дед Тимофей, в конную атаку ты ходил?— спросил Толмачев.
— Не раз,— сказал дед просто.
— Страшно, наверно, когда на тебя с бритвами наголо несётся другая армия, завывая. И бритвы в метр длиной. Я как о шашке подумаю только, у меня уж мороз по коже идёт. Иные здоровяки, говорят, Котовский например, до седла умел разрубать человека.— Толмачев подтянул колени и обхватил их руками. Может быть, спрятал конечности от невидимой шашки.
— Страшно, когда знаешь, что большая атака будет, и к ней готовишься. Переживаешь до начала, потом уж некогда. А когда стычки мелкие, так и перепугаться не успеваешь. Весь занят тем, чтоб от смерти отклониться и смерть нанести…
Все помолчали.
— Калек, говорят, было после Гражданской куда больше, чем после Отечественной. Безруких много, увечных…
— Верно все.— Тимофей вздохнул.— Однако шашка — оружие честное. Пуля — трусливей, граната ещё трусливей, а уж атомная бомба — самая трусливая. Её трусы придумали. Американец с японцем воевать боялся, японец духом сильнее американца, вот они и придумали бомбу эту их… И наши туда же… Негоже это… Ну, я пойду, мне бабу нужно ебать, обязанность выполнять. Я с молодухой живу…— Дед встал.
— Я с тобой. Мне мою тоже нужно отодрать,— Денис вскочил. Взяв каждый свою порцию премиальных бутылок, они удалились, слегка пошатываясь, во тьму. Мы с Толмачевым пошли спать на сухие доски за складами. Сторож вынес нам фуфайку и старое одеяло. Поворочавшись, мы затихли.
— Сова,— окликнул меня Толмачев из темноты,— ты пошёл бы в конную атаку? Слабо нам, сегодняшним, как ты думаешь?
Я подумал о шашке, о лезвии длиною в метр. Нашёл ответ:
— Если так вот, сразу, поднять меня с досок, дать в руки шашку — и вали, мол, в атаку, я бы не пошёл. Уметь надо. Их лозу учили рубить вначале. Я в «Тихом Доне» читал.
— А я бы сразу пошёл,— сказал он.— Хоть сейчас. Махно бы меня за плечо тронул: «Пошли, Толмачев!» — и я бы пошёл.
В начале октября он заявил директору, что ему срочно нужно съездить на два дня в деревню к умирающему дедушке. Я точно знал, что дедушек у Толмачева не сохранилось. Директор поупрямился, но отпустил его. Мне Толмачев не счёл нужным ничего объяснять, ну я и не спросил. Мы старались быть немногословными мужчинами.
В первый день его отсутствия прибыли вагоны с селёдкой — самая страшная работа для грузчика, если верить профессионалам, Денису и махновцу. Однако они глядели на вагон и улыбались. Потом подошли и потрогали вагон. Дед даже поддел ногтем старую розовую краску на боку вагона, отколупал сухую чешуйку и задумчиво, учёным, поглядел на неё. Появился сердитый, яростно махая шляпой, зажатой в руке, директор.
— Вы заснули, да, ребята?— пролаял он.— Приступайте, вы что, боитесь его… Денис?
— Да, Лев Иосифыч,— согласился Денис,— страшноват зверюга. Но я проснулся. Иду за покрышками…— И он скрылся в складе.
— Как на бронепоезд с шашками,— уныло заметил дед.
Нам дали в помощь двух холодильных грузчиков и неизвестно откуда выцарапанного директором тёмного, чуть сгорбившегося большого мужика лет пятидесяти — «турка». Директор вывел его на эстакаду и чуть подтолкнул в спину. «Вот вам ещё рабочая сила,— сказал директор.— Мухамед… Чтоб к вечеру закончили. Ящик вина!»
Удивительно, но никто не стал торговаться. Кладовщик открыл замок на вагоне, и мы с дедом разнесли в стороны двери. Под самый потолок, тремя ровными рядами возлежали ржавые бочки. Очень тяжёлые даже на вид. Мне показалось, что вытащить и одну — невозможная задача.
— Как они их закатили туда, на третий-то ряд?— спросил я деда.
— Профессионалы хуевы,— сказал дед угрюмо.
— А может, они с крыши, как в трюм корабля, грузили?
— Может… Нам-то от этого не легче. У нас кранов нет. Руками придётся.— И дед пошёл почему-то за склад.
Я подумал, что он пошёл отлить, но дед вернулся, нагруженный досками. Кряхтя, свалил их со спины. Денис выкатил на нас из склада несколько старых автомобильных покрышек. Одна была чуть ли не в рост Дениса диаметром.
— Это от какого же автомобиля?— спросил я.
— Минск,— пробормотал один из холодильных грузчиков. Все стояли и пассивно наблюдали за Денисом и махновцем.
— Главное — первую, ребята, вытащить. А там пойдёт как по маслу,— заявил маленький человек, наладив сложные связи между покрышками и досками.— Иди, пацан, сюда,— обратился он ко мне. Он разместил наш коллектив, как и покрышки и доски.
Мы извлекли первую бочку из-под потолка, сантиметр за сантиметром выталкивая её двумя ломами себе на головы. «Иди сюда, маленькая, иди, не бойся…» — приговаривал Денис, и «маленькая», ржавая обручами, склизкая и вонючая, наконец свалилась на нас шестерых. И мы сумели удержать её. Кряхтя и ругаясь, в двенадцать рук мы вынесли её и положили на эстакаду. Все повеселели. На место бочки влез Денис, сложившийся в обезьянку, и они ещё раз осмотрели доски и покрышки.
— Леван'и «Минск», дед Тимофей!— крикнул он. Дед проворно подвинул покрышку.
Система оказалась простой. Бочка осторожно ронялась с третьего ряда на покрышку, лежавшую на досках, втиснутых между первым и вторым рядом, подпрыгивала и резво катилась под уклон на эстакаду. Там, где доски кончались, она ударялась о массивную покрышку минского самосвала и замирала на ней, и её выкатывали и убирали с глаз долой в склад холодильные бугаи, или… подскочив на покрышке, она выскакивала на эстакаду сама и катилась куда глаза глядят, с большей или меньшей скоростью. Весь фокус состоял в том, чтобы сообщить бочке нужную скорость и нужное направление, дабы она не раскололась вдребезги при неудачном падении, как спелый арбуз, вывалившийся из рук пьяного на мостовую…
Победоносные, мы настолько устали к вечеру, что не стали пить премиальное вино. На следующий день, к моему ужасу, меня с Мухамедом заставили наводить порядок в складе: следовало освободить место для ожидающихся на следующей неделе ещё двух вагонов селёдки: нужно было закатить третий ряд бочек. Мне все это очень не понравилось. В перерыве я выпил с холодильными грузчиками бутылку вина (Мухамед отказался) и пожаловался им на тяжёлую работу.
— Лёва жмот и сука,— сказали они лениво.— Вдвоём такую работу не выполняют. Нужны минимум трое. Один катит бочку в центре, а двое с боков. Нашёл дураков — пацана и турка. Мы бы его на хуй послали…— Бугаи были за своим кладовщиком Самсоновым как за каменной стеной и как бы служили в отдельной организации. Самсонов «одалживал» директору своих грузчиков лишь в исключительных случаях. Из их холодильного отделения почти каждый день несло жареным мясом: Самсонов и грузчики готовили себе обеды.— Ты потише, пацан, не надрывайся. Денег все равно больше не заплатят,— посоветовали они на прощание и стали напяливать фуфайки.
Я сообщил турку, что отныне мы будем работать потише. Он так плохо понимал русский, что понял меня только после нескольких минут объяснений. Я влез наверх, на бочки, и не торопясь возился там, подготовлял территорию для тихой работы. Турок же, не зная что делать, слушаясь моего приказа, стал возиться внизу. Глядя на него сверху, я понял, что турок не умеет сачковать, как тогда говорили, у турка руки чесались, и он стеснительно топтался с доской в руках, бедняга. Разговаривать с турком было невозможно, и я себе насвистывал, размышляя о взятии турками Константинополя в 1453 году и о том, откуда вообще взялись турки, вспомнил, что читал о том, как клан Османов из Большой Азии бежал от монголов в Малую Азию… Я ведь был юношей, упивавшимся историей. Я покупал себе за рубль сорок три копейки какие-нибудь «Крестовые походы», как сладкоежки покупают килограмм шоколадных конфет, и мусолил книгу, копаясь в комментариях, пока не выучивал издание наизусть… Добравшись мысленно до Сулеймана Великолепного, я услышал визг…
— Ты считаешь, что мы тебе за твои турецкие глаза должны деньги платить! Я тебя взял на временную работу по просьбе твоей жены, несмотря на то, что у нас штат укомплектован! Дармоед! Я за вами двумя четверть часа наблюдаю, вы ни за одну бочку не взялись… Дрянь!— Директор Лева снял шляпу и хлестал ею, соломенной, закрывшегося от хлестания турка по выставленным рукам. И турок, представитель нации, завоевавшей Константинополь, уважаемой мною свирепой, мужественной нации, позволял, чтоб его хлестали шляпой!
— Это я виноват, Лев Иосифович! Что вы на него, безответного, набросились. Он даже и не понимает, что вы ему кричите. Я ему сказал, чтоб он полегче поворачивался. Вы нам работу дали тяжёлую, для такой трое или четверо требуются.
— Я здесь начальник, я!— проревел он, задрав на меня физиономию. Судя по ней, он был очень зол. Я уверен, что не мы были первоначальной причиной его злобы, но мы подвернулись ему, уже кипящему, под злую горячую руку.— Ты, щенок, здесь у меня не командуй. Спускайтесь и катайте живо бочки!
Правильно утверждает марксистская философия: важную роль в жизни человека играет среда. Я был воспитан на улицах Салтовского посёлка с возраста семи лет, а директор — нет. Он меня не понимал. Он был мой начальник, но я не был рабом — рабочим, обременённым семьёй и детьми, держащимся за своё место. В моей жизни самое важное место занимала моя честь. Я помнил о своей чести днём и ночью и только и думал о возможности защитить свою честь.
— Идите вы на хуй, Лев Иосифович, козел!— сказал я и поднял тяжёлую «семерку», брус, которым, как рычагом, мы двигали бочки.
— Ах ты щенок! Да я тебя с говном смешаю!— закричал он и, сжав кулаки, ринулся по доскам вверх ко мне. Дикий кабан, если бы он добрался до меня, он избил бы меня, как пить дать.
Подражая отсутствующему Толмачеву, я сплюнул и легонько двинул «семеркой», как тараном, в директора. Брус угодил ему в шею под ухом, свалив его. Упав на первом ряду бочек, он беспомощно барахтался.
— Бандит… Я тебя уничтожу…— бормотал он, очевидно ошеломлённый лёгкостью, с какой я сбил его с ног.— Я уничтожу тебя…— повторял он, вставая, но ко мне наверх ке полез. Поднял шляпу и заставил себя посмотреть на меня.— Вон! Убирайся вон сию же минуту. Ты больше у меня не работаешь… Тебе место в тюрьме…— Крови на нем не было видно. Напялив шляпу, он вышел.
— Ебал я твою работу!— крикнул я ему вслед.— Была бы шея — хомут всегда найдётся.— Я снял рукавицы и, спрыгнув с бочек, содрал с себя халат. Сбросил его на бочки. Турок схватил меня за руку и пожал её. У него были чёрные грустные глаза отца семейства, оседлого бедняги, у которого куча детей, и из-за них он не может позволить себе роскоши быть свободным. С его ростом и широкими, пусть и сгорбленными плечами он мог убить директора… и меня заодно, столкнув нас лбами. Он меня явно благодарил. За что, подумал я, ведь это я втравил его в историю, обязав работать тише. Вошёл кладовщик Ерофеев.
— Что тут у вас произошло, хлопцы? Ты что, малолетний бандит, напал на директора?— Глаза Ерофеева, увеличенные очками глаза старого пройдохи, смеялись. Было такое впечатление, что кладовщику весело оттого, что я напал на директора.
— Он сам на меня попёр,— сказал я.— До свиданья.
— Э, нет, друг,— сказал Ерофеев ласково.— У нас тут не проходной двор. Пришёл, ушел… Пиши заявление, как полагается. В твоих же интересах. Двенадцать дней отработаешь и получишь увольнение по собственному желанию. И расчётные деньги. Если сейчас уйдёшь — ничего не получишь.
— Я считал, что эксплуатация человека человеком в нашей стране давно уничтожена. Не хочу я его рожу кабанью видеть, Василь Сергеич…
— Не увидишь,— сказал Ерофеев.— Я тебя на кубинский сахар пошлю. Мы склад у Турбинного завода ликвидируем. Сыро там… Твой напарник завтра возвращается? Вот и будете вместе потихоньку копаться… Там как раз на пару недель работы.
Они мне так уже успели надоесть с их бочками и ящиками и мешками, что я готов был исчезнуть тотчас, плюнув на заработанные деньги, но, вспомнив о милиции, о нужном мне штампе в трудовой книжке, согласился.
— Сахар, еби вашу мать, сахарок…— Толмачев зло глядел на экспедитора дядю Лёшу.— Пиздец спине ваш сахар называется. Ну, Сову, я понимаю, в наказание, а меня за что?
Хромой очкастый дядя Лёша был прикреплён к нам надзирателем. Помощи от него ожидать не приходилось. А помощь была нужна. Мешки были восьмидесятикилограммовые, и крутая цементная лестница вела из обширного глубокого подвала на свет божий. Какой мудак придумал сгрузить сахар в цементный подвал?
— Ладно, молодые, здоровые, я в вашем возрасте горы сворачивал.
— Результат налицо. Посмотри на себя в зеркало,— зло сострил Толмачев. Он вернулся «от дедушки» злой. Или дедушка умер, или бабушка заразилась от дедушки и тоже слегла. Он мне не сказал. Появился он после перерыва. Он естественным образом явился утром на продбазу, а уж оттуда его направили «на сахар», в ссылку.
Пыхтя, обливаясь потом и хрустя костями, мы снесли каждый по мешку вверх. Толмачев оказался не прав, не спина трещала, но к последним ступеням подламывались ноги. Скучал, сидя на тротуаре на пустой улице, шофёр грузовика. Наши страдания его не касались. Его дело было провести грузовик через Харьков, где другие грузчики свалят мешки в другой склад. Мы с Толмачевым завидовали этим грузчикам. Я весил шестьдесят килограммов, то есть на двадцать кило меньше мешка, а Толмачев, я предполагаю, не больше 58 кг. В углах мешки были твёрдые, сахар впитал сырой воздух и затвердел.
— Мать её перемать, эту Кубу с её сахаром!— ругался Толмачев, спускаясь в подвал.— На хуя столько сахара, а, Сова? Представь себе, даже один такой мешок сожрать — и то надо сколько чаю выпить…
— Варенья люди варят, опять же есть типы, которые по пять ложек в чашку кладут.
— Я без тебя, Сова, на продбазе не останусь,— сказал он мне в конце рабочего дня.— Рогом-упираловка становится все тяжелее, ебал я это удовольствие… Вначале помнишь, как было хорошо ведь, а? На колбасную фабрику ездили, на конфетную…
Возвращаясь с конфетной фабрики мы, сидя в кузове (запертые, только щель для воздуха была оставлена), взломали все ящики и набили конфетами рукавицы. Экспедитор сидел в кабине с шофёром. Пока шофёр открывал ворота базы, мы ловко вышвырнули рукавицы с конфетами в придорожный бурьян. В конце дня собрали урожай. Много килограммов конфет. С колбасной фабрики мы украли 25 килограммов колбасы, применив классический трюк. С помощью шофёра прикрепили в разных местах машины двадцать пять килограммов кирпичей и, въехав на фабрику, сняли их и оставили во дворе. Взвешивали ведь машину — до и после загрузки.
— Да,— согласился я,— и даже мешок не уведёшь, четвероглазый над душой стоит.
— Пойдём, Сова, пожрём в столовую,— предложил он грустно.— Бутылку купим. Я угощаю.
— Разбогател?
— Немного…— Он вздохнул.
За ним пришли на третий день. Он услышал шаги многих ног на лестнице и, догадавшись, спрятался в дальнее ответвление подвала за мешки. Два дюжих амбала в гражданском спустились тяжело по ступеням вниз, штаны и тяжёлые пыльные туфли появились вначале, затем полы плащей… и, наконец, физиономии. Грубые и неприличные, как сырое мясо, рожи. Подошли вплотную. Руки в карманах. Я сидел, свесив ноги на мешках.
— Савенко? Где Толмачев?» — сказал один из двух.
— Не знаю,— сказал я.— А что случилось?
— А не твоё собачье дело…— бросил тот, который порозовее и поводянистее.— Отвечай на вопрос.
— Я же ответил уже — не знаю.
— На продбазе нам сказали, что мы можем найти его здесь.
Я подумал, что наверху стоит дядя Лёша и они уже спросили его и инвалид наверняка раскололся. Да и чего бы ему не расколоться. Ну, если не он, то шофёр сказал, что Толмачев внизу, в подвале. Второй выход из склада существует, да, но им никто никогда не пользовался. Закрыт наглухо. Однако вопреки здравому смыслу я сказал:
— Не пришёл он сегодня. Может, заболел…
— Это ты сейчас заболеешь,— сказал водянистый и вдруг вынул из кармана руку с пистолетом.
— Эй, эй, вы чего? Не знаю я, где он, не видел я его!
— Вот говнюк…— сказал который потемнее, обращаясь не ко мне, но к водянистому, и вдруг всей тяжестью зарыл кулак в мой тощий живот.
— Блядь, мусор…— простонал я, складываясь. Я знал, что, когда ругаешься, становится легче. До этого меня не раз били в милициях.
— Тут я,— сказал Толмачев и вышел из-за мешков.— Отъебитесь от него.
— Вот. Хороший парень,— одобрил водянистый.— Пошли наверх. Дело есть.
— Заберёшь мой халат, а, Сова?— попросил Толмачев.
— Заберёт,— сказал тот, что потемнее.— Получишь свой халат через пять лет.— И они увели моего друга.
Мусор ошибся на два года в обе стороны. Толмачев получил много — семь лет за неудачное ограбление сберкассы, но вышел по амнистии (первая судимость) через три года. Тогда-то он и встретил меня, идущего с авоськой на ночную смену. И засвистел… Дешёвками назывались легкодоступные девочки, подружки воров, у них был свой странный кодекс чести. Стать прачкой? Никогда. «Вора ты не заставишь спину гнуть…» В лагерях воры не вылазили из карцеров, харкали кровью, но работать отказывались. А я? Через несколько дней я отдал начальнику цеха заявление на расчёт. Не только по причине его свиста и диких, влюблённых зрачков цыганки Насти, направленных, закатившихся вверх к нему, но и из-за этого тоже.
Я в том же году выбрался с Салтовки, и мы потерялись. Знаю только, что он сел опять, уже с цыганами. За «мокрое» дело. Вот я думаю… не встреть я его тогда на трамвайной остановке, может быть, я так и работал бы на том же заводе. И жизнь моя была бы другой. Никогда не увидел бы я мировых столиц… Как знать. Область чувств и соседствующая с нею область поступков соединены запутанными немаркированными нервами. А нервов этих, паутинок, многие сотни. Иногда достаточно бывает просвистеть сильную мелодию, чтобы порвались какие-то…