Джо сидел в тюрьме за «драгс»
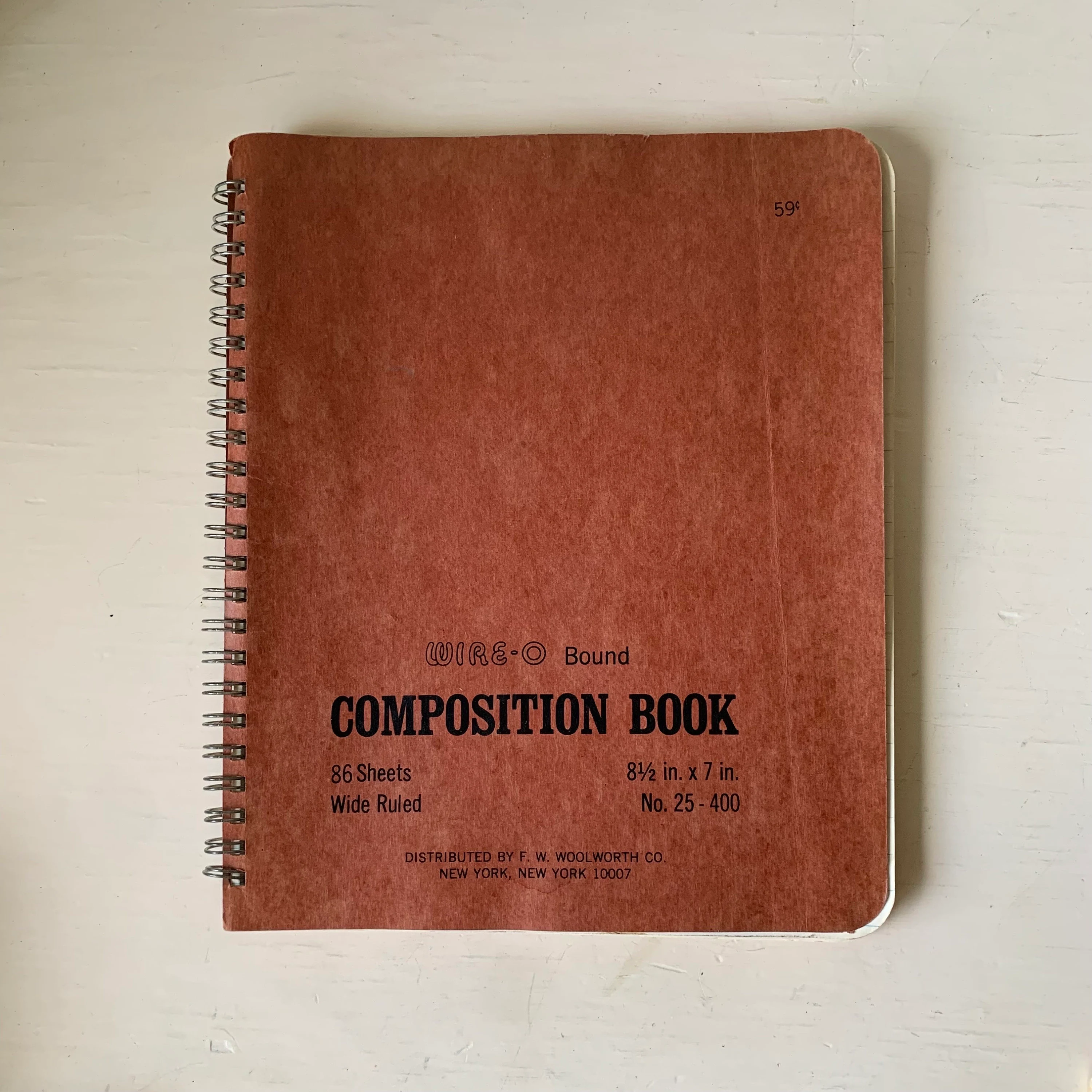
Эдуард Лимонов
Я получаю Вэлфер
(30 сцен)
черновик романа

Я получаю Вэлфер • I got Welfare
Я получаю Вэлфер, живу на иждивении американского государства. Я подонок, отброс общества, очень грязная личность. Третьего дня я ебался с чёрным бродягой на чердачном этаже какого-то здания, куда мы случайно проникли, да к тому же уговаривал его ограбить квартиру. Я педераст, да. Один русский здесь в Нью-Йорке сказал обо мне: «этот маоист и грязный педераст». Безусловно, я грязный педераст.
Когда Андрей — очень воспитанный юноша из Ленинграда, человек из хорошей семьи,— познакомил меня с чистым педерастом — рыжим шестидесяти- с лишним -летним человеком, который любил в первую встречу поил меня водкой и потчевал икрой, а во вторую хвать гладил меня по хую через брюки при всех, я делал вид, что так и надо. И даже старый видавший виды Симон накололся на мне — он сказал: «Мне кажется, он знал мужчин», обращаясь к Андрею. Никого я не знал, ухаживали мужчины за мной всю мою жизнь, я им очень нравился, был я нежный, каким остался и по сию пору, с некоторыми изменениями, видными только мне. Но я никогда не ебался с мужчинами, дальше ухаживаний я не позволял им заходить.
Проходя между часом и 3-мя по Мадисон авеню около, там, где её пересекала 55-я улица, не поленитесь, подымите голову, взгляните вверх на чёрные з верхние этажи чёрного здания отеля «Винслоу». Там на бо на среднем, одном из трёх балконов, этой гостиницы, на 16 этаже, последнем, сижу я. Обычно я ем щи, которые только что изготовил. Щи с кислой капустой, а ложка, которой я это делаю — деревянная и привезена из России. Разукрашенная. Окружающие офисы своими прозрачными стенами — тысячью глаз клерков, секретарш и менеджеров глазеют на меня. Голый человек, едящий щи из кастрюли. Они, впрочем, не знают, что это щи. Видят, что что-то варварское. Баранина, свинина и говядина. Нет, сладкая баранина и говядина — это дешевле, 3 доллара на два раза щи. 1,50 — стоит мясо на щи, самое дешёвое. Американская дешёвка. Я, не стесняясь, жру голый на балконе. Вообще ничего не стесняюсь. Я часто вожусь с голой жопой в своей неглубокой комнатке, и мне плевать, видят меня или не видят. Скорее, я хотел бы, чтоб видели. Они, наверное, ко мне уже привыкли и, может быть, называют меня «этот крейзи напротив».
Комната моя имеет 4 шага в длину и 3 шага в ширину. (Живёт ли ещё так кто-нибудь, не знаю). На стенах висят: 1) большой портрет Мао Дзе Дуна; 2) портрет Патриции Хёрст; 3) моя собственная огромная фотография на фоне икон, кирпичной стены, а я с толстым томом в руках и в пиджаке из 114 кусочков, который сшил сам; 4) портрет Андрэ Брэтона, который вожу с собой уже много лет; 5) призыв защищать гражданские права пидерастов и ещё другие призывы — в том числе призыв голосовать за воркерс партийных кандидатов; картины моего друга В. Бахчаняна, и множество мелких бумажек. Над головой В изголовье кровати у меня плакат «За Вашу и нашу свободу», оставшийся от демонстрации против «N.Y. Times».
Но я забыл представиться, господа. Я начал трепаться, но не объявил Вам, кто я такой. Я забыл, заговорился, простите.
Я получаю Вэлфер. Я изгой, парий, подонок. Я живу на вашем иждивении, Вы платите налоги, а я живу на Ваши налоги, нихуя не делаю, жру, пью (очень часто напиваюсь) и не собираюсь искать работу, о которой Работать физически или ещё в каком другом виде я ненавижу. (Возмутись, Лимонов, выпей кофе и продолжай).
Трёп №2
Я не собираюсь никогда работать. И, кроме того, я люблю революцию.
Опыт биографии
Великий русский поэт и национальный герой Эдуард Вениаминович Лимонов (Савенко) родился в конце первой половины двадцатого века, жил во второй половине двадцатого века, создал свои гениальные шедевры в 60-е и 70-е годы и оказал огромное влияние на всю последующую русскую поэзию.
Всё это трёп, господа, и только трёп, и никакой структуры, одна моя голая речь — мой трёп. И главы условны, как бы я, перерывы и в перерывах я выпиваю банку пива, рюмку водки. Листы молчания, если бы не возражало издательство, я бы их включил в книгу. 40 листов молчания — белых страниц, пока я пью моё пиво. Трёп — это только трёп, сплошное надругательство над профессией писателя.
Мой трёп — это трёп, и он кончается там, где я захотел остановиться.
*
При упоминании о моих счастливых днях меня всего передёргивает. Мне противно, что я был так глуп, что я любил, а меня выебли, вымазали в чужой сперме, скрутили резинкой от трусов, измазали моё стройное и нежное тело пошлостью. Я кривлюсь, вспоминая сосны во дворе её дачи и её в прозрачном ангельском платьице, девочку с выступающим передним неровным зубом. Белочка, глупышка, сучка, вспоминаю вспухшие половые губы в момент последнего свидания, видел её голую в ванной, и иссечённая кожа на спине (мазохистка?), в один из последних дней, я сидел на полу — уговаривал вернуться, жить. Уж нет уж, я не вспоминаю мои счастливые дни, нихуя я не вспоминаю, а как вспомню, то рвать тянет, вроде обожрался я, или ещё что иное желудочное.
*
Разные точки зрения в Союзе и здесь. И нам противно.
*
Нахуй мне тараканы в моей пище. Однако делать нечего, её у меня мало, нужно есть, не выбрасывать же.
*
Я хожу по жарким улицам N.Y. с улыбкой. Улыбка предназначается всем. И истеричной девушке, играющей на муз. инструменте, и чёрным, и белым, и жёлтым — оборванные они и грязные, или же чисто умытые и благоухающие духами. Я иду, покачивая бёдрами. Мои обнажённые руки и груд коричневые и гладенькие. На мне всё белое и мои ног ступни обнажены. Мужчина и женщина — я иду на каблуках. Я вступаю в любой контакт с любым экземпляром человеческой породы, который только проявит интерес и внимание ко мне, скажет мне слово или улыбнётся в ответ. Я пойду с Вами куда угодно. Я пососу Вам хуй, поглажу Вас всего руками, ласково и любовно буду ласкать Ваши половые органы. Я полижу Вам пизду, тихо раздвинув её тонкими ласковыми пальцами. Я добьюсь Вашего оргазма и потом уже выебу Вас сладострастно, медленно и нежно.
Я не хочу работать. Я работаю с Вами. Я послан на эти улицы, я живу на них, я на них — дома. И Вы можете встретить меня и сказать мне: здравствуй, Эд. И я отвечу: здравствуй, сладкий.
Встреча с этим профессором седобородым и очень приятным опять отвернула меня от женщин.
Иногда мне кажется, что я снимаю с них проклятие, когда ласкаю их, что я послан кем-то свыше для этой цели.
Я иду, и вспоминаю строчки Аполлинера: «Шаталась по улицам Кёльна, / Всем доступна и всё же мила». Я начитанный. Густое солнце заливает улицы моего Великого города. Я никуда не спешу. Высокий, черноволосый и элегантный хозяин ювелирного магазина, стоя на пороге приглаш долго провожает меня взглядом. Томительное мгновение. Можно повернуться, подарить улыбку. Можно… Можно…
И дни, как мягкие волны, переваливают через край. Волна за волной. Тёплые. И я просыпаюсь со счастливой улыбкой.
А сейчас я расскажу Вам, как я обосрался. Этого типа я встретил как-то вечером. Я шёл в кино, устав от всех и всего,— просто шёл в кино — никакой революционной деятельности, никакого секса. Шёл по тёплым, продуваемым вечерним ветерком, улицам, тихо думая о чём-то. И вдр сзади меня равномерно топал какой-то человек. Потом поравнялся со мной. Седая борода, высокий, довольно стройный. Что-то говорит. Я переспросил. Поговорили. Немного. Чуть-чуть. Я сказал, что я русский. Он сказал, что он из … Визитор. Хорошо простились у дверей кинотеатра «Плейбой». Я забыл о нём, но встретил его в час 20 дня через день на той же 57-й улице на Исте.
— О, русский,— сказал он. Куда идёшь?
— К моим друзьям. Они должны быть у меня в 2 часа.
— А куда вы идёте? Я ищу мальчиков и девочек.
— А тебе нравятся дев мальчики?
— Да, мне нравятся тоже и мальчики, и девочки. Ду ю ноу гай,— спросил он меня.
— Да,— сказал я.— Конечно.
— Может, мы увидимся когда?— спросил он.
— Я занят сегодня,— сказал я.— Может, завтра,— сказал я.
— Завтра я не могу.
— Может, сандей?— спросил я.
— Не знаю,— сказал он.— Может сегодня вечером.
— Может,— сказал я.— Я дам Вам мой телефон, позвоните сегодня вечером.
У меня был Джорж и революц. француз. Они записывали мои ответы на их вопросы на тейп-рекордер и после ушли. Потом был русский Лёня, усталый и ноющий электрик, бывший узник ГУЛАГа, и ушёл. А дальше я сделал бутерброд с огурцом, луком и ветчиной, налил себе бодро и хотел укусил. Раздался телефонный звонок.
— Хэло,— сказал я.
— Это Бенжамен, — сказал он.
— Я не Бенжамен,— сказал я.
— Я — Бенжамен,— сказал он.
— О, Бенжамен,— сказал я.— Я не занят уже. Ты хочешь встретиться со мной? Давай встретимся на углу 57-й и 5-й av. [авеню].
— Нет,— сказал он.— Я сегодня дома. Гоу ту бед. Приходи.
Я покрылся потом. Грубо. А ресторан, а прелюдия. Что мы — крысы. Может, я подумал не совсем так, но что-то вроде. Гоу ту бед.
— Я не могу сегодня,— сказал я.— Я имею плохое состояние.
Тут мы начали запинаться и запинались некоторое время. Наконец я сказал:
— Хорошо, я подумаю. Если хотите, дайте мне номер телефона. Я позвоню Вам в течение получаса. Позвоню.
*
Утром я шёл по Park av. и считал плиты: сто семь, 108, 109… Какого чёрта, думал я лениво, все они живут — косо отметил столкновение на повороте — живут. Мысли текли вяло. Ничего кроме нескольких мелких мыслишек о хорошо выполненных и окованных мелким железом дырах в тротуаре — символ амер. цивилизации. Фонтаны не работали. Человек сидит и читает газету. Утро уик-энда. Лениво. А я уже сходил и отправил письмо в Париж моему издателю.
— Эдичка, мудак, последняя грязь с нью-йоркских тротуаров, Вы имеете издателя?
— Угу. Это Он издаёт моего «Нац. героя». Великое произведение — памятник великой русской ошибке.
— Чего, отдельной книгой издаёт?
— Нет, не отдельной, к сожалению, нет, моё произведение входит в альманах.
Вот церковь св. Варфоломея. Где-то внутри её среди труб, в некоем углу, загримированном под телестудию, я давал интервью — своё первое телеинтервью на английском языке. Ну, конечно, я читал его по бумажке. Уже как бы пахнет осенью, Вы не находите? Хотя по-прежнему жарко, но изменилась сама природа жары, вы не находите? Жара стала осенней. Парк авеню в воскресенье. И идущий Лимонов на всё способен. Всё могу. Статью лучше любого «их» журналиста. Мог бы быть звездой там — на своей бывшей Родине, да и здесь был бы сейчас. Зам. главного редактора эмигрантской газеты, не Бог весть что, но долларов 300–350 получал бы в неделю, не имей я своих принципов. Правда-правда, я имею книги, подписанные этим человеком — он хорошо ко мне относился, называл лучшим русским журналистом. Одного он во мне не распознал — что я органически неспособен «служить» кому бы то ни было, что я не клерк, не посредственность. А эта газетка всё-таки научила меня уму-разуму. Как я разделался быстренько с русской эмиграцией, изучив её изнутри за полгодика, читая её рукописи, видя её авторов. Исковерканные люди. Феномен. Русские не могут быть полноценными вне родины. Другие нации могут. А эти — нет. Может, и я — нет… Какой я русский…
Вроде всё так прямо, так примитивно. На деле так и есть. Разглядывая свой путь, вижу — всё так. С детских лет отказывался служить, молча, настойчиво, упрямо дитя гнуло свою линию. Хочу идти на реку и иду — пусть дождь, пусть снег — я иду на реку… И дитя шло. Хочу обворовать магазин, ночи не буду спасть, свободой рискну, а обворую. Это при том ещё, что подросток близорукий.
«I love revolution!» — такое название будет иметь книга.
Одни любят деньги, другие — пищу, третьи — женщин, многие — алкоголь или наркотики, а я люблю революцию.
Я откровенно связываю это со своими личными качествами и несчастьями. И эта связь революции с уходом Елены, например, делает мою любовь к революции ещё более обоснованной, преданной и крепкой.
Когда мне становится совсем невмоготу — болит голова и явно хочется ебаться, я обращаюсь к некой Руфь Анне, которая сове безотказна. Она молодая учительница, она живёт вместе со мной в моей комнате. Она не доставляет мне никаких хлопот, и, хотя ебётся с Томом и со многими другими, но я не ревную её и, может быть, даже это доставляет мне наибольшее удовольствие. Особенно нравится мне, когда Том Дженкинс ебёт её и засовывает ей палец в её анальное отверстие. Тут Руфь Анка совершенно превращается в животное, и именно это приносит мне удовлетворение и наступает оргазм. Ну, конечно, Руфь Анна живёт в книге, она мечется по жизни, не зная кому подставить свою, требующую всё новых бесчисленных оргазмов, пизду. Книгу эту я подобрал как-то вечером преспокойно лежащую на мусорном баке — аккуратненькую и будто бы даже нечитанную. Сознаюсь, что часто Руфь Анна утешает меня куда более успешно, чем живые женщины. Она ничего не просит у меня, эта Руфь Анна, я не обязан гладить её или целовать, или делать ей всевозможные приятные вещи. Она не феминистка, не свободная женщина — она удовольствие в чистом виде. Она и этот ёбыный похотливый Том — мои рабы. Руфь Анна… Ох, Руфь Анна… Её ебут все. И доктор при помощи искусственного члена… и другие с членами неискусственными. Мне вспоминается моя жена. Что-то в ней было от Руфь Анны.
Когда семя хлещет наконец мне на живот, я думаю — Боже, как скушен этот мира без любви. Выкарабкавшись из душного мира секса ценою потери некоторого кол-ва белой жидкости, я делаю два шага к умывальнику и мою свой живот. Живот у меня великолепный — чёрный, не натруженный спортом, а маленький и гладкий живот мальчика. И я спокойно думаю о любовных приключениях своей жены. И я способен в этот момент пристрелить самую великолепную красавицу в самой сексуальной позе. Полностью обнажённое тело меня отталкивает, и красавица должна быть кое-как одета…
Господи, какая это всё глупость в сравнении с революцией. Наивная прелесть этого выражения трогает меня.
Я так много времени провожу один, что мысли мои, мой внутренний монолог редко прерывается беседой.
*
…и что ему 15 лет всего. Морозная ночь в феврале. Зияет разбитая витрина. Нас двое. Но внутри магазина на самом опасном месте именно я. Гордыня. Вспоминаются мутно деньги в картонном ящике из-под товаров конфет (хоть первый раз, но эти ухищрения знаем — взрослые воры рассказывали). Не очень много денег. Но много водки — белые ещё по тому времени головки. Кровь из разрезанной руки приятеля — и уходили огородами к реке и дальше — частные около-заводские домики. Ночной стук в окно друга. Распитая на ночь бутылка. Кто где лёг.
Тфу ты чёрт. Вечно давал крепкое слово не вспоминать эту Россию-Украину, прошлое отбросить, как хвост отбрасывает ящерица — помню по опыту детства — ради спасения жизни оставить хвост. Он отброшен, а я на Парк авеню — фланёр, вышедший по солнышку, паразит американского общества — ножкой перебираю. И не заметил, как у церкви св. Варфоломея сел. Цветочки — «наслаждайтесь, но не разрушайте». Наслаждаемся, но и разрушить хочется. Какое же наслаждение — не разрушая. Попы посадили розочек, хуё-моё всякое развели — красоту якобы. Всё мирно. И убивают не всегда свинцом, розами тоже. Редкие прохожие — кто с толстой кучей «N.Y. Times». Милая газетёночка. Четыре часа отстоял у двух дверей — выходной и входной. Демонстрация номер один. Не метод. Устарело. Убедился. Это тебе не СССР. Ножки вытянем. Белые штанины симметрично легли на тротуар, обнажились деревянные босоножки. Ходите, педераст, на таких каблуках? Хожу. Люблю. А тонкие чёрные пальчики из-под ремней. Писатель. И чёлка и…
Вот вроде и сюжет главы «Воскресное утро на Парк-Авеню». Может, так и построить всю книгу.
…густые волосы. И фигурка. И оттопыренная попка. Привлекателен. Не то чтобы красив. Но фигурка уж очень хороша. Да и мордашка.
Идут, немного их сегодня. То девочки лет 50–60, то мальчик с седой бородой. Редко взрослый, как нужно, человек. Что-то с ними со всеми произошло. И я — юноша 30 лет. Что ж с нами такое? Тут я зачем-то механически присоединил себя к «ним». Хорошенькое «мы». Они трудятся, они платят налоги, они выполняют функции. А я сижу, мог бы лежать, только что моя конституция физическая, моего организма, к лежанию не подходит. И водку пил и ругался бы, а то лежал бы. Единственное, что им осталось — это одежда и некоторые по темпераменту сексуальные приключения. Такие люди, как я, и здесь также редки, как и в России. Вот одеваются они и стригутся — можно подумать, художник, писатель — оригинальный человек.
*
Мы искали здесь справедливости. Мы не вдавались в подробности, не сравнивали размеры наших обид, мы летели в мир, где мы можем найти своё место, в мир, где который воздаёт должное уму, таланту и способностям. Ох, как мы влипли! Ох, как влипли! Справедливенький мирок здесь, нечего сказать.
*
Я преклоняюсь пред любовью в её любом виде. Но я ненавижу продажную любовь. Я имею меньше всего имею в виду проституцию. Это не продажа — это работа. Проститутка не обязана чувствовать.
В России это всегда так. Ничего подобного. Продаёт пылесосы, читает только газеты, голосует за пошлую улыбку Картера.
Солнышко-то поддаёт жару. Я встаю и перемещаю своё тело на самый раскалённый кусок. Как многие боятся солнца, так и я боюсь тени. В солнце я влюблён чуть ли не до оргазма. Мой оргазм, твой оргазм, их оргазм. Просклоняем, проспрягаем. Резкие окладки [отстрочки] швы моих джинсов давят мой нежный хуй. Мальчик мой поверни его. Давно потеряв смущение, я лезу рукой в штаны и поворачиваю прохладное и жидкое месиво из яиц, мошонки, хуя, нет в этом случае ни хуя — члена подобнее, и волос. Всем всё равно и мне тоже. Так удобнее. Зачем я учился есть ножом и вилкой — так привык и не могу отучиться, стыдно даже за свою воспитанность — ну её нахуй. И никак не могу научиться жирно смеяться в кинотеатрах. О, этот смех. Вначале я его боялся. Потом он меня раздражал. А дальше я стал завидовать обладателям звериного хохота и считать себя слюнявым интеллигентом.
Тени от высочайших в мире зданий пересекают Парк-Авеню. Синие и глубокие, как тени на Украине, где цветут пышные цветы. Иногда мне кажется, что пахнет куриным помётом. Этот запах возник и сейчас. Боже мой, где тут куры? Ответь, здание св. Варфоломея. Девушка ещё одна. Не так уж красивы, но очень а вот явно модель. О, меня пробирает некоторая дрожь. Мне кажется, что я имею право на всех моделей. Именно потому, что моделью была бывшая моя жена. Хорошая модель, милая модель, пронесло от неё духами. О, как я люблю духи и красивые запахи. Молчаливо приветствую прошедшее её тело. Но нужно сидеть — знать своё место. Я, что я ей могу предложить — себя с сомнительными сейчас мужскими достоинствами, которые, впрочем, никогда не были мужскими, какой из меня Геракл, я, скорее, женоподобный Аполлонический тип. Спать со мной для женщины всё равно, что спать с подругой — дерз порочно, стыдно, интересно. Но какой я мужчина. Где моя густая растительность и жгучие глаза? Модель качается между 53-й и 54-й уже, а что я могу ей предложить. Что, себя. Я не имею денег, чтоб пригласить её в ресторан. Я не имею денег ни на что. Знай своё место — сиди, ты [нрзб. парень?] подонок и поза твоя подоночная, и морда у тебя — морда человека, не знающего куда девать день, и ищущего приключений или развлечений за чужой счёт. Поглядываешь на всех, ждёшь. Морда человека, которому свистят из проезжающих машин. Ты — грязь — не имеешь право даже глядеть на этих девочек. Независимо от того, выбились они в люди или ещё нет — они у этой системе, они никого не раздражают, они приняли ценности этого мира. А ты — дерьмо. Они также готовы подставить себя кому угодно, и так же, как ты, не видят в этом ничего зазорного. Но они — да, а ты — нет. Ты не разрешён. А они разрешены. А почему? А потому. Нехуй рассуждать.
*
Родился мой трёп из шевеления губами и произнесения речей к самому себе в любом месте города.
*
Я всегда был заговорщиком. Этому подтверждение — одиночные летние утра в Централ-парке, когда даже сигарета отдавала динамитом и город, настороженно отдельный почему-то, опасался меня, хотя я ничего не имел, кроме, собственно, готовности влипнуть в первое подвернувшееся приключение, влипнуть глубоко и серьёзно. Я изучал до беспамятства проходящих людей вглядываясь в того, кто сорвёт меня с моего места и перевернёт мою жизнь. Вся жизнь — это встречи и разлуки — «Христос с апостолами», с Марией, с…
«Предисловие?»
Размышления о нужно несправедливости устройства обществ. Я — нужный, полезный, и редкий ничего не получаю за свой труд ни там, ни здесь. А бизнесмен — пожалуйста, получает. Что же этим обществам нужны посредственности, да? Так какого же хуя стыдите Вы меня, что я ничего получаю Вэлфэр?
Вы ещё легко отделываетесь. Мне принадлежит большее. Душа в упадке. Тело захватило мир. Я делаю мой труд — где мои деньги?
*
Мне не было места в том советском мире, ещё в большей степени нет мне места здесь. История очень грязная. Ряд непрерывных обманов, не хочется выглядеть несчастным.
*
Ежедневная реклама по TV.
*
Что ж ты — блядь. Нужно было держать её, не давать поддаваться влиянию. Как же — удержишь тут. У них всё, а у меня ничего. У них блестящие магазины, аквариумы в [нрзб.] аэролиниях [?], роскошные рестораны, глянцевый блеск журналов, у них магазин «Сакса» и «Бонвит и Теллер» [Бонвит Теллер и Ко.]. Что у меня. Я не мог повести её даже в дешёвый китайский ресторанчик. Может, она и понимала почему я не могу. Может быть. Но всё свидетельствует о том, что она клюнула на их приманки. Она захотела этого богатого, блестящего, красивого мира, в котором я, а это она прекрасненько видела женским своим хитреньким умишком, в котором я сейчас никто, и, как она думалает всегда буду никто — хуже бродяги с улицы.
Меня трясёт хроническая злоба — не на неё, нет, что она! Каждое животное (а она животное — то, что я её люблю, заслуга моя, не её) устроено по-своему, и что ж, вольно вытворять что угодно, но я, как поверил я, как построил всю свою жизнь на этом — на любви к ней, как мог — недоверчивый, опасливый — поверить? Уж очень любви хотелось, дамы и господа, — покорнейше прошу прошения.
*
Любимое их выражение: «это твоя проблема».
От выражения веет жутью и равнодушием, не правда ли? Страна сплошных эгоистов. Людей несчастных, не понимающих, как сладко любить кого-то, но не себя.
Рабы денег в то же время и рабы себя самих.
*
К главе «Утро на Парк-Авеню».
Какая-то глупая гордость. Читаю по-английски, узнаю по-английски, что происходит в разных странах мира. Хоть туго, медленно, но и читаю, узнаю — и в Уганде, и в Кении, и в Израиле, и в Ливане, и что делает Леопольд Сенгор — президент Сенегала и поэт, который вместе со мной был напечатан в одном номере австрийского журнала покойным его редактором Фидерманом. Я хочу написать ему письмо — может, он пригласит меня. Хотя что ему — чёрному Марку Аврелию — до меня, но, может быть, и пригласит. Тогда я поеду в Сенегал. Наскребу, займу денег на билет, и поеду. Это не пустая мечта, пустых мечтаний у меня не бывает. Я буду жить в зелёном городе у президента и читать ему стихи. Что ещё лучше может придумать воображение поэта? Накрытый хрустальной скатертью белый стол в саду и колышется африканская весна в ветвях окружающих деревьев. Рюмки на столе, руки, стихи. И я бы даже легко умер в этот момент, если бы враждующиеебные оппозиционные партии вдруг совершили бы нападение на резиденцию президента и вооружённые люди вдруг прервали бы наши занятия. Я бы обязательно совершил бы какой-то театральный жест. Презирая жизнь и смерть, я бы закрыл собой президента, и пуля попала бы мне в переносицу там, где у меня всегда натирали очки (дужка очков), красное пятно. Вот туда. И брызнула бы густая кровь. И быстро закапала бы скатерть. Было бы красиво-красное на белом. А часть крови попала бы в холодный, только что наполненный бокал с белым вином, и оно бы быстро мутнело, взаимообнимаясь с кровью.
Всё это, конечно, очень театрально, но я почти не сомневаюсь, что поступил бы именно так. В крайнем случае я сделал бы над собой усилие, заставил бы себя, и поступил бы именно так.
И я вполне могу написать письмо Леопольду Сенгору. А хули?
«Дорогой г-н президент! П
*
Богатые фильмы — о
*
К главе «Сюзанна»
Я хочу настоящего равноправия. Мне надоела эта старая и нудная игра с распределёнными ролями: мужчина проявляет инициативу — женщина отдаётся. Или отвечает взаимностью. Мне скучно это. Я хочу внезапных ласк, странных женских подходов и решений. Короче говоря, мне усталому путнику часто хочется, что б мне, не говоря ни слова или говоря сладкие слова, залезли в брюки. Возбудили ласками член и сели на него. Вместо этого я должен представлять пылкого возлюбленного и проделывать все эти гнусные и пошлые манипуляции вплоть до снимания с неё трусов.
Всегда зацепляется её нога. Особенно бережливые снимают в начале туфли. Вообще для меня их процесс раздевания нелеп и уродлив. Ещё ужасны женщины, когда они в неловком положении — когда они падают.
Ой, если женщина ещё при этом для приличия (ради сохранения традиции) говорит «не надо» — мне вырвать хочется сейчас, и совсем перестал.
И почему я не ебу так часто Сюзанну, потому что она ужасную имеет привычку говорить во время акта по-русски. Я ненавижу её за это, несмотря на её сладкую пизду, сочную, спелую пизду, готов задушить, мне кажется, что я не в постели, а в убогом помещении русской газеты. «Ты кончил» — говорит она с акцентом и с тонким последним и зву, и незримая ледяная рука сжимает мой хуй — и он опадает, вянет, мой бедный пылкий цветок — когда-то моя гордость и часто моя беда. Я не могу — ничего не могу — совсем не могу, и не хочу.
Я не испытываю к ней даже злобы — к бедной издёрганной женщине. Ну, если она жадная — виновата ли она — она родилась в этом мире, где бездумных [бездушных?] чертей из детей не воспитывают, и то, что пристало грузинам и русским, едва ли нужно девушке из еврейской семьи, выехавшей из Германии. Не жадная — бережливая, даже в своей болезни. В нашем городке мы все откуда-то выехали.
*
Между 26-й и 27-й стрит
7 ав. Fe
Фешен институт технологиси
Сэкэнд флор
Editorial 3 ч.
*
Я ебу её, но не могу забыть, что она даёт мне плохое вино, хотя рядом лежит хорошее — только на виду пять бутылок: французское и испанское. А ведь вообще-то правильно — что же плохому вину пропадать? Она не может бороться с собой — она спрашивает: «Что, плохое вино?», но, однако, даёт. Бедная — мне её жалко — какие душевные муки! Я не доставляю ей много мук. Раньше она предлагала мне есть. Я всегда за исключением 2–3 раз отказывался. Еда её не насыщает меня. В этом часто причина, что я уезжал от неё домой. Не мог же я сказать ей, что мне мало двух и даже трех сосисок, что я это и за еду не считаю. Я перестал есть у неё дома и она больше мне не предлагает, хотя порой что-то жарит парит в моём присутствии.
Но я тоже хорош. Почему я не могу отделить еблю и её сладкую пизду от её жадности. От её крысино-затравленного выражения лица. Не могу отделить. А как отделишь — когда в первую пьяную ночь — я себя не оправдываю — я вёл себя по-свински, но она же спала со мной, хоть и очень был я пьяный и хуй мой вдруг не повиновался — сгибался, кренился и падал. Перед этим лежал я без сознания. Я не хорош, я обнимал китаянку, потому что моему подсознанию она понравилась. Так вот после первой той ночи (она просыпается в 6 часов или чуть позже) она с истерикой у засыпающего на ходу человека вырвала согласие убирать её квартиру. Правда, тут уж больше сумасшествия, чем расчётливости. Но оригинальное сочетание, не правда ли? Вместо, чтобы лежать, спать, просыпаться и любить друг друга, мы, покачиваясь от усталости, встали и, ненавидя друг друга, полдня обретали и к вечеру наконец обрели утраченное равновесие. О эта, вывезенная из Германии, любовь к порядку.
*
Она не взяла мой хуй в рот. Я мог бы её заставить, но я не хочу ничего вынужденного.
*
Почти бессознательно. Любимое выражение «Идите Вы все нахуй». В комнате, в одиночестве хорошо звучит, а? «Идите Вы все нахуй!» Хорошо. Очень хорошо.
*
Уж если говорить серьёзно, то русскому человеку приличнее быть агентом КГБ, чем CIA, это хотя бы твоя страна и твоя нация.
*
Постепенное разрушение домов внизу напротив.
*
Страшно читать записную книжку из России. Ох!
*
Русские люди милы в своей стране, и совершенно беспомощны и бездарны в ином мире.
*
Для меня, который испорчен любовью, уже нет места в мире. Какой секс, какая ебля, ведь я знал любовь — моё тело, моё бедное тело. У них тут выходят фильмы о том, что падает власть мужчины. Я никогда не был мужчиной, и никакой властью над Еленой не имел. И преобладание тоже. Скорее она надо мной имела — преобладание.
*
Во всем виновата интеллигенция. Сущность национальных столкновений не в подлинно национальном чувстве, а в том, что интеллигенция нац-ых меньшинств, созрев, не может идти в государство и выбирает иной путь — пу
Если бы государства были умнее, они и их секретные службы вылавливали и следили за людьми, не чтоб их уничтожить или обезвредить, а чтобы пригласить, включить в государство.
Я тоже часть этой не включённый интеллигенции. Я безработный главнокомандующий, я безработный президент и я ищу работу, и я её найду, как нашёл её Кастро, как нашли её в Африке и во Вьетнаме.
*
Я животное, которое может жить только в джунглях большого города, в широко развитом и распространённом обществе.
*
| Нахожу удовольствие | Не нахожу удовольствие |
| В еде. Мне все равно что есть В пиздеже на мелкие темы |
Сана
Как-то явившись я явился на парти к единственному человеку, который всё ещё приглашал меня к фотографу и мудиле гороховому, к мальчишке и фантазёру Сашке Бородулину — он живёт в полутёмной большой мастерской на 58-й улице и из кожи вон лезет, чтобы удержаться в ней и платить свои 300 долларов в месяц.
Пришёл я по глупой своей привычке — очень странной у русского человека — точно и вот, конечно, никого ещё не было, и я глупо слонялся в своей кружевной рубашке, белых брюках, и бархатном лиловом пиджаке, и белом жилете.
Очумев среди работающих, переставляющих, открывающих, проводящих Сашкиных друзей и ничего не хотел делать. От скуки я ушёл — сходил за сигаретами, наблюдал, как меркнет небо на улицах, повдыхал запах зелени, был май, недалеко был Централ-Парк, и вернулся. Помощники ушли переодеваться и был только Сашка ушедший вскоре в ванную и девушка маленького роста с очен с пышными волосами и странно манерным разговором — каким-то затянутым или чересчур быстрым произношением.
Я меня всегда коллекционировал притягивали странные уродливые экземпляры. Так в мою жизнь вошла Сана.
Весь вечер мы пробыли вместе, я пил вино y познакомил её с, являвшимися поочерёдно, моими друзьями. Среди них был Жан — бывший любовник моей жены, и Сюзанна — её любовница. Сама легкокрылая Елена, мелькнув шляпкой, улетела в Милан и пребывает там, блистая опереньем.
Я был ещё в лучшем состоянии и она Сана была первая женщина, с которой я захотел зачем-то сойтись. До этого были какие-то лунатические встречи в дыму выпитого, какие-то парти, женщины из Австралии и женщины из Италии маячили, крутили лицами, что-то рассказывали о кенгуру и современной живописи, отступали, исчезали, но я всегда был пьян и к тому же слишком кокетлив, чтобы не казаться педерастом. Память, жестоко оскорблённая Еленой, отвергала женщин, отталкивала их, и просыпался я неизменно один, и сомневаюсь, мог ли я тогда выебать женщину и вообще иметь с ней интимные отношения. И хотел ли я этого. Или считал, что Сана меня не испугала. Она сама боялась решительно всего.
*
Девушку из Одессы (чего она очень стеснялась), шокировали эти представления. «Это Жан, бывший любовник моей жены». «Это Сюзанна — её любовница — пьяная, но хорошо пахнущая, Сюзанна целует меня три раза с почти родственными чувствами.
Я же не равнодушен, но Сюзанну жалею, а Жана презираю, что даёт мне силы относиться к ним спокойно. Знакомя же эту маленькую еврейскую мещаночку с этими моими людьми — «родственниками», я знаю, что, по сути, они мало чем отличаются, и всё же я наношу ей удар, даю урок испорченности (московской) и странности (тоже столичной). Вот какие мы извращенцы в нашей России были и тут. Как бы говорю я, ну, что делать, участвую в плебейской игре. Но раз она как-то интересует меня — эта Соня, я использую мелкие возможности обычного московского ещё обольщения. Жан и Сюзанна — раз, значит, я испорченный, ненавязчиво говорю о своих публикациях в переводах в нескольких странах мира (ненавязчиво) и два, и три и четыре те о своих связях с мужчинами. Ничего, переварит. И потому что на неё в этот вечер так много свалилось, она уходит очень рано в 11 часов, чего с ней никогда не было. Ей нужно думать, пусть едет и думает. Я провожаю до автобуса. И говорю, что она мне нравится.
В этот вечер мне предстоит ещё вялая попытка к сближению с подругой-лесбиянкой «родственницей» Сюзанной, первая и последняя. Я делаю это из озорства. Пьяная Сюзанна весь вечер пристаёт к голубоглазой Жанетте, тоже русской. Мисс Гарсия питает любовь к русским девушкам. Гарсия то же что Иванова. А Сюзанна соответствует Людке. Людка Иванова. Питает. Она обнимает Жанну, лезет к ей под юбку. Я и Андрей устраиваем шутовской танец педерастов, хотя ни он, ни я не питаем друг к другу подобных чувств. Андрей хоть и дылда, но совсем мальчик. Я вижу, что он растерян этими всенародными покушениями Сюзанны на его Жанетту и не знает, что делать. Он мог бы и заплакать. Жанетта много старше его, но она, мне кажется, она испытывает удовольствие от прикосновений Мисс Гарсия — Люды Ивановой.
Потом перекрыт [перерыв?]. И уже никого нет, и я в квартире Сюзанны сижу на той самой кровати, где сделана фотография с лежащих в обнимку Елены и Сюзанны. Сижу, жду, а в ванной неудержимо блюёт Мисс Гарсия. О господи, что за невезение. Я считал, чисто символически бы было выебать Сюзанну на этой самой кровати. Позже входит она, бледная и искривлённая мукой блевотины. Старое лицо, нелегко смотреть на неё — стёрта краска. Всё пусто и вечер кончен и обгорели огни и мне её очень жалко. У меня есть ещё искусство, а что у неё? Проходит её бабье короткое удовольствие. Она показывает мне — на стене фотография Елены как в рамке. Елены для неё свет в окне. Конечно, если бы не культурный шок, если бы не слепота Елены, нихуя не понимающей в новой жизни, в новых сословиях и группах людей, честной труженице Сюзанне никогда бы не видеть редкой пташки Еленочки. Но её опять искривляет судорога блевотины. И я ухожу, что ещё делать. Но она никогда уже не будет мне врагом. И я со стыдом вспоминаю, как я когда-то в марте пытался открыть дверь её дома и поджечь её. «Мерзкое гнездо!» — думал я, ругаясь. В тот вечер я сломал каблук. Теперь Отныне она никогда не будет мне врагом. И будет не интересна.
Сана. Второй раз мы встретились по телеф. звонку, и я пригласил её на день рождения моего друга Вагрича, художника и модерниста, и ещё, и ещё. Сейчас — тихого человека, не знающего языка, закопавшегося в формальные поиски под покровительством и водительством злой мудрой маленькой жены, говорящей блестяще по-английски и работающей в фирме по изготовлению шарфиков. Мы прошли вместе — они и я — длинный путь, мы часто ругаемся, они не понимают меня, они но мы друзья. Короче, мы приехали я взял припасённую заранее, купленную за 10 долларов, бутылку сов. шампанского и там были гости — всех их перечислять нет смысла, хотя каждый из них в какой-то мере входит в мою жизнь и её составляет. Сана говорила всякую хуйню — я пропускал это мимо ушей, у меня было хорошее настроение, я нравился себе, мне говорили комплименты, было много напитков, прост от общества я всегда удивляюсь, мне приятно, я мужчина публичный, как говорил Пушкин. «Пушкин, Пушкин тот самый Пушкин, который жил до меня» — как написал Александр Введенский, поэт-модернист 30-х годов, гениальная личность родом из Харькова, как и я.
После, уйдя от них, я предложил или она, я не помню, пойти по кабакам и барам. Деньги какие-то у меня были, и мы пошли. Мы пили водку с поляком в баре на Исте, я переодел белый пиджак вместо лилового в 3 часа ночи у меня в отеле, и мы пошли на Вест на 8-ую авеню, которую я так хорошо знаю, и я показывал ей проституток, а потом стащил с неё трусы прямо на улице и начал её мастурбировать и целовать в это место. Она глупо и манерно изгибалась и не могла кончить, и говорила «Эдик, Эдик — что ты делаешь?» Я терпеть не могу, когда меня называют Эдиком. Что я делаю — ничего — хорошо тебе сделаю — приятно делаю — вот из тебя потекло. Она стояла со спущенными брюками и штанами [?] — я, рассердившись, одел это на неё и потащил её дальше. Светало и мы захотели есть. И я пос почти везде было закрыто. Я постучался в одно угловое заведение и подмигнул чёрному парню, тот открыл двери и впустил нас. Я заказал нам по порции мяса с картофелем. Стоило это 10 долларов. Она сидела напротив меня, и я уже начал трезветь, и всё начинало злить меня. Я сказал — «пойдём ко мне». «Не могу» — сказала она — «я люблю Аркадия». Аркадий был из тех парней, что помогали Сашке. «Какое мне дело кого ты любишь» — сказал я — «люби Аркадия, ещё кого-то, но пойдём ко мне». Она молчала и лопала своё мясо и картошку, хотя до того говорила, что не хочет. Чёрный парень принёс напитки. Он был очень симпатичный и улыбался мне — я явно ему нравился — полупьяный в чёрной кружевной рубашке и белом изящном костюме, с жилеткой, с тёмной кожей и в туфлях на каблуках. Их стиль. Он поставил стаканы, и я поглядываю на эту сжавшуюся дурочку — погладил его руку. Он улыбнулся и ушёл. «Идём отсюда» — сказала она. «Идём» — сказал я и мы пошли. Я отдал парню деньги и тот проводил меня понимающей улыбкой. Мы плелись по 9-авеню, уже развозили газеты и люди ранних профессий шествовали на работу, девочек уже не было. «Идём быстрее» — сказала она — «я хочу в туалет». Никогда не видьте женщин в такие минуты. Нет ничего противнее, тем более женщин степенных и закомплексованных. «Чего ж ты не сказала раньше, почему не сходила там?» Мы ещё довольно сносно пробежали на рысях всю 42-ю улицу, между 8-й и Бродвеем. Но дальше она, скособочив лицо, неслась и тыкалась в каждую подворотню. «Она нихуя не может, даже поссать» — подумал я. Она не хотела присесть в тёмном пустом коридоре сабвея, куда я её затаскивал. Она осатанела, моча ударила её в голову наконец (это было там, где моя голубушка Елена состояла в первом агентстве), Бродвей 1457 — рядом я увидел открытую дверь, вошёл, втащил её — там был какой-то ремонт. «Давай» — сказал я — «я постою, подожду за дверью», и вышел.
Я уже довольно долго ожидал её и стал думать, что с ней что-то случилось. Я уже прогуливался от падающих неподалёку вод до этой злополучной двери, а её всё не было. Теряясь в догадках, она могла сделать что угодно, я открыл дверь. Она сидела на лестнице закрыв глаза руками. Я сказал — «идём, какого чёрта ты стоишь тут?»
«Мне стыдно» — сказала она, не отрывая рук. «Дура, идём» — сказал я. Эх, дура, разве естественное может быть позорным. Она не шла. Я потянул её за руку. Она противилась. Я стал ругаться. На этот небольшой шум из глубины из какой-то двери вышел человек
Там, где она делала любовь
Я попал туда без него. Без Жака-Мари я попал к нему в мастерскую. В это болезненное для меня место, где Елена впервые мне изменила, откуда это началось. Куда я безуспешно несколько раз пытался проникнуть. Где я лежал и выл беззвучно перед этой дверью, где впервые сломалось моё «я всё могу», против нелюбви и хаоса я был бессилен. И страшно было испытывать бессилия даже один раз.
Опять Андрей. Он живёт то здесь, то там, как придётся. Своей квартиры у этого молодого бездельника нет. Поэтому, когда Жан-Мари уехал, в Париж, то он оставил Андрея пожить в его мастерской, то ли за деньги, то ли просто так, без денег, не знаю. Я испытываю к молодому негодяю какое-то подобие отцовской любви. В этом есть доля. И вот в один хмурый дождливый день я явился туда выпивать в джинсовой тройке — брюки, жилет, галстук, чёрный платок на шее, зонтик в руках. Было 6-е июля. Ровно пять лет назад я познакомился с Е.
В этом эпизоде Трое действующих лиц — я, Андрей и некто Слава-Дэвид, знаменитый для меня тем, что он после меня уже жил в нашей с Еленой квартире в Москве (как это произошло — долго рассказывать). Теперь он жил вместе с Андреем в квартире бывшего любовника моей жены — мутноглазого француза Жан-Мари.
Я сразу же понял, что в Славе-Дэвиде есть что-то мистическое, хотя выглядит он довольно обыкновенно.
Я покричал, как обещал, внизу, и Андрей спустился открыть мне дверь. Без помощи в этот дом не попасть. Мы ехали в лифте и попали в помещение совсем не так, как я представлял в своих больных попытках попасть туда. Та дверь, в которую я пытался открыть с лестницы, была вела в общий для двух мастерских коридор возле лифта, а вовсе не сразу в мастерскую Жана-Мари, как я думал. Это повергло меня в уныние.
Войдя, я увидел большое и белое помещение со столбами-колоннами. В одной его части был ещё огромный кабинет и огромная мастерская, там в углу стояла кровать, и там обычно спал Слава-Дэвид. Для меня — ложе, где всё происходило, а в другой — кухня и как зал.
Ветерок раздувал лёгкие шторки на окнах. Всё было чисто, больших размеров, оборудовано до мелочей и вовсе не походило на жилище бедного художника, про которого она мне говорила. В одном углу этого зала стоял диван и круглый стол, а вокруг кресла. Я подошёл к колоннам и внимательно рассмотрел их. Где-то здесь должен быть след от верёвок, которыми она привязывала мутноглазого владельца, била его, и потом выебла резиновым хуем в анальное отверстие. Дурочка, потаскушка, она сама мне это рассказала, когда я ещё был её мужем. Ей хотелось, очень хотелось жить на уровне тех сексуальных фильмов, которые она видела. Она всё принимала за чистую монету, глупая долговязая девочка с Фрунзенской набережной в Москве. Москвичка. Однако сколько удовольствия она доставляет своим любовникам. Провинциальное желание превзойти всех. Стать самой-самой. Впрочем, я такой же.
При всех дальнейших моих передвижениях присутствовал и Слава-Дэвид, а потом и Андрей. Потому